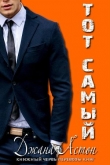Текст книги "Не в счет (СИ)"
Автор книги: Регина Рауэр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
3 минуты до…
Тик.
И так.
А ещё… тук-тук.
Стучит, пытаясь вырваться и пробиться сквозь рёбра, сердце. Оно грохочет, закладывая уши, так заполошно и взволнованно, так горячо и быстро. И в пальцы этот сумасшедший отстук уходит холодной дрожью. Он наполняет свинцовой тяжестью ноги, что невозможно чужими и ватными становятся.
Они не слушаются.
И кажется, что я всё же упаду.
Не смогу.
У меня не выйдет сделать ещё хотя бы шаг, сохранить улыбку, услышать и впопад ответить всем и сразу, кому-то конкретно. У меня не получится уверенно и спокойно сказать заветное в день свадьбы «да» и Гарину кольцо надеть.
Я не могу.
Я волнуюсь.
И боюсь.
И разобрать чего больше, от чего сильнее бьется сердце я опять не могу. Я только говорю себе, что и страшнее было, а тут ещё ничего, не последняя пересдача патологической анатомии, на которой трясло куда ощутимей.
И не холл института Отта, в котором нескончаемые часы ожидания тянулись. Не зимняя трасса и Измайлов возле горящей машины. Не оперативное отделение, морозно-кафельные стены и дребезжащая каталка.
Там было хуже.
А сейчас… сейчас я должна взять себя в руки. Я обязана выдохнуть и лицо, чтоб никто и ничего не заметил, удержать. Хотя бы это – чёрт бы всё побрал! – я как раз могу сделать. Это, в конце концов, я умею делать превосходно.
А потому выдохнуть я себя заставляю.
Я кручу, ловя взгляд и улыбаясь маме, головой. Касаюсь щекой случайно и мимолетно плеча Савы, и его пальцы, что в противовес моим горячи, я сжимаю.
– В Индии жениться будешь сам с собой, – я шепчу едва слышно и вредно, только для него. – Я такие смертельные номера дважды не исполняю, Гарин.
Я просто не переживу ещё раз столь помпезную и важную церемонию, толпу родных, знакомых и даже незнакомых личностей.
И нервы мои тоже.
Они и так шестью годами меда ой как потрёпаны.
– Отрадно слышать, что второй раз замуж ты выходить не собираешься, – он, окидывая оценивающим взглядом, отзывается самодовольно.
Чуть иронично.
И прищуривается так, что пнуть, мстя за нервы и волнение, мысль появляется. Кто встал на сторону обеих мам и Аурелии Романовны, требующих приличной и нормальной свадьбы, я помню хорошо.
Могли ведь просто расписаться.
Сэкономить опять же.
И… и, пожалуй, именно на этой, меркантильно-жадной и тоскливой, мысли я осознаю, что спокойна, как удав. Исчезают куда-то все переживания, сомнения и страхи, всё волнение, которого и пять минут назад с избытком было.
Их больше нет.
Они не чувствуются.
А я… я смотрю в глаза Гарина.
И сказать что-то ему я, наверное, должна. Мне следует выдать какую-нибудь незначащую ничего бессмыслицу или, быть может, сокровенные слова про любовь. Располагает ситуация и та минута, которая у нас ещё есть.
Она бежит – так-так – долгую вечность.
А я вот молчу, не говорю ничего.
Я лишь считаю про себя.
Тик.
И так.
Открываются неспешно-медленно двери. И видно уже торжественно-строгий зал и искрящий от света мраморно-белый узорчатый пол.
От него кружится голова.
Так.
И тик.
Громоздится где-то там, далеко-далеко, стол, который, выбирая зал, я уже видела и ещё тогда, месяц назад, тумбой его мысленно обозвала. И с регистратором, что теперь в светлом платье, а не брючном костюме, я ещё тогда, в начале октября, познакомилась.
Месяц этот пролетел незаметно.
Стремительно.
Тик-так.
Мы ведь только что – совсем недавно, один взмах ресниц, один вдох! – заходили сюда, заезжали после моей пары и в обеденный перерыв Гарина, подавали заявление. И вон за той колонной меня украдкой целовали, шептали неприлично-заманчивое обещание.
Теперь же… заиграет музыка, зазвучит извечный марш.
Через минуту.
Одну.
…тик-так…
Мы пойдем мимо всех, прошагаем к белоснежному столу, над которым герб золотой сверкает. И там, слушая регистратора, сказать то, что будет не по сценарию, я уже не успею. Я только буду стоять и слушать.
А потому…
– Алина!
…тик-так…
Меня дёргает Ивницкая.
Она выдирает из будущего, которое перед глазами я вижу так отчетливо, прорисовываю тщательно, не забывая ни единой мелочи. Я представляю, как мама будет стоять рядом с Адмиралом и, отрываясь от нас, бросать быстрые проверяющие взгляды на Лёшку, что на руки к любимому папе уже забрался. Он же, папа, протянет украдкой маме платок где-то ближе к середине, а она незаметно вытрет глаза.
И с Женькой так, что будет понятно только им, мама переглянется.
А Аурелия Романовна убьет взглядом кого-нибудь из гостей, кто важностью момента, по её мнению, недостаточно проникнется и шептаться станет. И гостями этими, гарантирую, Полька с Тёмой, окажутся.
– Алин…
От Гарина Ивницкая меня тоже отдирает, тянет к знакомой колонне.
Она улыбается, оглядываясь на Саву, милой и хищной акулой:
– Я только на секунду.
– Благословить, – это, делая за ней шаг, фыркаю я.
– И это тоже, – смутить Польку невозможно, – хотя больше хочется спросить.
Последнее она добавляет взвинченным и сердитым шипением. Оглядывается, проверяя, что в сторону ото всех мы отошли и услышать нас никто не может. Не прислушивается, отвечая Егору и смеясь, Гарин.
И минута, давая время на вопросы и ответы, на лишние шаги, всё тянется.
…тик-так…
Сколько ещё секунд в этом счёте?
– Что?
– Ты… ты его не пригласила, да? Глеб не придет?
У Польки странная интонация.
Непривычный голос, в котором для меня звучит и растерянность, и удивление, и горькое облегчение. В её голосе запоздалое понимание, чем мой визит к Измайлову закончился. До чего вчерашней ночью мы договорились.
И что решила я.
– Да, – я, выдерживая её взгляд, всё же отвечаю.
Я выговариваю то, что сейчас вдруг так… неожиданно сложно и трудно сказать. И горло, заставляя выталкивать каждое слово, невидимой удавкой перехватывает. Печет глаза, но… взгляд от Ивницкой я так и не отвожу.
Я только заканчиваю сухим и мёртвым, не моим, голосом:
– Я сказала ему не приходить.
Я не позвала его, пусть мы и дружим.
Всё ещё дружим.
Но… вот так, без Глеба, будет лучше.
– Для торжественной регистрации брака в зал приглашаются Савелий Игнатьевич Гарин и Алина Константиновна Калинина…
Тик-так.
* * *
Эта левитановская, такая красочная и сухая, осень походила на песок, который сквозь пальцы неумолимо-незаметно ускользал. Он летел беспощадным временем. А я всё одно пыталась его поймать, запомнить каждый день, что никогда не повторится.
Не будет больше, ещё одного, осеннего семестра.
Пар по госпиталке[1] у Грозового, что, оправдывая фамилию, смотрел и трубил грозно. Он держал без перерывов до двух часов, а мы, витая в далёких от кардиологии облаках, созерцали золотые берёзы за окном. И зимней сессией – вы там навыки на пациентах сдавать будете, шестой курс! – нам угрожали в последний раз.
Последний год, последняя сессия.
Внезапное понимание, что абсолютно всё в последний раз, оно не случится вновь. Следующей осенью кто-то будет уже работать, кто-то учиться, но… в ординатуре – это другое и с другими. В нашем же составе в следующем сентябре мы уже не встретимся.
Всё.
Шесть лет пролетело незаметно.
И поверить в это было сложно, почти невозможно. Мы ведь только что, практически вчера, судили на истории Ваньку-Артёма Грозного в шубе деда Мороза, не спали из-за пресловутого цикла Кребса – кто его теперь помнил, а? – и костерили на фарме Тоху.
Впрочем, Антон Михайлович, обрадовавшись как родным и заранее передав пламенный привет, опять замаячил на нашем горизонте в эту осень. Он появился, вызывая внезапную ностальгию, щемящую грусть и широкую, как и у него, улыбку, на клинической фармакологии.
Но если по порядку, то…
…к Гарину, во вторую хирургию, на следующий день я вновь пришла.
И ещё через день.
Я, кажется, проверяла на прочность собственное везение и оттачивала ледяное спокойствие, с которым мешались дерзость и затолкнутый поглубже страх. Я не думала старательно, что будет, если кто-то поймает и вопрос, чего я тут делаю, душевно задаст.
Не сочинялись на подобные вопросы правдоподобные ответы, но… я не могла, находясь так близко, в этой же больнице, не приходить к Гарину. Мне было бы недостаточно просто звонков или сообщений.
Мне надо было его увидеть.
Узнать банально про дела.
И… помолчать, потому что говорить у нас обоих получалось как-то вот не очень, односложно и формально. Он не спрашивал, что за август надумала и решила я. Я не интересовалась, как этот месяц жил он.
А потому у нас была тишина.
Та, что одна на двоих и вполне себе уютная. Или удивительно-поразительно уютная, раз столько всего несказанного и незаданного мы друг к другу имели.
У нас был целый час моего перерыва.
И ещё апельсины, которые, гордо объявив что так положено, притащила Маруся. О том, что в хирургии и после аппендэктомии цитрусовые жрать как раз не положено, я занудствовать не стала. Не потребовалось, ибо у Гарина здравого смысла и понимания больничных диет было побольше.
И сказочно-оранжевые шары он скармливал мне.
Очищал сосредоточенно, пока у окна, облюбовав его ещё в первый день, я стояла. Или писала, садясь около кровати, лекции по гинекологии, которые в последний день цикла для получения зачёта по традиции следовало сдать.
Эта тетрадь с лекциями тоже была прощальной.
И, может, поэтому злиться, как раньше, на идиотское требование кафедры не выходило.
– Ты пишешь, сложившись буквой зю, – это мне сказали на третий день и на пятьдесят восьмом слайде очередной лекции, которую к концу перерыва я дописать как раз планировала. – Удобно?
– Привычно, – я, перенимая его интонацию, хмыкнула иронично.
Оторвала взгляд от экрана телефона, с которого уже двенадцатая лекция бодренько переписывалась.
Ещё семь штук, и свободным человеком я быть могла. И должна была им быть к утру, ибо гинекология к своему концу подошла незаметно.
– У нас завтра последний день цикла, потом фарма начнется, – я, прикидывая хватит ли шести листов или ещё одну-две страницы написать, пояснила машинально. – Сегодня дописываю, завтра сдаю. Лекции, историю и задачи. Кстати, надо подняться и посмотреть в иб ход операции. Если так и не сделали, то придется самой сочинять.
– Меня завтра выпишут.
– Хорошо, – я отозвалась ёмко.
После паузы, за которую осечься и закрыть тетрадь успела.
Я посмотрела на Гарина, что взглядом, поймав мой, практически гипнотизировал. Он напоминал мудрого и опасного Каа, рядом с которым глупой обезьяной я себя чувствовала. И край тетради, чтобы скрыть дрогнувшие пальцы, пришлось сжать.
– Ты… вернешься домой?
Домом, нашим домом, то зля, то веселя, он упрямо называл свою квартиру. Он игнорировал тот факт, что своя квартира у меня есть, у меня имеется даже несколько квартир и домов! Он звал, отбривая все возмущения и протесты, мою квартиру перевалочным пунктом, как однажды при нём я неосторожно сказала.
Это было наше с Енькой определение.
Личное.
И пользовать его было запрещенным приёмом, но Гарин вот без зазрения всякой совести использовал. Припоминал мне же мои слова, на которые возразить что-то было сложно, как и объяснить, почему его квартиру я домом считать не хочу.
Почему-почему…
…Может, потому, что наш дом – это не пустые слова? И ещё потому, что наш дом – это в край и за грань серьёзно? Или, может, потому, что наш дом – это ещё один, следующий после знакомства с родителями, шаг к загсу?
Что именно серьёзного я углядела в «нашем доме», Гарин не понимал или не хотел понимать. А я не могла нормально объяснить, только отбрыкивалась и морщилась, шипела протестующе временами и иронизировала под настроение.
Хотя… тройку дурацких кошек-подушек в – его, не мою! – квартиру я прикупить за это время успела. Я гордилась их веселенькой «вырви глаз» расцветкой, при виде которой Гарин каждый раз страдальчески кривился. Я притащила пару вязаных старомодных салфеток, что, по моему железобетонному мнению, дом всегда «одомашнивали». И магниты с холодильника, на которые ему было плевать, а меня подбешивали, я во время одной из уборок убрала.
И… и раз так, то спросили меня, пожалуй, правда, про дом.
Наш.
В чужих ведь, можно признать, себе такого никто не позволяет.
– А ты не спросишь, что я решила?
– Ты же пришла, – плечом, поддаваясь ко мне и напрягаясь, Гарин повел неопределенно, нахмурился, вглядываясь в моё лицо. – Или что, сейчас жест милосердия к больным и раненым?
– Дурак, да?
Это было, пожалуй, даже обидно.
Только вот обидеться основательно и с размахом мне времени не дали. И за запястье, не давая встать, меня ухватили, потянули к себе. Так, что на край кровати не удержавшись я рухнула, успела лишь руку выдернуть, выставить их и в подушку, по обе стороны от его головы, упереться.
Я оказалась нос к носу с Гариным, и мыслить связанно, говорить, находясь так близко, было слишком трудно.
Нереально.
Стучало и в голове, и в груди, что за эти дни меня ни разу не поцеловали.
И я его тоже.
И… хорошо это было. И исправлять ситуацию, целовать сейчас не следовало. Иначе остановиться не вышло бы, забылось бы, где мы находимся и почему нельзя. Из моей головы выветрилось бы всё, кроме жара сильного и такого знакомого тела подо мной, а потому первое или последнее пришедшее на ум я брякнула:
– Гарин, я на постель пациентов никогда не сажусь!
– А я твой пациент?
– Вполне допускаю, – не замечать вкрадчивый тон и обманчиво-невинный взгляд, с которым так плохо сочетались расстегивающие халат пальцы, было испытанием, что свыше мне явно зачли и даже поаплодировали. – Голова к твоим сильным сторонам не относится. А беды с башкой как раз мой будущий профиль.
– Почему?
– Что именно? – удержать на губах усмешку и поймать почти сорвавшийся с них стон я всё же умудрилась, справилась, когда под халат руками он пробрался и по краю майки провёл, спустил лямку. – Почему психиатры голову лечат?
– Почему не садишься?
– Ну…
Губы, да и щеки, всю кожу от его чисто мужского взгляда, близости жгло невыносимо сильно, кололо миллионом невидимых игл.
Требовало продолжения.
Прикосновений.
И подумалось, что вот в таком ведении светских бесед есть что-то до крайности неприличное, куда более откровенное и бесстыдно-волнительное, чем в том, чтобы раздеться до конца и дать себя затянуть сверху.
– … это дистанция…
Каждое слово давалось шёпотом.
Легким, почти невесомым, но таким пьяняще-дразнящим касанием колючего подбородка и ещё скулы, виска.
– … границы личного. Я у мамы с Енькой научилась.
Взяла за правило, пусть некоторые и предлагали.
А то ж писать навесу было неудобно.
Неудобно.
И коряво, но лучше на ногах, в которых правды нет, чем столь… по-свойски.
– Тогда мне повезло… – Гарин пробормотал хрипло, пробирающим до болезненного возбуждения голосом, – что нет правил без исключения.
– И ты как раз моё, – я согласилась со смешком.
Нашла в себе силы, чтобы всё же отстраниться, не коснуться губ, к которым тянуло до темноты в глазах.
Хотелось, но нельзя было.
Опасно.
Если только… пальцем провести, который тут же поймали, прикусили.
– Пусти, – я потребовала жалобно, – если кто-то войдет…
…то трындец мне будет.
И за то, что в отделение пробралась, и за разврат в стенах больницы. И за второе прилететь могло куда сильнее, а потому дистанцию и с этим пациентом соблюдать следовало. Надо было уже вставать и уходить, ибо до конца перерыва минут десять оставалось.
И я почти успела.
Я даже встала с кровати и застегнула на кнопки халат. Я возилась, чуть отвернувшись к окну, с последними, когда дверь внезапно распахнулась. Прозвучал короткий стук. И спрятаться в туалет-ванную, как пару раз до этого, я не успела.
Только обернулась.
– Добрый… вы кт… Калина⁈
И… и лучше бы, наверное, вошёл «Орущий бронепоезд», заведующий отделением или сам главный врач!
Да кто угодно, но не… Измайлов!
– Привет, – я, замирая на верхней кнопке, протянула растерянно, моргнула, чтобы вопрос на опережение задать, начать привычные ехидные прения. – А когда студентам начали раздавать пациентов из виповских палат?
– Так то студентам, – Глеб, прислоняясь плечом к выступу стены, отозвался не менее ехидно, постучал ручкой по бейджику, – а мы субординаторы, Алина Константиновна. Нам раздают всех и делать дают всё.
– Какие почести, какие важности… – улыбнуться получилось ядовито-нежно, восторженно, и голос у меня вышел елейным. – Глеб Александрович, к вам сейчас как? И на кривой козе не подъехать будет?
Как у него получалось вот… так⁈
Пропасть почти на два месяца, явиться в самый ненужный, невозможный момент и шквал эмоций одной высокомерно-презрительной ухмылкой вызвать. Мне хотелось, срываясь на радостный визг, повиснуть у него на шее. Мне хотелось, чтоб он исчез вот прямо сейчас, сгинул и ещё лет сто не появлялся.
Мы виделись последний раз после экзамена по психиатрии.
Не общались после.
А сейчас… сейчас меня скручивало, штормило от обычно-серых глаз, в которых ничего-то кроме вежливого, такого стылого, равнодушия разглядеть было нельзя. И во вторых, тоже серых, но куда более тёмных, глазах я ничего прочитать не могла.
Я оказалась вдруг между молотом и наковальней.
И под перекрестным огнём.
И, наверное, так себя ощущает преступник, которого на месте преступления поймали, застали врасплох. Или мой коктейль из вины, растерянности и стыда больше подходил тому, кто изменил и предал?
Только вот… кому и с кем?
А ещё у меня всё же была радость.
И жадность, с которой рассматривать и наново запоминать Измайлова, мне требовалось. Я, чёрт бы всё побрал, соскучилась по нему. Мне хотелось, чтоб разглядеть его было можно, понять, что за это время в нём переменилось.
Но… Гарин моего взгляда не понял бы и девушкой я была его, а потому смотреть так, как хотелось, на Глеба я не имела права. И броситься на шею, чего не поняли бы уже оба, я не могла. Мне, в конце концов, такое проявление восторгов было не свойственно.
– Через десять минут обход, Алина Константиновна, – Измайлов, проигнорировав очередной выпад, проинформировал непривычно сухо, столь отстраненно и льдисто, что подумать про ревность захотелось, но я себе не дала.
Хватит.
Желаемое и действительное.
Одно за другое принимать нельзя, да и… хочу ли я его ревности теперь?
– Тебе лучше уйти.
– Ну если до сих пор «ты», – я фыркнула, пожалуй, через силу, заставила себя безмятежно улыбнуться и не разреветься без с особого, в общем-то, повода, – то, Сав, знакомься. Это Глеб, мой друг и бывший одногруппник. Шестой курс он доучивается не с нами.
«Бывший» прозвучало как-то неправильно.
Но думать об этом я себе запретила.
– Глеб, это Савелий Гарин. Тот самый мой парень, которого я тебе всё никак не могла показать, – едкую фразочку, сказанную в последнюю встречу, я Измайлову вернула и зеркально-гаденькой улыбочкой сопроводила.
– Да я уж понял, что не брат, – Глеб хмыкнул скептично, но руку, подойдя к нам, Савелию Игнатьевичу протянул. – Наслышан.
Это прозвучало без восторгов.
Как и ответ Гарина, который с кровати поднялся поспешно. Отказался больше лежать, заверив холодно-учтиво, что чувствует себя прекрасно. И дальше, с ними обоими, я находиться просто не могла.
Я подхватила, вспоминая про обход и пару, тетрадь.
Почти дезертировала, вот только голос Измайлова, пока я мучительно думала, что сказать на прощание, догнал меня у двери.
– Калина, вас Тоха завтра ждёт прям с нетерпением, – в его голосе была тонна сарказма, за которым весь третий курс и фармакология враз промелькнули и… согрели. – Он про всех у меня спросил, сказал передавать привет. Горячий.
– Он у вас вёл⁈
– Угу, – он подтвердил с кривой ухмылкой. – Вчера зачёт сдавали. Мучил нас, страдал сам. Мы забыли всё, что он нам в головы вдалбливал. Механизм действия фторхинолонов объяснить не можем, на что действуют аминогликозиды путаем.
– Узнаю Антона Михайловича!
– Пять вопросов на листочках вначале и устный опрос…
– … встань изо парты и в тетрадку, у-у-у, оболтусы, не подглядывай! – это мы договорили слаженным хором.
Рассмеялись.
И… легче стало.
У меня вышло, всё же сбегая и прощаясь, улыбнуться искренне. Только вот писать Измайлову, как он то ли попросил, то ли предложил, чтобы увидеться, когда у нас закончится пара, я не стала. Я отговорилась делами.
Так было… правильнее.
Или малодушнее.
А ещё трусливее е.
Я не хотела пересекаться с ним, боялась подспудно, потому что без него я не сомневалась. Я решила, что люблю Гарина. Я была уверена, что люблю Гарина, пока… пока Измайлов на горизонте не объявлялся.
Он походил на смертельно-ледяной водоворот, что, возникая внезапно, в себя раз за разом равнодушно затягивал. На водоворот, который крутил-вертел, кружил-ломал, а после небрежно выбрасывал.
Уходил сам, приходил вновь.
Я больше так не могла.
Не хотела.
И плевать было, если на душе или в сердце ещё что-то тоскливо-тошно ныло. Кололо противно и болезненно, когда в разговорах идеальный Кен упоминался. Я научилась не обращать на это внимание, не думать.
К октябрю я даже перестала, заходя в кабинет, искать обыкновенно серые глаза и идеальную укладку среди всех наших. Я привыкла, приняла окончательно, что с нами он больше не учится. Не является, просыпая все будильники, ближе к перерыву.
Теперь у него была другая группа.
Другая жизнь.
А я…
– Ты выйдешь за меня замуж? – Гарин спросил тоже в октябре.
Третьего числа.
Он спросил между делом, между блюдами, когда одни уже унесли, а другие ещё не подали. Он спросил в ресторане, куда пошли мы спонтанно. Не было дома еды, ибо хозяйкой я была всё же паршивой.
И к Тохе с его зачётом, что принимался занудно-дотошно и так знакомо, последние три дня я готовилась.
Работал, утопая в бумагах и судах, Гарин.
А потому около пустого холодильника, в полумраке кухни и ранних зябко-серых сумерках, мы в тот день встретились. И своё обещание сообразить что-то на ужин я только тогда вспомнила, усовестилась.
Я даже прикинула, что на скорую руку сделать можно, только не успела. Махнуть в ресторан, обрывая все оправдания-раскаяния коротким поцелуем, Гарин предложил быстрее. Он рассказал, что один, на двадцать пятом этаже, со стеклянным куполом и верандой, ему тут как раз насоветовали, наобещали красивых видов и вечерне-огненной панорамы.
Не обманули.
И на пустующую веранду, для которой сезон подходил к концу, я его утащила. Оплетал, расползаясь по её стенам, все поручни и столбы девичий виноград. Он полыхал багряным, таким осенним, цветом.
Прятал, давая подглядывать самим, от людей и города. На Энск, завернувшись в принесенный плед, я и смотрела.
Пока Гарин не спросил, не сделал… предложение.
– А как же… пять лет?
Я не переспросила.
Я, замирая под его взглядом, ляпнула куда умнее, потеряннее. Я ухватилась за такие давние, произнесенные в иной сказочной жизни, слова. Я зацепилась за них, спасаясь от ещё одного водоворота.
От шторма из эмоций, мыслей и противоречивых чувств.
– Я бы мог сказать, что год с тобой идет за три сразу, а мы знакомы уже целых два, но… – Гарин, крутанув поставленную между нами коробочку, усмехнулся бегло, – я купил его ещё летом, когда мы… поругались.
– Логично, – я поддержала вежливо, пожалела, что заказ водки или сразу абсента Гарин вряд ли оценит и поймет. – Именно так все при ссорах и делают.
– Не ёрничай.
– Я пытаюсь!
– Господи, Алина! Почему с тобой так… сложно⁈
Невыносимо.
И я сама невыносимая.
У него на языке, я была уверена, крутилось именно такое определение. Только Гарин, культурный и сдержанный, при себе его оставил. Он лишь вскочил, раздраженно и громко двинув стулом, с места.
Отошёл к перилам веранды, облокотившись на которые, разноцветную и широкую ленту одной из главных улиц Энска разглядеть было можно. Красные огни сотни фар, зелёные – светофоров, неоновые – реклам и вывесок.
Наблюдая за ними, можно было вдох-выдох сделать.
Помолчать.
И успокоиться.
Или после сигареты, которую он попросил у официанта, выдохнуть. И дым, напоминающий о полыни и горечи, выпустить.
– Я боюсь, Сав, – я, натягивая повыше плед, не выдержала первой, соскребла то немногое, что от мужества у меня было. – Ты меня тогда, после больницы, спросил, из-за Глеба я уехала в Индию или как. И ты не стал настаивать на ответе, но – да! Из-за него. Ты сам понял, но говорю теперь сама и вслух. Я его любила с первого курса. Или… думала, что люблю. Его – думала, тебя – решила, что люблю…
…боже мой…
Как от летней интрижки и секса без обязательств мы докатились до «нашего дома» и обручального кольца⁈ Когда оказалось, что он меня любит, а я уже плохо представляю, как жить без Савелия Гарина? Сомневаюсь, вспоминаю Измайлова, давлю подлую тоску, но не могу вообразить, что приду в пустую квартиру и не увижу – да банально! – брошенного в кресло галстука, зубной щетки в ванной и ботинок у порога!
– Я решила, но брак – это…
– … это когда тебе придется сказать, что ты меня любишь, – он, пока я жмурилась и ждала своего приговора, отозвался сухо и подчеркнуто вежливо, – но со всей возможной честностью ты это произнести не можешь.
– Это ведь не пустые слова, – я ответила негромко.
Я подошла, неловко вставая и не чувствуя под собой пола, к Гарину. Я разлеталась на части под его непроницаемым, чужим и рабочим взглядом, но бегать от него, от себя я уже больше тоже не могла.
Я устала.
Пусть лучше говорит, выносит приговор, который за всё сказанное я заслужила.
– А ты не уверена, что любишь.
– Я не знаю, Гарин. Я боюсь, – кто бы мне рассказал, что слова иногда даются так сложно, они зарождаются где-то в оплетенном невидимой удавкой горле, – что ошиблась. Что приняла страсть за любовь. Или привычку за неё. Дружбу. Вдруг я ошиблась, что люблю тебя? Или я все эти годы ошибалась, что люблю Глеба?
– То есть «нет»?
– Не… сейчас.
Мы не поссорились.
Не расстались.
Чему, вопя на всю квартиру и костеря меня, вполне искренне удивлялась Ивницкая. Она прочитала мне целую лекцию, о том, что можно и нельзя говорить мужикам. О их самолюбии, которое так легко задевается и оскорбляется.
И заодно о моей дурости.
– Не, Калинина, тебе когда в следующий раз приспичит исповедаться, то позвони лучше мне, а! Ты думаешь твой Гарин теперь когда-нибудь забудет твоё «Я не знаю люблю ли тебя»⁈ Ну ты и ду-у-ура!
– Зато Гарин святой.
– Иногда кажется, что – да! – Полька, падая на диван и обнимая подушку, буркнула рассерженно. – Или умалишенный, раз тебя терпит.
– Он меня любит, а я… Может, я цепляюсь за него, потому что боюсь остаться одна? У тебя Артём, мама с Адмиралом в Питере, Женька позавчера уехали в Красноярск. Или я цепляюсь за Измайлова по привычке? Нет уже никакой любви, влюбленности. Её не было никогда или она была, но первая.
– Ну да… а первая, как говорят, незабываемая.
– Она же и последняя.
– Калинина, – на меня посмотрели до невозможного снисходительно, плеснули в голос щедрую долю скепсиса, – если бы она была и последней, то жила бы я сейчас с Пашечкой, который переспал уже со всем районом и по соседнему пошёл.
– Но почему тогда сердце ёкает?
– Слушай, когда сердце ёкает, ЭКГ снимают, – Ивницкая проворчала беззлобно, – а не про любовь думают.
– И тропониновый тест делают…
– Видишь, ты ещё не совсем пропащая, – заверили меня бодро-восторженно, похлопали по плечу, чтоб голову свою на него пристроить, подхватить по руку и сказать уже серьёзно. – Я на первых курсах, можно сказать, завидовала… тебе. Вам. Вы с Измайловым всегда такой… парочкой смотрелись. Глядели друг на друга, пока второй не видит. Общались на одной волне. Меня прям бесило иногда, вроде втроем, только я всегда как лишняя. Я была уверена, что у вас что-то да будет. Но…
– … не судьба.
Говорят, так бывает.
Просто.
Просто, даже когда все карты и звёзды вроде сходятся, ничего-то не складывается.
– Его жена, твой Гарин. Наверное… наверное, вы упустили тот момент, когда могли быть вместе? Не заметили… остановки?
– Мы изменились оба, да? И сейчас уже не смотримся?
– Мы все изменились за пять лет, Алин… – она, тяжело вздохнув, от второго вопроса уклонилась.
Не ответила, ибо ответ был очевиден.
Вместе она нас больше не видела.
И тему, ещё раз вздохнув и помолчав, Полька перевела:
– Как там Жень-Жени устроились?
– Дом сняли…
А наш, в Аверинске, продали.
Они выставили его на продажу ещё летом, и как-то быстро, слишком стремительно, нашёлся покупатель. Как-то за мгновение продался наш дом, собрались вещи и написались заявления на увольнения.
Пролистались листья календаря.
И они уехали.
А я, проводив на вокзале, так и не смогла дойти до дома, который не нашим уже был. Я не попрощалась с ним в тот день. Не помогала раньше собирать последние вещи и проверять, ничего ли не забыли. Я находила сто и одну причину не ездить этой осенью в Аверинск. И документы из больницы, уволившись ещё в августе, я не забрала.
Я оставила себе повод вернуться.
Но… каждые выходные у меня были забиты делами. И на неделе, пусть и заканчивая в два, я жутко занятой всегда оказывалась.
Я протянула так до октября.
Предложения Гарина.
И разговора с Ивницкой, после которого поехать в Аверинск я всё же решилась. Мне надо было съездить туда одной, попрощаться с домом без свидетелей. Мне нужно было… подумать, вспомнить нашу жизнь, промотать-перебрать, пережить ещё раз и отпустить. А может, я надеялась, что именно там смогу понять, когда я, мы все так изменились. Когда мы то ли просто выросли, то ли всё же повзрослели. И когда Измайлов остался вместе с этим домом… только в памяти.
Мне надо было проститься.
Найти ответ в себе, а после дать его Гарину. Мы, правда, не ссорились после его предложения, но и как прежде не жили. Не было беззаботно-весёлого: «Савка, пусти, кофе стынет!» и только для меня иронично-нежного: «Алиныш, подъем, твои больницы ждут».
Не было беспричинно-«дурачинного» смеха, совместных обедов – «Алина, я недалеко от „Герцина“ и вашей двадцатки, ты скоро освободишься? Жду» – и выдёргивания второго из кипы важных бумаг или учебников поздним вечером, что у нормальных людей уже ночь.
Не было… лёгкости.
Одна лишь кривая трещина, что и по кровати, оставляя обнимать одеяло, прошла. И ещё, пожалуй, натянутость меж слов и фраз, холодная вежливость, с которой поторопиться меня теперь по утрам просили.
Так не могло продолжаться долго.
А потому, предупредив по неизжитой привычке про Аверинск и документы, на дневной электричке я уехала. Я, опережая шипящий громкоговоритель и развлекаясь, называла про себя станции и километры, которые, как казалось когда-то, запомнить и назвать в правильном порядке невозможно.
Теперь я знала все.
Сколько раз за эти годы я моталась туда-сюда? Таскалась с сумками, продуктами, в слякоть, снег, ливень, метель, ранним утром или поздним вечером. Поверила бы тогда, прошлая я, что придет день и ездить в Аверинск будет не к кому?
Мне и сейчас в это верилось плохо.
Разве может дом, тот, в котором была почти вся жизнь, вдруг стать чужим? Как может случиться, что открыть ворота – чёртовые кованые ворота с финтифлюшками, которые столько раз красились с заковыристой руганью! – и зайти во двор окажется вдруг нельзя?