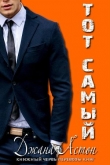Текст книги "Не в счет (СИ)"
Автор книги: Регина Рауэр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– От… вали, – я послала добро и нежно.
Убила Измайлова только взглядом, ибо сидеть на подоконнике в туалете, в который мы набились впятером, было слегка неудобно и немножко тесно.
До кабинета и жалостливых объяснений мы не дошли.
Перерыв по закону подлости начался раньше. Открылась дверь, явился препод, а мы, скрываясь и спасаясь от профессорского взора, нырнули всей опаздывающей компанией в первую попавшуюся дверь, что туалетом оказалась.
– Охренеть, Калина у нас культурной стала, – Кузнецов восхитился и возрадовался тоже вполне прилично.
– Заткнитесь, – Полька локтем ему заехала душевно и, судя по ойканью, метко. – Иначе спалит. Лиз, глянь, ушёл уже?
– Не, в коридоре вон стоит. Не шумите.
– Мы не шумим, мы пропущенное наверстываем, тему занятия обсуждаем, – Глеб отозвался ехидно, придвинулся ко мне, чтоб по коленке постучать и вопрос свой, ставший давно притчей во языцех, повторить. – Так что, будущий психиатр, селезёнка существует?
– Нет, – огрызнулась, зная, на что меня разводят, я тихо.
– Тю-ю-ю, где-то на анате сейчас Пётр Аркадьевич грустит, – имя завкафедрой нормальной анатомии Измайлов протянул с показной печалью и скорбью. – Он над нами полтора года измывался не для таких знаний и ответов, Алина Константиновна, поэтому думай лучше.
– Да хоть зарежь, – прошипела, перехватывая его руку, что на моей ноге всё лежала и узоры, нервируя, выводила, я истинной коброй, – не существует селезёнки!
– Да вы достали со своей селезёнкой!
– А чего вдруг нашей? – на гневный шёпот Лизы Глеб возмутился искренне, кивнул на дверь, за которой препод всё стоял и беседы с кем-то вёл. – Она вон – Парфёнова. Его любимая тема на весь цикл.
– Слушайте, – Кузнецов, оглядываясь на нас, поинтересовался задумчиво, – а вообще, есть хоть кто-то, кто смог доказать ему существование селезёнки?
– Пётр Аркадьевич, – я буркнула сердито из-за Измайлова, которого не задевать не получалось, касалось, обжигая, то руки, то груди. – Сводил в музей и показал, они же одногруппники.
– Не, в натуре, хоть одна группа доказала?
– Ходят легенды, что лет пять назад один мальчик в одной группе потока умного, первого, смог это сделать, но после его никто никогда не видел. Бу!
– Да ну-у-у…
– Не, а как ты ему её докажешь? – Полька спросила насмешливо. – Где ты увидишь селезёнку? На УЗИ?
– А что такое УЗИ? – Глеб Александрович, подхватывая воодушевленно, вопросил философски и глубокомысленно, до противного въедливо. – Ультразвуковые волны? А ты их видишь? Как ты можешь доверять тому, чего не видишь?
– Измайлов, – я, путая пальцы в его волосах и переделывая идеальную прическу в ирокез, начала проникновенно, потянула, запрокидывая идеальную физиономию, к себе, – вот ты с ним это сейчас и обсудишь. Раз ту же волну словил.
– А чего я? – соглашаться со мной не стали, только сверкнули прожигающим взглядом и мои пальцы поймали, не отдали, сжимая. – Я в патаны или судебку, я ему как раз достану, покажу и докажу. А вот ты как его будущая коллега…
– А я как будущая коллега сразу соглашаюсь, что её не существует!..
– Кхм-кхм, – в дверь, обрывая наши рассуждения и пререкания, постучали очень деликатно, спросили задушевно голосом Парфёнова. – Как симпозиум, коллеги?
Упс был огромным.
Примерно, как наши глаза.
– Дискуссионно, Сергей Анатольевич, – Полька после всех наших переглядываний и красочной пантомимы дверь всё же приоткрыла, выглянула первой, чтобы елейным голосом, выдавая лисью улыбку, протянуть.
– Полы на кафедре давно мыли?
– Никогда.
– Что ж, друзья мои, тогда я вас сердечно поздравляю. Новый опыт, как говорит один мудрый человек и по совместительству ваш покорный слуга, всегда расширяет границы познания и мышления.
А также учит работать лентяйкой.
Впрочем, драить учебные комнаты, которых насчиталось всего три, было тоже весело. Появился заодно новый опыт бега со шваброй наперевес друг за другом и битвы тряпками, которые для пыли мы нашли.
И фотографий, забираясь от наших сражений на стол, Лиза в тот день наделала сотню. Отправила в нашу группу репортаж, который на Новый год, сняв дом, мы пересматривали вместе с кучей всего другого.
– Ребят, давайте за то, чтобы оставшиеся полтора года прошли также весело и дружно, – Катька, вставая за минуту до курантов и поднимая бокал шампанского, перекричала и нас, и президента. – Чтобы мы доучились до дипломов всей нашей лесной братвой. Ура!
Лесной братвой мы стали ещё на первых курсах.
Придумали, вспомнив мультфильм, после одного из зачётов, на котором отчаянно друг друга спасали и коллективным разумом тащили.
– Ура!
– С Новым годом!!!
Все голоса, слова и поздравления слились в единый гам, перебились звоном бокалов и криков, в которые мы тогда верили. Мы не сомневались, что до дипломов – теперь-то уж точно! – все доучимся, не отчислимся и никуда не денемся.
Только вот… доучиться до конца всей нашей лесной братвой не вышло.
Новости, разбившие одну картину мира и сложив совсем другую, вместе с прилетевшими грачами и первыми проталинами принесла ранняя весна.
Но сначала была зима.
Та зима пролетела в разноцветных огнях катка и под Фрэнка Синатра с Санта-Клаусом, которого, навевая представления о годах шестидесятых, почему-то включали чаще всего. Впрочем, мы с Ивницкой ловить ритм и подпевать могли чему угодно, поэтому нас всё устраивало.
А Глебу и Артёму, которые пытались то обогнать, то уронить нас в ближайший сугроб, на музыку было откровенно плевать. Огромные холмы, что штурмовались с ватрушками, их волновали куда больше.
И домой в ту зиму я приходила, как в далёком детстве, с промокшими до самой задницы штанами и обледеневшими варежками.
Повторяла глубоким вечером порядка и совести ради аппендицит или панкреатит, которые ещё на третьем курсе мы выучили, лениво освежили в памяти на четвёртом, а на пятом… на пятом воспаление червеобразного отростка или поджелудочной отпечатывали в голове уже первым тяжеловесным и неподъемным станком Гуттенберга.
На века, так сказать.
Запоминали.
Ибо темы, что на терапии, что на хирургии, на пятом курсе по факту были теми же, что и в предыдущие года. И на шестом курсе, если на то пошло, мало что нового в них добавилось. Имелись, конечно, нюансы и уточнения, но этиология, патогенез, классификация и та же клиника изменений за год не претерпевала.
Как был аппендицит по клинико-морфологии катаральным, флегмонозным и гангренозным, так им и остался.
А потому к парам мы готовились мало, но готовились.
Особенно к хирургии.
Её в десятом семестре у нас вёл Валерий Васильевич, и к его парам все методички читались уже только из-за уважения к нему самому. Он был из той старой советской профессуры и настоящей интеллигенции, которую ныне почти не встретить. Из тех, у кого под всегда идеально отутюженным и застёгнутым на все пуговицы халатом виднелся костюм и галстук.
Он не повышал на нас голос, не наказывал строже остальных, но не ответить, смотря в лукаво-добрые и мудро-молодые глаза, было стыдно. Невозможно было опоздать, потому что двери через пять минут после начала он закрывал на ключ. Шутил с нами и рассказывал в качестве примеров истории из своей практики, которая лет насчитала почти в три раза больше, чем было нам.
Он звал нас всех исключительно и строго по имени-отчеству, требовал положенную – ниже колена – длину халата и одним прищуром убирал все наши причёски-волосы под тоже положенные шапочки.
Он говорил, что мы взрослые, почти врачи, в чьих руках человеческая жизнь, а потому серьезней и ответственней быть надо.
Только…
Только однажды – тогда, когда закончилась хирургия, а мы занимались на поликлинической терапии – Валерий Васильевич уточнил, что мы ещё взрослые… дети. В тот день календарь отсчитывал листья снежно-грязного и по утрам морозного марта, в котором солнце-блин, однако, слепило уже по-весеннему тепло и жарко.
Звенела первая робкая капель.
А я, толкая дверь ГУКа и влетая в забитый народом холл, звенела про себя ругательствами. Они же были адресованы и дорогому деканату, и любимой кафедре факультетской терапии, и всем бумажечкам-ведомостям-документам, в которых мою оценку за экзамен по терапии потеряли и этой новостью накануне обрадовали.
Точнее, ставя сразу десять вопросительных знаков и используя исключительно «капс», новостью-вопросом обрадовала меня Катька: «У тебя что, терапия не сдана?!?!?!»
Кофе я в тот момент подавилась.
И перекрестилась.
Терапию, отказавшись летом от тройки и получив за это от Ивницкой характеристику дуры, я осенью пересдала на четвёрку, как у мамы. На пятёрку, как у Женьки, я не дотянула, но и хотя бы трояка за один из самых важных и основных предметов не имела.
На этом я выдохнула и, успокоившись, забыла.
И тут вдруг…
«По их ведомостям у тебя ничего стоит. Иди завтра в деканат, Макарыч хвостовку даст, с ней на кафедру, чтобы подтвердили и написали, что у тебя всё сдано. Потом опять к Макарычу, чтоб в ведомости проставил».
Инструкцию к действию Катька выдала подробную.
А я таким образом в ГУКе и оказалась.
За хвостовкой.
К Макару Андреевичу.
Последнее, маяча в дверях деканата, я и озвучила.
– Макар Андреевич на четвёртом этаже, в большой аудитории, – секретарша, отрываясь от экрана компьютера и кидая поверх очков заранее осуждающий взгляд, продребезжала недовольно. – У нас сегодня так-то день открытых дверей. Он занят. Может, вы в другой день подойдете, девушка?
– Угу, – я, скрываясь с горизонта, промычала неопределенно.
Тратить ещё один другой день, тащась через полгорода до ГУКа, я была не готова. Обойдутся. И так надо было ехать в противоположный конец города, в шестерку, и ловить там завкафедрой терапии, попутно выслушивая всё, что вот о таких, невовремя сдающих, она думает.
Нет уж.
Лучше было подождать Макарыча и закрытия всех их открытых дверей сегодня. Так что на четвёртый этаж, растолкав теперь понятную толчею людей, я пробилась довольно быстро и виртуозно. У меня в отличие от них, мечтающих поступить и врачами стать, опыт лавирования в толпе был богатый.
Это им, если сложатся карты и баллы, только предстояло научиться выживать в столовой, перед гардеробом после лекции всего потока и на многочисленных пересдачах. Это они терялись в лабиринтах коридоров-переходов и на широких лестницах, которые соединялись площадками этажей и вновь разбегались. Это они, рассматривая высоченные потолки с барельефом и столь же высокие окна, восхищенно округляли глаза и благоговейно смотрели на стены нашей альма-матер.
На одной из стен которой, к слову, чуток краски без всякого трепета мы как-то случайно отколупать успели. Пересидели на всех лестницах перед лекциями или экзаменами, а на некоторых ступенях даже полежать успели.
Вспоминала, скользя между всеми, я именно об этом.
Усмехалась незаметно.
И знакомо-родную залысину Макарыча я в этой толпе искала.
Нашла вместо неё… идеальную укладку Измайлова. Не его, а просто похожую, как подумалось изначально. Не поверилось, что прогуливающий уже вторую подряд пару Глеб Александрович вдруг после обеда до деканата доехать соизволил.
Не в его манере.
Только вот боком, тоже пробираясь среди людей, которых к дверям главной аудитории университета, становилось всё больше, он повернулся, оказался-таки Глебом.
Не спутала-перепутала я.
Не стала звать, ибо бессмысленно в общем гвалте это было. Я лишь нырнула под чью-то руку, ускорилась, догоняя Измайлова, который всех расталкивал слишком уж откровенно и нелюбезно, будто торопился.
Куда?
На день открытых дверей для школьников? Послушать про великую миссию и девиз, гласивший что-то о лечении и учении?
Это было смешно.
И одновременно необъяснимо-тревожно, словно величайшую глупость Глеб Александрович свершить вдруг задумал.
Делал уже её.
Вещал с кафедры ректор, когда, безбожно отставая от Измайлова, в римскую аудиторию я наконец зашла.
– … наш университет по праву считается одним из самых сильных…
Ага.
– … и престижных…
Трижды ага.
– … медицинских вузов в стране. Конечно, у нас высокий проходной балл, строгий отбор и требования к поступающим, но… – Арсений Петрович старался как мог.
Он распинался столь важно и высокопарно, что даже я оказанной честью обучаться в этих стенах прониклась.
На целую минуту.
Почти.
– … поступая в медицинский и надевая белый халат, вы выбираете одну из самых благороднейших и важнейших профессий на земле, вы становитесь тем, кто будет спасать…
Измайлова, крутя головой,я выглядывала с куда большим рвением, чем Макарыча. Торопилась, боясь непонятно куда опоздать, найти его.
Но всё равно опоздала.
– Да бросьте, Арсений Петрович, – голос, раздавшийся с последнего, верхнего, ряда, прозвучал на всю аудиторию насмешливо.
Уничижительно.
Голос Измайлова переполнялся убийственным холодом и яростью, которая серыми льдами глаза пока ещё была скована.
Не выплескивалась наружу.
Только ощущалась.
– Вы им лучше правду скажите, – Глеб, отставляя на край парты стеклянно-тёмную бутылку и сбегая к кафедре, предложил проникновенно до мороза, от которого позвоночник сковало. – Ну, что профессия у нас сволочная, что из белого в ней только халат!
– Глеб…
– Вы расскажите им, как в следственный комитет ходить придется! Как народ за, видите ли, врачебную ошибку по два-три ляма у больниц отсуживать в привычку взял! Или про хирургов. Сколько раз они кровь на ВИЧ аварийно сдают, а?
– Глеб!
За руку, опережая Макарыча и добираясь первой, я его схватила намертво, дёрнула изо всех сил в сторону второго и безлюдного выхода.
А он этого, кажется, даже не заметил.
Не сдвинулся с места.
– Идём!
– Или как на скорой череп по пьяни могут проломить, но это же так, фигня будет! Случайно. И по пьяни. Больной ведь человек, понимать надо! И жив же остался, чё ты ещё хочешь? А может, про законы наши поведаете, там классные формулировки!
– Глеб!!!
К двери я его всё же тащила.
Не обращала никакого внимания на сотню пар глаз и шепотки. Любопытство, которое облепляло почти физически. Оно душило, а люди, напротив, отступали.
Исчезали, становясь пустыми тенями.
Ненастоящими говорящими куклами, мимо которых Измайлова в пустой коридор я практически выволокла, заткнула, извернувшись, ему рот ладошкой.
Ненадолго.
Ибо в мою руку жёсткими и ледяными пальцами он вцепился.
И в целом, мы сцепились.
Оказались вдруг в тени, у стены, к которой Измайлов, сжимая до боли запястья, меня толкнул и прижал. Он навис, врезаясь своим лбом в мой.
– Да что тебе⁈
– Мне⁈ Это ты с ума сошёл!!!
– Я⁈ Я правду сказал, Калина!
– Не ту, которую говорят, Измайлов!
По ноге я его пнула от души.
Не отвоевала для более доходчивого тумака руки, которые, вдавливая в холодную стену, Глеб не отпускал.
Он держал крепко.
Дышал шумно и тяжело.
Он… он смотрел.
А лучше бы задрал на мне свитер или, заморозив остатки и своих, и моих мозгов, вошёл бы в меня прямо тут, это и то не было бы так… откровенно.
– Глеб…
Поцелуй без поцелуя.
На грани касания и дыхания, на той тягуче-болезненной секунде, которая замедляет мир, а после ускоряет и торопит. Она даёт, срывая все тормоза и приличия, отмашку всему. Всему человеческому безумию, всему скрыто-темному и животному.
Нельзя остановиться после этой секунды.
Разве что… оборвать её можно.
Можно вернуть в реальность и заглушить сумасшедший стук сердца ещё более грохочущим и взбешенно-ледяным, как ушат воды, голосом ректора:
– Потоцкий, живо в мой кабинет!
Тогда я впервые увидела, как за шкирку в буквальном смысле тащат, отрывают от меня, пусть и не сразу. Пусть первые три-четыре шага я сделала вслед за ними, а только после Измайлов разжал пальцы и отпустил мои запястья.
Отпустил меня.
И пару шагов назад, потирая горящие руки, я невольно сделала. Отступила, врезаясь и оглядываясь на Макарыча, на стоящего рядом с ним мрачного декана.
Не извинилась.
Я лишь спросила растерянно:
– Потоцкий? Почему Потоцкий?
Я спросила потерянно и жалко.
Мелькнуло враз и вдруг…
Глеб Александрович… Потоцкий.
Александр Потоцкий.
«На Сашку Потоцкого, похоже, дело заведут. Мы вчера разговаривали. Я ему звонила, надо было больного к ним перевести».
«Вчера был вынесено решение по громкому делу врачей Кушелевской больницы. Напомним, что их обвиняют в смерти тридцати однолетней молодой женщины, у которой осталось двое детей. Она погибла из непрофессиональных действий и фатальной ошибки, которую допустили во время операции…»
«Мам, ну это несправедливо! Никто не виноват! Так нельзя!!! Да у всех умирают, все ошибаются. Где-то всё ж исправляют и спасают, а где-то – нет. Это… нормально, не может быть иначе! Для нежных натур это, может, чудовищная нормальность и правда, но, извините, какая есть! Врачи не боги!»
«Мы довольны приговором суда, хотя таких врачей, я считаю, надо казнить. Кто мне вернет жену?»
«А у твоего Потоцкого есть семья?»
«Да, кажется. Он про сына как-то говорил. Алинкин ровесник или чуть постарше. Представляете, с детства в модельной школе учился. Тут в показе участвовал то ли в Риме, то ли в Пизе. Сашка не знает: гордиться или ругаться. Он-то думал, что тоже врачом будет».
«Безусловно, мы будем подавать на апелляцию. Мои подзащитные своей вины не признали. Вся медицинская помощь была оказана своевременно и в надлежащем объеме…»
…вдруг и враз мелькнуло, пролетело голосами мамы, Женьки, журналистов и прочих, кто по делу врачей Кушелевской больницы так долго и много говорил, снимал и писал.
Когда оно началось?
Лет… шесть назад?
Или больше?
Оно тянулось сначала тихо и незаметно, а после, набирая обороты, гласность и резонанс, несколько лет. Отменялись и переносились заседания, запрашивались и проводились экспертизы, выяснялось, кто виновен.
Впрочем, виноваты были врачи.
Не спросили, не сделали, не успели, не… много чего. Накопать, имея желание, даже рвение, всегда что-то да можно, а у следствия и родственников, что жаждали крови, этого желания было изрядно.
А потому они искали.
Они выдвигали, ни черта не понимая в медицине и неся временами редкую дурь, всё новые и новые обвинения, которые после отбивались. Но… на три года общего режима и два года на ограничения врачебной деятельности в итоге всё же наскребли.
Вынесли приговор года… два назад?
Да, пожалуй.
Мама об этом говорила года два назад, а Женька шипела, что всех тогда могут пересажать. Пациенты не умирают только у тех, кто не работает, и ещё у патологоанатомов.
– Алина, иди домой.
– А Глеб?
Сфокусировать взгляд на Макаре Андреевиче получилось не сразу. Мир, разбившийся вдребезги и сложившийся наново иной картиной, чёткость и резкость приобретал неспешно.
Он тормозил, подобно мне.
– Иди домой, – Макарыч,подхватив под локоть, повторил с нажимом.
Не убедил.
И головой, вырывая руку, я помотала, спросила, понимая, что не знаю сама, упрямо:
– Макар Андреевич, а где у нас кабинет ректора?
Вот… кабинет Макарыча я знала хорошо.
Даже декана, пусть ни разу и не бывала, но знала, проходила всё время мимо. И ещё, пожалуй, кабинет бухгалтерии смутно припомнить могла.
Тут же… да я самого Арсения Петровича третий раз в жизни вживую видела!
– Не уйдешь, да? – он уточнил без всякой надежды и обреченно.
– Не-а.
– Идём тогда, – вздохнул Макарыч ещё более тяжело.
Пробубнил себе под нос про грехи тяжкие в нашем лице и уже на третьем этаже, у самых ректорских дверей, предупредил.
Попробовал образумить в последний раз:
– Ждать придётся долго, скорее всего.
– Ничего.
Ждать мединститут научил тоже неплохо, поэтому стенку я привычно подперла, проводила взглядом Макарыча, который, аккуратно постучав и кашлянув, в ректорском кабинете скрылся.
Не обманул про долго.
Я успела и постоять, и походить, и подслушать без большого толку пару особо громких фраз, из которых вышло, что ректора Измайлов – или теперь Потоцкий? – знает с детства, и с отцом Глеба наш Арсений Петрович дружит.
Я успела отскочить от двери и, вытянувшись по струнке, поздороваться с Валерием Васильевичем, который, держа в руке знакомый и узнаваемый профессорский портфель, в начале пятого вечера к ректору пришёл.
Я успела съехать по ставшей родной стенке вниз и задремать, когда двери кабинета наконец распахнулись и Измайлов показался.
И не только он.
– Ох, дети, взрослые… дети, – Валерий Васильевич, вышедший следом, головой покачал сокрушенно.
Пошёл к лестнице.
А я, вскочив обратно вверх, уставилась на Глеба:
– Что решили?
– Давай внизу.
Даже на улице, на которую вышли мы молча. Окунулись в ещё по-зимнему ранние синие сумерки, что на город опустились.
Затемнили лица, притупили страсти.
Добавили решительности и смелости, от которых заговорить, останавливаясь уже около его машины, я первой смогла:
– Глеб, я слышала про дело врачей.
– Кто ж у нас о нём не слышал…
– У тебя поэтому другая фамилия?
– Фамилия у меня матери, – он, разворачиваясь ко мне и вглядываясь, ответил помедлив. – Вика, мамина подруга и владелица «Иконы» – это модельное агентство, ещё в далёкие времена решила, что Глеб Измайлов звучит лучше, чем Потоцкий.
– Нам ты не рассказывал про агентство и вообще…
И вообще, получалось, ничего он нам – мне! – не рассказывал.
И обидно это было.
– Я не знал как, – плечами Глеб пожал выразительно, обошёл меня, чтобы на припорошенный снегом капот присесть. – Хорошо. Я не хотел. Честнее звучит?
– Не знаю.
– Мне неплохо платят, но, знаешь, это не тот вид работы, которым тянет хвастаться. По крайней мере, меня никогда не тянуло.
А Карина?
Она знала? Ей ты рассказывал? Или… очень даже модельной внешности Карина тоже там работала? Она… она ведь упомянула какую-то Викторию! Я помнила, я запомнила тот чёртов короткий разговор до последнего слова.
И узнать это, наверно, следовало.
Вот только синие, запыленные тихой порошей, сумерки всю важность и значимость этих вопросов скрали себе, оставили совсем другое.
То, что спросилось, находя ледяные пальцы Измайлова, тихо:
– А мед? Из-за отца пошёл?
– Он всегда хотел, – спорить он не стал, лишь добавил, объясняя многое и сжимая мои пальцы в ответ. – Сегодня рассматривали ходатайство об условно-досрочном. Отказали.
– А… дальше что будет?
Я, пристраиваясь рядом с ним, спросила осторожно.
Что будет с ним? С нами?
Что сказал ректор?
– К общему знаменателю они так и не пришли, – Измайлов, повернув ко мне голову и так знакомо приподняв бровь, отозвался с едва заметной иронией. – Послезавтра в расширенном составе, комиссией, будут думать, что же со мной делать.
Отчислять.
Или в академ отправить.
Третьего тут было не дано.
[1] Глюк’oZa «Свадьба»
[2] Эльбрус Джанмирзоев, Александрос Тсопозидис «Бродяга»