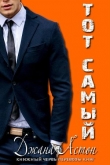Текст книги "Не в счет (СИ)"
Автор книги: Регина Рауэр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
И с ним.
Только уходить, останавливаясь на пороге балкона и приваливаясь к дверному косяку, он не спешил. Рассматривал, держа зажженную сигарету, с прищуром меня. И спрятаться под одеялом, желательно с головой, от его взгляда тянуло, только поздновато было. И глупо. И нелепо вспоминать про скромность после всего, что было.
Пусть треклятые щеки и пылали сами.
– Целоваться за это время ты научилась лучше, – интересный вердикт, чуть запрокидывая голову и выпуская дым, Гарин вынес с непередаваемой интонацией.
Почти ревнивой.
Пожалуй.
Если допустить, что ревновать меня он вообще с какого-то хрена вдруг стал бы.
– У меня был хороший учитель, – я хмыкнула иронично.
От души, потому что всё это время я училась совсем другому. Как-то вот всё больше шкалы то переломов, то риска кровотечений или – прости господи! – критерий Стьюдента я учила эти полтора года.
А единственным и, правда, хорошим учителем по предмету поцелуев и секса у меня за это всё время был сам Гарин.
Только чёрта с два я собиралась ему в этом признаваться.
Обойдется.
– Один?
– Гарин, ещё один вопрос, – протянуть получилось очень даже ядовито, можно было собой гордиться и ехидно улыбаться, пока три шага ко мне, потушив сигарету, делали, – и я решу, что ты ревнуешь.
– Решай, – это мне в очередной раз разрешили.
Не дали продолжить, затыкая уже бессчетным жадным поцелуем и…
…и до утра, заказав ближе к ночи, на мой взгляд, недельный запас еды, Гарин остался. Он одевался тем утром, вызывая непонятное и странное чувство чего-то нового и необычного, почти диковинного для моей квартиры, перед зеркалом, от которого, сооружая прическу, теснить его пришлось.
Пришлось сопротивляться, но всё одно смеяться, когда к холодной глади меня прижали и поцеловали. Пристроили и сжали руки на заднице, которая за эту ночь многострадальной стала. И кофе в этом доме первый раз убежал не только у меня.
Первый, но не последний раз.
В тот день, узнавая новые места города, Гарин подбросил меня до поликлиники. Попался на глаза Ивницкой, которая полпары, косясь одним глазом на препода, а вторым на меня, объяснений и подробностей требовала. И на первой же секунде перерыва она меня за локоть в сторону ближайшего безлюдного закутка утащила.
– Ну! И живо! Это кто был⁈ Калинина, вы целовались! Я видела! Почему я до сих пор ничего о нём не знаю⁈ И как Измайлов? Ты же с первого курса по нему страдаешь!
– Настрадалась, – усмехнулась, съезжая на пол и обнимая коленки, я криво. – Мы друзья. Он вчера сам это прямо сказал. Всё, можно не выяснять.
– И что? Ты с горя пошла с первым встречным е…
– По-о-оль…
– … спать.
– Он не первый встречный.
– В смысле?
– Это Гарин. Тот самый, который был в Индии.
– Пи…
– По-о-оль…
– … сец, – закончила Ивницкая чинно и чопорно, села рядом со мной, чтобы ногой пихнуть и спросить растерянно. – И чего у вас с ним теперь? Одноразовый перепих? Или второй договор а-ля «вторник-пятница в моём плотном графике работы»?
– Не знаю, – плечами я пожала столь же растерянно.
Ни написать, ни позвонить, ни увидеться снова Савелий Игнатьевич мне не пообещал.
Он не сказал ничего.
А я, помня наш разговор ещё в Красном форте, ничего не стала спрашивать. У нас с ним, в конце концов, сразу повелось, что секс без обязательств и звонков на следующий день. И если в Индии это был просто курортный роман, то сейчас, как выразилась Ивницкая, видимо, правда, был просто одноразовый перепих.
Случайная встреча, безумная ночь.
Короткое замыкание мозга.
Случается.
И потому вечером, поминая добрым словом всю ревматологию, но упрямо заставляя себя дочитать хотя бы артрит, зазвонившему домофону я удивилась.
Открыла… Гарину.
Он же явился с двумя огромными пакетами еды, задался, кажется, целью откормить меня, о чём, пропуская в квартиру, я ему и сообщила. Так и не смогла в тот вечер сосредоточиться и вернуться ни к артритам, ни к остеоартрозу.
Сложно было вникнуть, что там «серо» позитивно и негативно, а заодно где какая картина на рентгене, когда… когда позитивно шипело мясо на сковородке, резалось что-то на разделочной доске, а сам Гарин негативно разговаривал чужим официальным и сухим голосом с кем-то по телефону, распоряжался прийти к нему завтра к десяти со всеми документами.
К чёртовой бабушке была послана эта вся ревматология, когда я окончательно запуталась и перестала что-либо понимать в собственной жизни.
И вопрос, практически повторяя слова Ивницкой, про второй договор после ужина и вымытой посуды, прислоняясь спиной к столу, я язвительно задала:
– В Индии у нас был курортный роман и договор. А сейчас что? О чём договоримся, Савелий Игнатьевич?
– О сексе?
– Без обязательств?
– Ну почему? Спать ты будешь только со мной.
– Чудесно. А ты?
– И я тоже, – Гарин, подходя и нависая, ухмыльнулся с порочностью дьявола. – Только с тобой. Я хочу, чтоб мы попробовали… всерьез. Без обязательств у нас уже было, Алина. И договоров с тобой я больше не хочу.
– А для всерьез ещё не прошло пять лет, – его же слова я припомнила почти мстительно, скрестила руки на груди, пряча за ухмылкой растерянность.
Он вытащил, дал пережить вчерашний день, и спасибо большое ему за это было. И сама бы, должно быть, всё-таки попав под машину или просто упав и больше не встав, я бы не справилась.
Но… попробовать и так, чтобы не на раз?
Не коротким романом?
А… вот так, как сегодня? С ужинами, вопросами про мой день и вежливые, ответные, про его работу, про развёрнутый к себе мой ноутбук, в котором даже два абзаца методы, ужасаясь непонятным словам, он осилить не смог?
Вызвал этим улыбку.
– Там было про женитьбу, – к столу, расставляя руки, меня приперли окончательно, и голову, чтобы видеть его глаза, пришлось запрокидывать, – а тебя я пока вроде в загс и не позвал…
Не позвал.
Только на стол усадил, провел губами по шее, выбил, доводя до грани, такими нечестными способами и согласие, и обещание.
И список Гаринских девушек я официально пополнила.
22 минуты до…
– А теперь, последний вопрос, – Ивницкая, напоминая настоящую акулу пера, улыбается дружелюбно-хищно. – Ребята, какие у вас планы на медовый месяц?
– В морг сходить, – я буркаю раздраженно.
Иль иглисто.
Раз ёжиком меня тут вдруг назвать решили.
– Калина!
– Что⁈ – возмущаюсь я столь же деланно, отбиваю её взгляд. – У нас через три дня патан у Бердяева начинается!
А Бердяев за два года не изменился, поэтому пропуски его ненаглядных пар всё так же приравниваются к расстрелу и уважительной причины не имеют априори. И даже смерть не относится к таковым.
Ногами вперёд, но явиться на пару ты должен всегда.
– Медовый месяц будет в январе, – Гарин сообщает хладнокровно, не моргнув и глазом на брякнутые мной слова, он только ловит незаметно мои ледяные пальцы. – Мы полетим в Индию.
Для начала.
К Ваське, что родить там как раз должна будет. Ныне же она глубоко беременная, а оттого на свадьбу брата не прилетевшая, передумавшая в последний момент и объявившая, что ещё одну свадебную церемонию, по индийской традиции, они нам с Гариным устроят.
И, вспоминая фотографии Васькиной свадьбы и многочисленную родню Нани, морально готовиться можно начинать уже сейчас. Не думать старательно, что родители Гарина на рождение первого внука тоже полетят.
И Енька это событие не пропустит.
Остальные мои, когда про церемонию узнают, интерес к Индии у себя тоже обнаружат. Причём все, включая Аурелию Романовну.
– А потом…
И одни.
Это, ёрничая, хочется добавить уже мне, но… я проглатываю очередной неуместный комментарий и на Гарина смотрю. Не мешаю делиться нашими планами на медовый месяц. И даже не спрашиваю, вклиниваясь из-за пришедшего вдруг в голову вопроса, почему он медовым-то называется?
И я не нервничаю.
Абсолютно нет.
– … в Касабланку.
– Эс-Сувейру, – я всё же не удерживаюсь, вставляю быстро и легко.
И с настоящей улыбкой, потому что мысли о Марокко, пусть и зимнем, душу греют. Они успокаивают, если маяк в Касабланке и шелестящее волнами побережье Атлантики представлять, воображать, как гулять мы там будем.
Заглянем на базар.
И в порт, где жирные-жирные крикливые и наглые чайки.
Ещё коты.
А у берега, если верить миллиону картинок и путеводителям, покачиваются старые рыбацкие синие лодки.
И до сине-голубого города, взяв в прокате машину, мы доедем. Заблудимся в лабиринте узких улочек, что поднимаются и спускаются, собираются в неровные каменные лестницы или расползаются внезапно, становясь площадью.
Мы… мы будем там счастливы.
И вообще…
– А Касабланку, открою вам тайну, – Ивницкая, завладевая вниманием Рады и камеры, улыбается заговорщически, сдаёт все секреты Полишинеля, – они выбрали, потому что любимый фильм Калины «Касабланка», и она всегда хотела там побывать.
– И это мы тоже всем, конечно, расскажем, – я фыркаю, кажется, нервно.
Не недовольно, но…
Полька быстрым взглядом режет, и мимолетная тень по её лицу пробегает. Или, пробиваясь сквозь всё веселье и всю беззаботность, выглядывает. Думается, что нахмуриться вот сейчас она хочет.
И ответы на так и незаданные вопросы она получить хочет.
Порывается спросить ещё со вчера, но так и не решается. Она не требует в кои-то веки никаких объяснений и подробностей.
Не спрашивает ничего.
А я сама не рассказываю.
И вид, что ничего не было, мы делаем обе.
Не ездила я никуда, да.
– Калинина, сейчас довыёживаешься, – Ивницкая, грозно прищуриваясь, тянет мстительно и вредно, встает, подавая пример и нам, – и я всем расскажу про бахилы, хирургию и Валерия Васильевича.
– Не расскажешь, – я фыркаю уверенно, не впечатляюсь страшной угрозой, – мы там на пару позорились.
Ну и… бахилы – белые, не синие! а потому похожие – на головы вместо одноразовых забытых дома шапочек мы на пару надевали.
Было дело.
Кто же знал, что оставивший нас в кабинете Валерий Васильевич вернется так невовремя? Вместе с шапками придет, глубоко вздохнет и в отделение, раздав пациентов, всё же пустит. Скажет, что думал, будто мы тут сидим и ревем.
А мы…
Мы, глядя друг на друга и утыкаясь в парту, хохотали до слёз. Не переживали, что истории не напишем и вовремя не сдадим. И то, что нам единственным из группы достались по итогу задницы, которые свищи заднего прохода, было чистой случайностью, а не тонкой иронией и наказаньем за забывчивость и безалаберность.
Точно случайностью.
– Полиночка, – Егор, распахивая перед Ивницкой дверь и пропуская её первой, в максимально гаденькой улыбке расплывается, бросает ехидный взгляд на меня, – а я с удовольствием послушаю эту занимательную историю.
– Думаешь? – Полька хмыкает с сомнением.
Говорит что-то ещё, но уже из коридора и неразборчиво.
И дверь, окончательно отсекая их голоса и оставляя нас с Гариным наедине, закрывается. Дается ещё минута или две, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Посмотреть на жениха, который строгим и собранно-сосредоточенным выглядит.
Он стоит по ту сторону дивана от меня.
Тоже смотрит.
А я, двигаясь против часовой стрелки, иду к нему, спрашиваю, касаясь и ведя кончиками пальцев по спиральной спинке:
– А что, если бы мы тогда не встретились, не столкнулись? Ничего бы и не было?
– Наверное, – плечами Гарин пожимает как-то вот равнодушно, отступает на пару шагов, и неспешный узор вокруг дивана мы рисуем. – Или нет. Думаю, где-то и когда-то мы бы всё равно встретились. Есть ведь Васька.
– Женька.
– Чья-то свадьба.
– Или ребёнок, – я соглашаюсь, когда полный круг мы заканчиваем и друг на против друга по разные стороны опять замираем. – Почему ты меня не нашёл?
Нечестный вопрос.
Опасный.
Я ведь тоже могла его найти, написать и позвонить, только вот не стала. И он не стал, не обязан был, а потому ни разу я у него это и не спрашивала. Не была уверена, что ответ услышать готова.
И права не имела.
Сейчас тоже, но…
– Я тебя видел, – Гарин, наклоняя голову и рассматривая, отвечает не сразу и взвешивая слова, что тяжёлыми кажутся.
И наступает, догоняя, теперь он.
А я отступаю.
– В январе, – уточняет он с усмешкой, от которой почему-то больно. – Сначала же… знаешь, не каждый день вот так просыпаешься один и узнаешь, что, действительно, оставляют без рыданий и претензий, даже не прощаются. Я разозлился. Ты… хорошо щелкнула по носу, пусть и сама, кажется, этого не поняла. Потом я обрадовался. Или думал, что радуюсь, потому что после снова злился.
– Я, наверное, тоже, – я говорю задумчиво, скорее себе, чем ему, я заглядываю… в себя. – И злилась, и обижалась, и надеялась, что появишься. И радовалась, что ты всё-таки не появляешься, потому что тогда бы… всё стало ещё сложнее. Наверное. Мне казалось. Тогда же и так… Я выживала в ту осень, Гарин.
– А зимой уже жила. Ты в тот день смеялась, – улыбка у него выходит странной, такой, что взгляд, не выдерживая, я отвожу.
Не иду больше.
Пусть он и приближается.
– Мы в пробке стояли, на Мира. Вы в среднем ряду, я – в правом. Ты не видела, но зато я… достаточно увидел.
– Мы до магазина бегали, – я вспоминаю растерянно.
И много времени, чтоб это вспомнить, не надо. В тот день, в старый Новый год, на дороге был жу-у-уткий проба-а-арь, как орала Ивницкая. Умудрялась вставлять ещё между каждым слогом по одному ругательству.
И за рулём была она.
А вот мы с Измайловым…
…мы вчетвером тогда ехали с педиатрии, которую благополучно сдали, тут же счастливо забыли и больше всего на свете хотели уже даже не есть, а дико жрать. И настроение, что не портилось даже мыслью о женитьбе некоторых, было отличным.
Просто развеселым.
Настолько, что и проба-а-арь, в который внезапно встали на пару часов, его не испортил. Прибавилась только громкость музыки, подпевалось и разговаривалось, перебивая друг друга, криками и смехом. А после решилось, что за «хавчиком» до ближайшей «едальни» будет быстрее сбегать так.
– Полька с Тёмой остались, – я говорю, повторяю потерянно. – А мы с Измайловым пошли до магазина. И за шавермой.
– Вы хорошо смотрелись, – это мне сообщают сухо, догоняют, так что носки нашей обуви сталкиваются.
И я смотрю на них.
Мы хорошо смотрелись?
Нет.
Не знаю.
Может быть.
Мы, так забыто, но привычно пререкаясь, смеялись и неслись скачущими зайцами между машинами. И за руку в какой-то момент, ускоряя и задавая направление, Измайлов меня поймал, ухватил, чтобы до самого магазина не отпускать.
– И ты… – я, понимая, чем закончится рассказ, говорю механически.
Не спорю про Глеба.
Какая разница, как с Измайловым мы когда-то смотрелись. Или смотримся. Теперь это не имеет никакого значения, неважно.
– И я решил, что у тебя всё прекрасно и без меня, – Гарин сворачивает, обрубает чужим холодным голосом.
А я решаюсь.
Поднимаю голову, дабы в его глаза провалиться и разбиться. Ухватиться слепо за руку, за шею, которая крепкая и надёжная. И на носочки, покачиваясь и врезаясь, отчаянно мотая головой, я поднимаюсь.
Касаюсь губами уха, чтоб в пугающей меня самой правде сознаться:
– Ты ошибся.
* * *
Это было странно.
Непривычно-необычно.
Отношения с Гариным, что без договора, но вот с обязательствами, в которые поверить поначалу никак не получалось. Не воспринималось, что у нас, в самом деле, может быть что-то серьёзное и в то же время обыкновенно-человеческое.
И то, что мы встречаемся, а не просто спим, я осознала только к апрелю, к его середине, когда за платьем в шкаф полезла и на пару плечиков с рубашками и мужскими костюмами наткнулась. Удивилась ещё, что Жека, страдавший при появлении пиджака и признававший исключительно джинсы, такое вдруг носить стал.
И вообще, вещи свои в нашей Энской квартире оставил.
Озарение, что это одежда Гарина, на меня снисходило медленно. Доходило, как до жирафа, а потому постоять и потупить я успела, провела пальцами по рукаву пиджака и едва ощутимый запах такого знакомого парфюма уловила.
Этот парфюм, в неприметном прозрачном флаконе, я крутила в руках и нюхала в квартире Гарина, куда в один из вечеров, объявляя, что до первой городской утром от него будет ближе, меня привезли.
Провели экскурсию.
И связку ключей в один из дней мне незаметно и естественно вручили. Вот только вспомнить, когда именно случился этот знаменательный, по ехидству Ивницкой, момент, я так и не могла.
В мою память гораздо лучше врезалась наша поездка в Аверинск, где с Жекой, двумя мартышками и нашими кошарами я Гарина знакомила. Уверяла под злорадство Князева, что погрызенный Рыжим кроссовок есть проявление сильнейшей любви.
Я наблюдала вместе с Енькой из-за шторы, как огород под грядки Жека с Савелием Игнатьевичем перекапывали.
Таскали в баню дрова.
И с Юлькой-Анькой, которые отказались сидеть дома и носились за ними помогающими хвостиками, они возились. Объяснял, как складывать поленницу, Гарин, что терпением и вообще подобными умениями удивлял.
– Пять лет назад я бы не поверила, что… – моя сестра, перехватывая нацелившегося на фикус Рыжего, выдохнула… звеняще-глухо, – … что жизнь наладиться может. И мы будем не одни. Что не всё самим делать.
– Ну, представить Гарина с лопатой наперевес я и три месяца назад ещё не могла, да и с детьми рядом тоже, – я хмыкнула едко, но Женьку обняла крепко.
Уткнулась носом в её плечо.
А меня, как и в детстве, по голове погладили, поняли без слов:
– Он хороший.
– А я нет, – я протянула жалобно. – Я… Измайлова забыть не могу.
Опустить.
Я не могла не ждать наших дружеских встреч, редких звонков, частых сообщений, от которых радость разноцветным фейерверком внутри каждый раз вспыхивала. И с улыбкой идиотской после я ещё пару дней ходила.
– Или цепляешься за него по привычке?
Женькин вопрос, такой простой и сложный, такой внезапный, ошеломил.
Он ударил.
Повернул-развернул вдруг на сто восемьдесят градусов, заставляя задуматься и честный ответ искать. Не находить его…
Ибо как понять, где привычка, а где чувства? Как их различить?
Я вот не знала.
А Енька, подумав и убедив, что писателем ей не быть, гениальное сравнение выдала:
– Как-как, как с сахаром в чае. Если его убрать, то первую неделю страдаешь и каждый раз думаешь, что эту бурду пить нереально, потом ничего, привыкаешь. А через месяц уже, наоборот, кажется, что сладкий чай – это несусветная гадость. С шоколадом это не работает, поэтому сладкий чай – это привычка, а шоколад я люблю. Нежно. И трепетно.
– Измайлов, по твоей логике, видимо, сахар, – я протянула иронично.
И если бы через месяц разлуки и не общения, как случалось летом, Измайлов начинал казаться мне несусветной гадостью и не вызывал бы никаких эмоций, то с теорией Женьки я бы согласилась.
Только вот он не казался.
– Ага, сахарный… – она выдохнула зло, – козёл он.
– Не начинай.
– Да-да, идеального Кена трогать нельзя, я помню, – Енька, закатывая глаза, фыркнула воинственно, сказала тут же и без перехода. – Князеву перевод с повышением предлагают. В Красноярск.
– Куда⁈
Изумлять моя сестра всё же умела.
Она умудрилась парой фраз выбить из головы все переживания-страдания о сложностях любви и чувств. И думать после её слов получилось лишь о том, что уехать в Красноярск, за много-много километров от меня, она может.
Бросит.
А я… я привыкла ездить по выходным к ней, к Жеке, который в наш дом вписался органично и укоренился прочно. Я привыкла, что дежурства мы вместе берем и по вечерам, когда затишье и приглушенный свет в пустых коридорах, мы сплетничаем обо всем и всех.
Обсуждаем, что за неделю произошло.
– Он ждёт моего решения, – она, поворачиваясь ко мне, улыбку вымучила, не скрыла ею страх и растерянность, – а я… я думаю, что, может, так будет лучше.
Новое место, новая жизнь.
Не Аверинск, в котором каждая собака знает и обсуждает. И новую порцию сплетен, когда Женька с Князевым забрали девчонок, многие получили. Интересовались, выражая удушливое участие, как решились на такое и как живется. Они, люди, восхищались героическим поступком, ужасались тяжёлой судьбой бедных деточек и совались, напоминая и бредя душу, к ним с сочувствием, от которого тошно тоже было.
Или за спиной, если не хватало смелости, шептались.
И дети, которые на площадках вслед за родителями что-то да повторяли. И в драку, когда её назвали детдомовской, Анька раз ввязалась.
– А дом? – я спросила тихо.
Пожалуй, тоже растерянно.
Что будет с ним, с ненавистным, но таким привычным ежегодным огородом, с… рябиной и яблонями под окнами, которые каждый май белоснежным облаком цветут, а по осени горят алые гроздья?
– Не знаю, – плечами Енька пожала беспомощно. – Я маме рассказала, только… она тоже пока не знает. Может, пришла пора… его продать?..
В ту ночь Гарин нашёл меня на веранде, в огромном потертом кресле, в котором фотографии, периодически размазывая по щекам текущие слёзы, я перебирала. Разглядывала старые-старые снимки, на которых дом был ещё не перестроен.
А я совсем мелкой.
И бабушка тогда ещё была жива.
– Я тебя потерял, – Гарин, сонно щурясь, стоял босиком.
В спортивных брюках и накинутой, ещё дедовой, рубахе, которую после бани Женька ему торжественно выдала, заявила весело, что Савелия Игнатьевича до размеров Князева я ещё не откормила, а потому дедова налезет лучше.
Спорить с ней я не рискнула.
– Сав, мы, кажется, дом продавать будем, – я, позорно утирая хлюпающий нос, протянула жалобно и невпопад.
Назвала, наверное, первый раз его по имени, сокращенно.
И в кресле, давая место, я подвинулась.
А Гарин устроился, перехватил альбом, чтобы к началу вернуться и в первую же фотографию ткнуть, затребовать ответ, кто это есть.
И рассказ.
И до пяти утра, когда стало совсем светло, а я наконец успокоилась, мы в том кресле просидели, проговорили, пожалуй, первый раз так долго и… о себе, о детстве и о школе, которая особого трепета и ностальгии ни у него, ни у меня не вызывала.
Мы сошлись на этом.
И на том, что в институте куда интереснее.
Мы вспоминали всевозможные то забавные, то просто памятные истории и семью, родных, к которым Гарин между делом и очередной перевернутой страницей в следующие выходные пообещал меня свозить.
Познакомить.
– Давно уже надо было, – это он добавил рассеянно, как мысль вслух.
А я промолчала.
Не возразила, пусть знакомство с его родителями и пугало. Оно было, как по мне, шагом чересчур ответственным и серьёзным.
Тем, который как раз в сторону загса.
Ивницкой, мучая её магазинами и выбором приличествующего наряда, я так и заявила, перебрала в приступе паники все вешалки с платьями на два раза. И необходимость купить новые туфли я определила.
– Калинина, выдохни, – Полька посоветовала ехидно. – И примерь.
Изумрудное платье в меня кинули.
Повздыхали шумно и выразительно, пока я, переодеваясь, громко вещала, что выдохнуть в такой ситуации невозможно, просто немыслимо. Там ведь и родители будут, и сестра самая младшая, которая Маруся.
Именно Маруся, а не Маша.
– А я вечно путаю, Ивницкая!
– А ещё, – она, не проникаясь ни моими воплями, ни высунутым несчастным лицом, отбрила насмешливо, – ты вечно путаешь сочетанное и комбинированное поражение, но Антониади до сих пор считает тебя самой умной в нашей группе. И даже шиной Дитерихса так и не стукнул, хотя грозился.
– Это другое.
– Но ты им, оправдываясь, если что расскажи, только с поправкой на то, что всё же стукнул. С убогих, говорят, спрос меньше…
Ивницкой, швыряя в неё ботинок, хотя бы сочетанное поражение я организовать попыталась, но промахнулась.
Зато, правда, выдохнула.
И, вручая цветы матери Гарина, я улыбалась безмятежно. Не задёргался нервно глаз, даже когда остаться ночевать нам предложили.
Поставили пред фактом.
– А ты первая, с кем Савка тут появиться и остаться решил, – Маруся, не Маша, подловила и обрадовала меня на улице.
На качелях, на которые ото всех после чинного и благолепного завтрака я всё-таки позорно сбежала.
Или не от всех, а… от матери Гарина.
Она, как мне казалось, всем своим родительским сердцем чувствовала и не верила, что её Саву я люблю. Она улыбалась мне, интересовалась, как положено и ожидаемо, планами на жизнь. Она говорила сама, рассказывала вполне так дружелюбно, но в её тёмно-серых глазах мне чудились сомнения.
А, может, отражались мои собственные, ибо ответить быстро и без раздумий, что чувствую к Гарину, я не могла.
Не знала, пожалуй, сама.
Я не хотела задумываться и разбираться, искать ответ ещё на этот вопрос. Мне хватало метаний и терзаний из-за Измайлова, пролитых в квартире Ивницкой слёз, бессонных ночей, обид, рухнувших и вновь воскресших надежд непонятно на что.
Усложнять всё ещё с Гариным… для чего? Если… если условие не спать с другими соблюдать было легко, в загс, как и обещали, меня не звали.
А про любовь мы не заговаривали оба.
Мы просто жили.
Диффундировали, и часть его вещей окончательно поселилась у меня. Мои же теперь были растащены не только между квартирой, домом в Аверинске, Питером и даже квартирой Ивницкой.
Теперь любимую рубашку я могла рыскать ещё и у Гарина.
Или тетрадь с лекциями, что к концу пятого курса посещались уже не особо добросовестно и прилежно, да и пары некоторые без зазрения совести мы пропускали. Основы доказательной медицины, впихнутые в последние числа мая, как раз относились к тем занятиям, которые прогулять было не грех.
Хотя бы один день.
Всё равно на этих основах мы первый и последний раз за все годы играли с Ивницкой в морской бой. И это, пожалуй, было всё, что требовалось знать о важности и интересности данного предмета.
О чём Гарину я и заявила.
Осталась дома с ним, ибо его день из-за перенесенных переговоров свободным от работы вдруг оказался. Организовался посреди недели общий выходной, в который просыпаться можно было долго и неспешно.
Можно было не открывать глаза, чувствуя дразнящие прикосновения губ к обнаженной коже. И притворяться спящей в ленивое и солнечное утро было так увлекательно, пусть улыбка и вырвавшийся стон безбожно выдавали, но…
– Поехали в аквапарк?
– Куда⁈
Глаза от столь экстравагантного предложения распахнулись сами. И на белку с экзофтальмом из «Ледникового периода» я в тот момент была похожа очень.
Точно.
– Ну… – нос, задумчиво морщась, Гарин поскреб каким-то исключительно домашним жестом, который запомнился, вызвал невольную улыбку, – или в цирк. Я, правда, номера с животными терпеть не могу, но там ведь ещё много всего прочего есть. Я фокусников люблю. И гимнастов воздушных.
– Ты? – я, окончательно просыпаясь и садясь в кровати, переспросила недоверчиво.
Подгребла к себе одеяло.
И повыше к шее, игнорируя возмущенный взгляд, натянула.
– Я.
– Да брешешь! – я ляпнула не думая, но искренне.
Слово, далёкое от языка литературного и интеллигентного, вырвалось невольно. Оно прорвалось как напоминание о том детстве, которое мама, печально вздыхая, называла уличным и тяжёлым, а я – лучшим.
Палки-рогатки, фингалы, окрестные хулиганы, что то лучшие друзья, то злейшие враги, и разбитые о щебенку иль асфальт колени.
Мне было что вспомнить.
Или чем удивить.
– Да зуб даю! – Гарин, не моргнув и глазом, выпалил в ответ до невозможного невозмутимо.
Тоже искренне.
Расхохотался.
И к себе, схватив за щиколотку, он потянул, подмял, отбирая одеяло, под себя. И ничего-то спросить-сказать мне больше не дали. И про цирк вспомнилось уже ближе к обеду, когда до кухни мы добрались.
Отыскалась мука и творог, чтобы сырники в приступе редчайшего вдохновения и ещё более редкого желания Алина нажарила. Варил кофе, возникая то с одной, то с другой стороны, Гарин. Он мешал и целовал, распускал, отвлекая, руки. И про цирк, уворачиваясь и марая неидеальный нос мукой, я ему напоминала со смехом.
Только вот… ни в цирк, ни даже в аквапарк мы в тот день так и не попали.
Позвонила Маруся.
– Савка, у меня коллизия жизни! – она, связываясь, как всегда, по видеосвязи, сердитой и волнованной на экране мелькала, кричала. – Я в Москве, рейс отменили, застряла!
– Где⁈
– А мне в четыре надо быть в универе и тест писать!
– Стоп, – Гарин, переставая улыбаться и прислоняясь к столу, приказал строго, спросил требовательно и сухо. – Ты как там вообще оказалась⁈
– Ну… – Маруся, дёрнув себя за зелёную прядь у лица, с торопливой речи сбилась, – у Витьки днюха вчера была, я не могла пропустить… А если тест не напишу, меня на экзамен по истории зарубежки не пустят! И вообще выпрут, пересдач нет…
– И что ты мне предлагаешь? – Гарин, окончательно теряя всё хорошее настроение, поинтересовался мрачно.
– Ты Яковлева хорошо знаешь, может можно…
– Не можно, – он отрезал хмуро, пояснил скорее мне, чем ей. – Он старый, упрямый и принципиальный чёрт. Не договориться.
– Меня убьют…
– А раньше подумать не могла?
– База на тест есть? – я, отбирая телефон и не давая начать полноценные нотации от старшего брата, спросила деловито.
Прикинула, что идея, в общем-то, безумная и рисковая, но… мне нравится. Уже целых пять минут нравится, и деваться никуда она не хочет.
В конце концов, не первый ведь раз.
– Есть, а чего?
– Скинь, – я, игнорируя взгляд Гарина, приказала в его же манере и ледяном тоне, – гляну. Сколько у вас человек сдает? И кто из преподов следить будет? Ваш или как?
У нас вот большая часть тестов писалась при лаборантах, которые знать нас не знали и в лицо не узнавали.
И проще от этого было.
– Человек п-пятьдесят, наверное, – носом Маруся шмыгнула звучно, пояснила расстроено и не особо понятно, – там все пишут.
– Алина, ты чего задумала? – Гарин нахмурился нехорошо.
А я, пролистав и прочитав первые страницы отправленного документа с ответами, улыбнулась широко:
– Марусь, я могу сходить за тебя.
– Ты? Как⁈
– Нет, – Савелий Игнатьевич заявил категорично и грозно, сложил для убедительности руки на груди. – Это невозможно.
– Почему?
– Там почти шестьсот вопросов, – Маруся протянула неуверенно, ещё без надежды, но уже задумчиво.
– И она их две недели учила, – Гарин вставил раздраженно, махнул для наглядности на телефон и изображение сестры. – А ты планируешь за пару часов всё запомнить? И кто тебя в универ пустит? А в аудиторию? Как ты себе всё это представляешь?
– Там будет не три человека, не вычислят.
– У меня студенческий дома, в рюкзаке.
– Вот видишь, в универ я попаду, – возрадовалась под скептическим взглядом я бурно, озвучила план дальнейших действий. – И пока ты за ним ездишь, я всё выучу. Сав, там даже не тысяча вопросов, как раз за четыре часа и выучу, и повторить успею.
– Ты не сможешь, – он процедил холодно.
Уверенно.
Так, что доказать обратное нестерпимо захотелось. Мне упёрлось сдать этот треклятый тест, потому что сделать это я могла, потому что Маруська напоминала мне меня же или Ивницкую и, вообще, ближних спасать надо.
А ещё – самое важное, главное и, ладно, честное – потому что поразить Гарина я хотела. Все черти, сидящие во мне, требовали и толкали произвести на него впечатление, чтоб он восхищался, чтоб знал на что я способна, чтоб… чтоб смотрел восторженно и гордо.