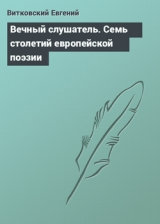
Текст книги "Вечный слушатель"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Соавторы: Джон Китс,Франческо Петрарка,Адельберт Шамиссо,Луи Арагон,Поль Валери,Теодор Крамер,Артюр Рембо,Райнер Мария Рильке,Геррит Ахтерберг,Иоганнес Бобровский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
скамей привычный ряд, —
я чую лишь едва-едва,
что мне за пятьдесят.
Вот рюмку луч пронзил мою,
метнулся и погас, —
я пью, хотя, быть может, пью
уже в последний раз.
Пушок, летящий вдоль стерни,
листок, упавший в пруд,
зерно и колос – все они
по-своему поют.
Жучок, ползущий по стеблю,
полей седой окрас —
люблю, – и, может быть, люблю
уже в последний раз.
Свет фонарей и плеск волны, —
я знаю, – ночь пришла,
стоит кольцо вокруг луны,
и звездам нет числа;
но, силу сохранив свою,
как прежде, в этот час
пою – и, может быть, пою
уже в последний раз.
Шлюха из предместья
Дождик осенний начнет моросить еле-еле;
выйду на улицу, и отыщу на панели
гостя, уставшего после тяжелого дня —
чтобы поплоше других, победнее меня.
Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю,
(за ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),
тихо открою скрипучую дверь наверху,
пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.
Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,
выключу тусклую лампу, разденусь и лягу.
Буду ласкать его, семя покорно приму, —
пусть он заплачет, и пусть полегчает ему.
К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,
тихо заснет он, – а утром уйду я до свету,
деньги в конверте оставлю ему на виду…
Похолодало, – наверное, завтра пойду.
Привокзальное кафе
Ежели ты капиталец собьешь небольшой,
знаешь, поженимся, – и с дорогою душой
вместе оформим расчет, месяцок отдохнем,
снимем кафе у вокзала, устроимся в нем.
Будет открыта все время наружная дверь,
вряд ли кто дважды зайдет между тем, уж поверь.
Я – за хозяина, ты – при буфете, Мари;
кофе, гляди, экономь да послабже вари.
Сервировать побыстрей – это важный момент;
в спешке – любые помои сглотает клиент,
если сидит на иголках, торопится он,
и по свистку на перрон выметается вон.
Фарш – третьедневочный, с булок – вернейший доход —
черствых тринадцать на дюжину пекарь дает;
елкое масло – дохода другая статье;
твердую прибыль тебе гарантирую я.
В зеркало гляну – седеть начинают виски;
груди дряблеют твои, – но пожить по-людски
хоть напоследок мне хочется, так что смотри,
ты уж копи поприлежней, старайся, Мари.
В больничном саду
Куст у чугунных больничных ворот
позднего полон огня.
Я безнадежен, но доктор солжет
чтоб успокоить меня.
Впрочем, врачи сотворили добро,
не колебались, увы,
опухоль снова впихнули в нутро,
ровно заштопали швы.
Цвел бы да цвел бы подсолнух и мак,
длилась бы теплая тишь.
Как прилетел ты, воробышек, так,
милый, назад улетишь.
Сроки исполнятся – канешь но тьму.
Грустно тебе, тяжело.
Глуп человек: неизвестно к чему
рвется, а время – ушло.
Счастье, которое в мире цветет,
видит ли тот, кто здоров?
Очень коричнев гераневый плод,
тиссовый – очень багров.
Вижу, как кружатся краски земли
в солнце, в дожде, на ветру,
вижу курящийся город вдали:
в этом году я умру.
Поздняя песнь
Тропки осенние в росах,
клонится год к забытью,
глажу иззубренный посох,
позднюю песню пою —
знаю, что всеми покинут,
так что в собратья беру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.
Сорваны все оболочки,
горьких утрат не сочту;
там, где кончаются строчки,
вижу одну пустоту.
Ибо истают и сгинут —
лишь доиграю игру —
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.
Родиной сброшен со счета,
в чуждом забытый краю,
все же пою для чего-то,
все же кому-то пою:
знаю, меня не отринут,
знаю, послужат добру
угли, которые стынут,
и дерева на ветру.
* * *
«Осенние ветры уныло…»
Осенние ветры уныло
вздыхают, по сучьям хлеща,
крошатся плоды чернобыла,
взметаются споры хвоща,
вращает затылком подсолнух
в тяжелых натеках росы,
и воздух разносит на волнах
последнюю песню косы.
Дрозды средь желтеющих листьев
садятся на гроздья рябин,
в проломах дорогу расчистив,
ползут сорняки из лощин,
молочною пеной туманов
до края долина полна,
в просторы воздушные канув,
от кленов летят семена.
Трещат пересохшие стручья,
каштан осыпает плоды,
дрожит шелковинка паучья
над лужей стоячей воды,
и в поле, пустом и просторном,
в приливе осенней тоски,
взрываются облачком черным
набухшие дождевики.
Кузнечику
Кроха-кузнечик, о чем на меже
стрекот разносится твой?
Не о подруге ли – той, что уже
встретить не чаешь живой?
Небо висит, как стеклянный колпак,
ужас и тьма в вышине, —
тайну открой: не от страха ли так
громко стрекочешь в стерне?
Кроха-кузнечик, как жизнь коротка!
Видишь, пожухли ростки,
видишь, дрожать начинает рука,
видишь, седеют виски.
Душу напевом своим не трави!
Видимо, сроки пришли:
о, погрузиться бы в лоно любви
или же в лоно земли.
Кроха-кузнечик, среди тишины
не умолкай, стрекочи,
небо и зной на двоих нам даны
в этой огромной ночи.
Полон особенной прелести мрак,
сладко брести по жнивью.
Может, услышит хоть кто-нибудь, как
я напоследок пою.
О горечи
Когда вино лакается беспроко,
ни горла, ни души не горяча,
и ты устал, и утро недалеко —
тогда спасает склянка тирлича.
В нем горечи пронзительная злоба,
он оживляет, ибо ядовит:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
Когда, на женщин глядя, ты не в духе,
и не настроен искушать судьбу —
переночуй у распоследней шлюхи,
накрашенной, как мумия в гробу.
К утру подохнуть впору от озноба,
и от клопов – хоть зареви навзрыд:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
Когда перед природой ты бессилен,
и путь лежит в безвестье и туман —
под вечер забреди в квартал дубилен
и загляни в загаженный шалман.
Обсиженная мухами трущоба,
зловоние и нищий реквизит:
пусть к сладости уже оглохло небо,
однако горечь все еще горчит.
О пребывании один на один
С каждым однажды такое случается: вдруг
вещи как вещи внезапно исчезнут вокруг.
Выпав из времени, все позабыв, как во сне,
ты застываешь, с мгновением наедине.
Наедине с перелеском, с тропинкой косой,
с житом и куколем, сеном и старой косой,
с грубой щетиной стерни, пожелтевшей в жару,
с пылью, клубящейся на придорожном ветру.
С волосом конским, что прет из обивки, шурша,
с пьяницей, что до получки засел без гроша,
с водкой в трактире, едва только шкалик почат,
с пепельницей, из которой окурки торчат.
К злу и добру в равной мере становишься глух,
ты – и волнующий шум, и внимающий слух.
Пусть через годы, но это придет из глубин:
знай же тогда – ты со мною один на один.
Высылка
Барбара Хлум, белошвейка, с пропиской в предместье,
не регистрирована, без пальто, без чулок,
в номере ночью с приезжим застигнута, вместе
с тем, что при ней оказался пустой кошелек.
Барбару Хлум осмотрели в участке, где вскоре
с ней комиссар побеседовал начистоту
и, по причине отсутствия признаков хвори,
выслал виновную за городскую черту.
Мелкий чиновник ее проводил до окраин
и возвратился в управу, где ждали дела.
Барбару Хлум приютил деревенский хозяин,
все же для жатвы она слабовата была.
Барбара Хлум, невзирая на страх и усталость,
стала по улицам снова бродить дотемна,
на остановках трамвайных подолгу топталась,
очень боялась и очень была голодна.
Вечер пришел, простираясь над всем околотком,
пахла трава на газонах плохим коньяком, —
Барбара Хлум, словно зверь, прижимаясь к решеткам,
снова в родное кафе проскользнула тайком.
Барбара Хлум, белошвейка, с пропиской в предместье,
выслана с предупрежденьем, в опорках, в тряпье,
сопротивленья не выказала при аресте,
что и отмечено было в судебном досье.
Марта Фербер
Марту Фербер стали гнать с панели —
вышла, мол, в тираж, – и потому
нанялась она, чтоб быть при деле,
экономкой в местную тюрьму.
Заключенные топтались тупо
в камерах, и слышен этот звук
был внизу, на кухне, где для супа
Марта Фербер нарезала лук.
Марта Фербер вдоволь надышалась
смрада, что из всех отдушин тек,
смешивая тошноту и жалость,
дух опилок, пот немытых ног.
В глубину крысиного подвала
лазила с отравленным куском;
суп, что коменданту подавала,
скупо заправляла мышьяком.
Марта Фербер дождалась, что рвотой
комендант зашелся; разнесла
рашпили по камерам: работай,
распили решетку – все дела.
Первый же, еще не веря фарту,
оттолкнул ее, да наутек, —
все, сбегая, костерили Марту,
а последний сбил кухарку с ног.
Марта Фербер с пола встать пыталась;
воздух горек сделался и сух.
Вспыхнул свет, прихлынула усталость,
сквозняком ушел тюремный дух.
И на скатерть в ядовитой рвоте
лишь успела искоса взглянуть,
прежде, чем в своей почуять плоти
рашпиль, грубо распоровший грудь.
Рыба с картошкой
Горстка рыбы с картошкою, полный кулек
на три пенса, – а чем не обед?
Больше тратить никак на еду я не мог,
уж таков был семейный бюджет.
Я хрумкал со вкусом, с охоткой,
и крошки старался поймать,
покуда за перегородкой
так тягостно кашляла мать.
Горстку рыбы с картошкою, полный кулек,
принесла ты в кармане своем,
помню, тяжкий туман в переулках пролег,
было некуда деться вдвоем.
И, помню, в каком-то подъезде
мы были с тобою в тот раз —
дрожали рисунки созвездий
и слезы катились из глаз.
Горстка рыбы с картошкой в родимом краю —
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкою в память мою
и, пожалуй, закрасьте пивком.
Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?
У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.
Пустошь
В дни, когда высыхает растаявший снег,
и друг другу леса шелестят по-старинке —
выделяется пустошь средь пашен и нив,
где лишь овцы порою пройдут, наследив
на траве худосочной, на чахлом суглинке.
Плуг на пашне ворочает комья земли,
на холмах издалека видна суматоха, —
но и пустошь еще не иссохла вконец,
зной палит – и на ней расцветает багрец
оперенного звездами чертополоха.
По ночам здесь царит величавый осот,
и толкаясь, топочет по глине отара,
утром – посох пастуший гоняет гадюк,
полдень сух и горяч, – лишь под вечер вокруг
нераспаханный грунт остывает от жара.
Только осенью пустошь привольно цветет:
бук теряет листву, и взлетает в просторы
клекот грифов, кузнечиков мерный напев,
и на горной тропе дождевик, перезрев,
рассыпает горячие черные споры.
Перед рябиной
Остекляневших небес потолок,
рдяная кисть у развилки дорог:
мак дозревает и жатвина мокнет,
только рябина горит и не блекнет.
Ссохлась улитка, заснула пчела,
изморозь мясо плодов проняла,
ум над оградой тягуч, одинаков —
шорохи гусениц, посвисты шпаков.
Бьет паутинку осенний озноб,
ищут покоя вьюнок и укроп,
вот и рябина уходит далече,
рдяные гроздья взваливши на плечи.
Тихо коробочка мака жужжит.
В смерти – рожденье. Вьюнок задрожит,
ягоды вспыхнут, пшеница поляжет,
все это знают, а кто-то расскажет.
Возле развилки дорожной стою
перед рябиной, на самом краю —
короток век мой… Погибну ль напрасно,
или же вспыхну рябиною красной?
Кладбище безымянных
Где на равнину свернула речная струя,
где обросли тополями дороги края,
бедное кладбище путник в лощине найдет:
низкий забор, проржавелые створки ворот.
Только кресты украшают могил бугорки,
на перекладинах нет ни единой строки.
Будто, нахлынув, все надписи смыла вода.
Имя утратив, заснули они навсегда.
Здесь и тщедушный, и сильный навеки затих.
Бабы брюхатые, дети во чреве у них.
Все, что тревожило, мучило или влекло —
было что было, – на свете пришлось тяжело.
В гальке у берега много косматой травы,
доброй к живущим и ласковой к тем, кто мертвы;
кладбище в зелень настойчиво прячет бурьян.
Хрипло кричит на болотистой пойме баклан.
Только крестьянин молитву порою прочтет,
выждет минуту и снова свой плуг поведет.
Места довольно для каждого, и в тишине
светятся воды, и город на той стороне.
Трактир у реки
Над недвижным руслом старицы, куда
затекла весною и цветет вода,
у начала тракта, к насыпи впритир —
деревянный, ветхий уцелел трактир.
Выкрашена в зелень каждая доска,
прямо под террасой – топкая река,
к обомшелым сваям вот уж сколько лет
тянется последним стеблем очерет.
Здесь уху в охотку ест рыбачий люд,
городские тоже ужинать идут,
отдыхают, глядя на нехитрый скарб:
не в урон карману запеченный карп.
Задевая гравий, прочь ползет баржа,
наплывает вечер, тишина свежа,
и река струится между берегов,
отделив собою город от лугов.
О вине, быть может, белом и сухом
кто-нибудь и скажет – мол, шибает мхом, —
это – с непривычки: не сгубить вина
зеленью и сладкой плотью сазана.
Ты с рыбачьим краем слит сейчас в одно:
старица, трактирщик, местное вино,
женщина напротив, – только все белей
полоса тумана от глухих полей.
* * *
«Мы, разделившие с пылью летящей судьбу…»
Мы, разделившие с пылью летящей судьбу,
мы, у которых начертана гибель на лбу,
мы у которых и общего – разве что цель,
все-таки многого алчем и жаждем досель:
хлеба от хлеба, который без нас испекли,
плоти от плоти (как мы стосковались вдали!),
силы от силы, что стала добычею тьмы,
места от места, с которого изгнаны мы.
Мы, что все время сбивались с прямого пути,
свято желая хоть что-то святое найти —
окаменели сердцами, никто не припас
времени на доброту и на мудрость для нас.
Сделай же так, чтобы сгинула наша беда,
минула горечь… Мы скоро уйдем в никуда:
хлеба нам дай и вина, на тропу отведи,
и, наконец, беспощадным судом не суди.
Альфред Гонг
(1920–1981)
Любящие
Сегодня у них – ни луны, ни балкона,
им страшен в гардинах малейший шорох.
Молча, в обнимку, лежат, ожидая
полночной смерти на мягких рессорах.
Лежат и зябнут, сцепивши руки,
веки смежа, ничего не желая.
(О как прежде сияла луна над постелью!..)
Славься, матерь-земля, славься, мачеха злая!
Под ливнем звезд разрастается громом
цикад и лягушек оркестр вековечный.
Лежат, обнявшись, молчат стесненно.
Каждое сердце – молот кузнечный.
Лежат, ожидая приезда смерти,
все прочее слуху чуждо, и зренью.
Последнее чувство живое – голод,
навеянный вянущею сиренью.
Так умирает человек
Благо тому, кто легко умрет,
благо тому, кто в постели умрет,
сладко заснет, никогда не проснется.
Благо мухе, погибшей в бокале крюшона.
Не дойдя до постели, до седины не дожив,
умирают, бывает, в воздухе, на воде,
бесследно ушедших земля поглощает,
и нет ни надгробия, ни эпитафии.
Умирают на колесе и в печи,
умирая, идут муравьям на прокорм,
умирают в песке, в снегу;
по именам даже ветер умерших не знает.
Благо мухе, погибшей в бокале крюшона.
Горе мухе, завязшей на липкой бумаге.
Горе мухе, которой ребенок, играя,
обрывает крылья и лапки,
и потом забывает ее на окне.
Боэдромион
Еще хоть однажды
произнести: «Сентябрь» —
вспоминая любой сентябрь
из числа пережитых.
Кувшин на пороге.
От петли к косяку
тянется паутина. Ступай
домой и выстукивай знак:
«Сентябрь».
Уже пушинки парят
над тлеющим терном.
Скоро твоя перчатка сочтет
пустые гнезда.
Потом иди. Не прощаясь, иди
дальше, вперед – и вернись.
Кто в сентябре – сентября
не избегнет, останется здесь
на сто лет за решеткой.
Вырвись. Брось.
Сотри это сонное слово:
«Сентябрь».
Американцы
Приходили они, приходили
иная зелень в их краях,
другой туман —
приходили они, оставались:
здесь была свобода молиться
своему Богу,
и свобода – деньгам.
Приходили они, оставались,
вносили в здешнюю тишину
слово наших широт
тащили мы, словно горбы, наши воспоминанья:
октябрь – ты, охотничий рог в Уэльсе;
крылья мельницы где-то под Бредой,
мешочек кастильской земли,
Священное Писание, – а на форзаце
родословное древо:
«Адам Дирлам зачал двое сыновья…»
Мы грезили, мы оставались.
В едином тигле плавилось преходящее.
В едином тигле возникала разливка:
народ, жесткий, несокрушимый
как его мечта о свободе,
о праве быть счастливым —
весна в Калифорнии, ее смех,
соль Атлантики в поцелуях,
жемчуг манхаттанского неона в зрачках,
мощь техасских ковбоев в ее кулаке,
неисчерпаемая, как полоса Ниагары, —
чело поднимается утру навстречу,
слушает зов чужих созвездий.
Ингеборг Бахман
(1925–1973)
Об одной стране, об одной реке и о многих озёрах
I Следы того, кто шел изведать ужас,
шел от страны, потока и озер
подсчитываю, ибо их завьюжит,
Бог ведает, в какой умчит простор.
Я числю все этапы одиссеи,
что всем иным скитаниям сродни, —
но странник знает: близ отар овечьих
недвижно волчьих глаз горят огни.
Он навсегда с волной покончил счеты,
которая пророчила беду,
над морем колыбель его качая, —
но все же видел он свою звезду.
Он шел, впивая зрением и кожей
шмелиный звон и всплески птичьих крыл,
воскресный день был всех ему дороже,
любой ушедший день – воскресным был.
Он тяжко шел проселочной дорогой,
на магистраль не выйдя никогда,
он шел к озерам, и их первичной глади,
где отвечала возгласам вода.
Но семь камней семью хлебами стали;
Он шел сквозь ночь, сомненьями томим,
лишь осыпая на дорогу крошки,
для тех, кто сгинул, следуя за ним.
Опомнись! Ты бывал уже повсюду:
на родину вернись при свете дня.
О время, ты, которому не время!..
Забытое – тревожит вновь меня!..
II Колодец. Авансцена воскрешенья,
обязан пастор проповедь прочесть.
Курить нельзя, – грядущего спасенья
достойны Тело, и Добро, и Честь.
Стоит река, ракиты отражая,
и «скипетры» цветут, ломясь в сады, —
уже на стол обед обильный подан,
и час молитв окончен для еды.
Дела отложены; грядут, чаруя,
часы послеобеденного сна, —
легко звенит начищенная сбруя:
лошадка нынче не утомлена.
Хозяева лежат в покоях душных,
в руке – Писанье, на устах – печать;
их сыновья, к работницам, как ливень
сходя, готовы сыновей зачать.
Утолены желание и греза,
тишь паутиной виснет по двору,
и окна дышат запахом навоза,
плывущим от околиц ввечеру.
Вот сумерки: шумят, хохочут где-то;
как роза, облетает тишина,
безумит ветер красные корсеты,
и кошки пробуждаются от сна.
В туман уходят по двое, и тени
скользят с холмов недальних по стране,
и, землю обхватив, стерильный месяц
проводит с нею ночь наедине.
III У скал – руину каменного замка
еще пока уберегла судьба,
над аркою ворот сжимает коршун
тяжелый щит державного герба.
Там трое мертвых есть за бастионом:
один власами овевает рвы,
другой швыряет бешено каменья,
еще у одного – две головы.
Кого коснется долгий черный волос —
убийцей станет; возожжет вражда
пожар по их приказу – и погибнешь
еще до песни черного дрозда.
Босые духи бродят в зубьях башен,
в темницах – тени: жертвы, палачи.
Автографы туристы оставляют,
но имена скрываются в ночи.
Однако трое втайне строят планы:
когда ледник в предел отступит свой,
поставить насыпь над грядой моренной,
пробить туннель сквозь камень меловой.
Постройка замка – в прошлом: мир подлунный
в те годы был еще горяч и юн,
был высший низшим, но и низший высшим.
Над синей трещиной висит валун.
Мечту пески времен заносят снова,
грядущее по-прежнему старо.
И все же на околыш ты приколешь
альпийской птицы белое перо.
IV В других одеждах жили мы когда-то:
я – в хорьих шкурках, в мехе лисьем – ты.
Еще дотоле – жили мы в Тибете
как мраморные снежные цветы.
Стояли мы без времени, без света,
кристаллами, – но в снеговой пыли,
ответствуя ознобу жизни внешней;
при первой же возможности – цвели.
Мы шли сквозь чудо, новые одежды
на смену старым покрывали нас,
мы пили соки каждой новой почвы
И знали, что приходит светлый час.
Храбры мы становились, как дельфины
как пух, легки, текучи, как вода,
Мы были то мертвы, то снова живы,
(но не были свободны никогда!)
Мы расцветали в каждом новом теле,
сулил нам счастье каждый новый плод.
(Но о тебе с тобой не говорила
я, ибо камень птицу не поймет).
Меня любил ты. Я любила тоже
прижаться телом к телу твоему,
и ночь тебе отдать, не вопрошая.
(Нет, ты не любишь! Зренье ни к чему).
И мы вошли в страну, отныне нашу,
судьбу связавши с ней и разделя.
Твои ладони раковиной были,
в которой умещалась вся земля.
V Откуда же границы вдруг возникли
кто проволокой окружил леса?
По дну ручья запальный шнур протянут,
из чащи взрывом изгнана лиса.
Кто знает, что в горах они искали?
Слова? Но их не выдадут уста,
они прекрасны на любом наречье,
их погубить не сможет немота.
Хлеб разделен у пункта пропускного, —
лишь два шага – и ты уже вдали:
граница жестко лечит ностальгию
пригоршней неба и комком земли.
Все это прежде было, в Вавилоне:
на твой вопрос певучий – мой ответ
звучал гортанно, – пусть конец раздору
сулил пророк, покинув Назарет.
Подавши знак – внимай ответным знакам,
отыскивай предметам имена;
едва ли снег – всего лишь прах небесный,
снег это в той же мере тишина.
Раздельность наша – общее несчастье,
вдоль воздуха начертанный разрез.
Листвы предел и воздуха границу
стирает ветер на шатре небес.
Границы между нами исчезают,
пускай в словах еще живут пока —
но всякому воздастся по заслугам,
когда придет по родине тоска.
VI Ножи с утра поют, прильнув к точилу,
забой скота: утеха велика,
и ветер гладит заскорузлый фартук
готового к работе мясника.
Веревка стянута – язык наружу,
спадают хлопья пены с бычьих морд,
сосед готовит соль, душистый перец,
уж он-то видит: туша – высший сорт.
Примета есть, что мертвецы легчают.
Здесь жизни жизнь всерьез и не впервой
– кто ныне взвешен, тот не защитится! —
решительный удар наносит свой.
И тотчас же, до трапезы дорвавшись,
к кровавым лужам припадают псы,
покуда те не станут черной коркой
в ближайшие вечерние часы.
И кровь тогда твои окрасит щеки,
твой первый стыд, и мысли о судьбе:
кровавый ливер ясно повествует
о будущем твоем – тебе, тебе.
Вот вырезка, вот кости мозговые,
а вот ты сам: у вас удел один.
Одежду предков на забытой прялке
затягивают нити паутин.
Глаза возводишь – прочь уходят годы,
тускнеют быстро юных лиц черты,
стоят в веночках из цветов поддельных
над бойней деревянные кресты.
VII С утра под праздник вся семья помылась,
дом выскоблен снаружи и внутри,
и от соломинок в руках детишек
блестящие взлетают пузыри.
Село танцует: веселятся маски,
наряжены пшеничные снопы
в знак завершенья сбора урожая,
и музыка плывет поверх толпы.
Гармоника губная дудке вторит.
Ночь, как топор, обрушится вот-вот.
Горбун дает свой горб на счастье тронуть
любому, и мечтает идиот.
Горит костер, труды и дни венчая:
и семена, и искры сообща
взлетают к звездам, к месяцу – с надеждой,
вознагражденья в небесах ища.
А в ельнике – стрельба; шальная пуля
свистит, кому-то череп раскроя,
и этот кто-то падает, и тело
в себя приемлет рыхлая хвоя.
Прощальный танец и жандармов топот
окутаны густеющею тьмой,
и скорбно через поросль можжевела
бредет последний пьяница домой.
Во мраке жутко плещутся гирлянды,
бумажный шорох длится без конца,
по опустевшим лавкам бродит ветер
и шелестит оберткой леденца.
VIII Не выдумала ль я озера эти
и реку! С горным кряжем – кто знаком?
Идущий семимильными шагами
возьмет ли карлика проводником?
Ты хочешь знать и материк, и адрес?
Возьми упряжку лучшую свою,
но, даже целый свет в слезах объехав,
ты в этом не окажешься краю.
Так что зовет нас, в жилах ужас множа,
когда цветы цветут со всех сторон?
Кровь тишиной наполнена – но грозно
грохочет погребальный перезвон.
Что нам слепые окна сел забытых,
парша, овчина, выдел старику?
Нам все, что чуждо, повстречать вплотную
еще придется на своем веку.
Что нам ночные лошади и волки,
огонь в горах и рога трубный глас?
Мы шли к иным, совсем несхожим целям,
совсем иное убивало нас.
И нам в конце концов, какое дело
до звезд, до багровеющей луны?
Покуда страны рушатся и гибнут,
мы, как мечта, в себя обращены.
Закон, порядок – есть ли в самом деле?
И лист, и камень – в чьей найдем руке?
Они сокрыты просто в нашей жизни
и в языке…)
IX Вот брат идет, боярышникоокий,
в руках – птенцы: изловлены живьем.
Вот черный дрозд летит, шныряя рядом,
и стадо к дому гонит с ним вдвоем.
Он вьет гнездо когда и где захочет,
ему ничто в пути не тяжело,
без разрешенья заночует в стойле
и скакуна присмотрит под седло.
Он клюв опустит в розовое масло,
в его глазах порозовеет свет.
Он запоет, послушный счастью жизни,
Взметнувши в ночь пушистый силуэт.
«Так спой же, птица, спой о днях далеких!»
«Немного обожди – и я спою».
«Запой, запой, сотки ковер из песен,
И улетим на нем в страну твою.
Используй миг, когда рокочут пчелы,
Мир ангельский теперь открыт для глаз».
«Спою, спою! Но время на исходе.
Засни! Уже настал вечерний час».
В долбленых тыквах свечки замерцали,
слуга с кнутом выходит – и тогда
внезапно, злобно настигает гибель
уже запеть готового дрозда.
Трепещущую плоть проколют вилы,
и будут крылья срезаны косой,
у спящего меж тем – до пробужденья
зальется сердце розовой росой.
Х В стране стрекоз, в стране озер глубоких,
где годы исчерпались и ушли,
он призовет явиться дух рассвета
и лишь потом отыдет от земли.
Он выкупает в травах взор прощальный,
затем, готовясь к позднему пути,
захочет он – и сможет невозбранно
гармонику и сердце унести.
Сбродилось в бочках яблочное сусло,
и ласточки летят на юг, спеша.
Осенний тост – за караваны птичьи,
за то, что далью пленена душа.
Закрыв часовню, мельницу и кузню,
минуя кукурузные поля,
он прочь идет, початки обивая —
уже почти в разлуке с ним земля.
Клянутся братья и клянутся сестры,
что с ним союз навеки сохранят,
венок с волос репейный каждый снимет,
уставя в землю пристыженный взгляд.
Вот птичьи гнезда опадают с веток,
огонь в листве уже свое берет,
и ангел-бортник безнадежно поздно
разламывает в синем улье сот.
О ангельская тишь осенних нитей,
покоя беспредельного наплыв —
где, скованный невидимою цепью,
стоишь, у входа в лабиринт застыв.
Из немецких поэтов Люксембурга
Поль Хенкес
(1898–1984)
Для И. фон Т
Твой щит уже исчез в пучине мрака,
твоей короны больше нет с тобой,
однако блещет искрами Итака
и лепестками пенятся прибой.
О бронзовый прилив, о грандиозный
расплесканного устья летний вал —
о, как в твоей крови тяжелозвездной
он что ни ночь томительно вставал!
Блаженный остров угасает в дымке,
Над стадом волн звучит осенний клик;
поскуливают ветры-невидимки
там, где пропал священный наш родник.
Источник мертвых – помнишь ли, как сладко
припасть устами было к роднику?
Нас гонят волны в ярости припадка
к закованному в лед материку.
Твой щит во тьме, и холод все кристальней,
твоя корона канула в снега,
и лишь для нас блистает остров дальний,
где взысканы богами берега.
О бронзовый прилив, торящий тропы,
о в пену облаченная тоска!
Ты избираешь участь Пенелопы
затем, что все еще сильна рука
Из собственных волос неспешно, сиро
ты ткешь пеле́ны – и не жаль труда.
Звереет шторм, на небе гаснет Лира,
меж волн скользят иссохшие года.
* * *
«Сброд хихикает и зубоскалит…»
Сброд хихикает и зубоскалит
и глаза сквозь щели масок пялит:
что-то воздух слишком чист вокруг.
Полубог, не вычистив конюшен,
вдруг становится неравнодушен
к. прялке женской – и ему каюк.
Клык уже наточен вурдалачий,
книги изувечены, тем паче
что и время книг давно прошло!
Сквозь ячейки полусгнивших мрежей
рвут венок, еще покуда свежий,
увенчавший мертвое чело.
Живодерни, свалки – в лихорадке,
чудеса, виденья – все в достатке,
есть жратва для волка, для свиньи.
Нет у мертвых на защиту силы,
и они выходят из могилы,
чтоб живым отдать кресты свои.
* * *
«В прошлом цель была у вас благая…»
В прошлом цель была у вас благая:
жить, священный факел сберегая,
где частица вечности цвела,
но властитель, пьян своею силой,
не прельстился искоркою хилой
и огнище вытоптал дотла.
Вы теперь – жрецы пустого храма,
мнетесь у треножников, упрямо
вороша остылую золу,
на бокал пустой косясь несыто,
слушая, как фавновы копыта
пляску длят в ликующем пылу.
Мчится праздник, всякий стыд отринув…
Так лакайте из чужих кувшинов,
дилетанты, уж в который раз —
каплям уворованным, немногим
радуйтесь – и дайте козлоногим
в пляске показать высокий класс!
Посягнув на творческие бездны,
мните, что и вам небесполезны
миги воспаренья к небесам, —
зная пользу интересов шкурных,
в гриме вы стоите на котурнах
и бросаете подачки псам.
Вы стоите, сладко завывая,
плоть же ваша, некогда живая,
делается деревом столпа —
тумбой, чуть пониже, чуть повыше;
и на вас расклеены афиши,
коими любуется толпа.
Не пытаясь вырваться из фальши,
вы предполагаете и дальше
сеять в мире лживую мечту —
что ни день смелея и наглея,
прикрывая при посредстве клея
вашей нищей жизни наготу.
* * *
«Мак пылает средь небес…»
Мак пылает средь небес,
к сумраку готовясь, —
ты венок прикинь на вес,
он сплетен на совесть.
Ночь пасет своих коней,
в долы тени бросив, —
голова твоя темней
налитых колосьев.
Мчит полевка от тропы,
жизнь спасти не чает, —
твой венок острит шипы,
сохнет и легчает.
* * *
«Детство, пыльца неясных догадок…»
Детство, пыльца неясных догадок…
Плотная синь, что в эти часы
первой тоски обрывает листву;
остров, где запах горькой полыни
одновременно тернов и сладок —
радость огромна, короток срок…
Мчится вершина фонтанной струи,
звонко вонзаясь в пенный закраек;
тесен мир и все же чудесен —
счастлив, кто зреет с ним заодно…
Копится сила сердца – в пучине,
пробует грезу – на вкус, наяву;
зелень ликует, взбираясь на дюны
по изначальному плану творца, —
чудо, чудо в каплях росы,
нежно скользящих с ресниц богов…
В небе – смотри – сверкающий рог
медленно в круг превращается лунный,
хмурит, как водится, брови свои,
вот они, промельки будущих чаек, —
сердце, о, как тебе много дано!
Или же это – начало конца?..
Остров тоски, ты построен из песен,
в робости первых, неловких шагов.
* * *
«Терпишь ты, чтоб человечья сволочь…»
Терпишь ты, чтоб человечья сволочь
на тебя лила то яд, то щелочь —
новый жрец у старых алтарей, —
в тайных клеймах огненного знака
ты, Земля, становишься, однако,
только терпеливей и мудрей.
Отдавать приказы – наше дело:
вот машина тяжко загудела,
сотворить, отштамповать, спеша,
чашку, плошку, миску или блюдо —
но иного, дивного сосуда
втайне алчет жадная душа.
Но следишь ты, чтоб железный коготь
тайн твоих не смел вовеки трогать,
ты караешь нерадивых слуг,
в грубом коме проступает личность,
глина признает души первичность,
и покорствует гончарный круг.
Мощь бойцов, чьей жизни песнь допета,
слезы страсти, от начала света
почву орошавшие твою,
девушек тоскующие взоры —
все вместится в контуры амфоры,
дивно возвратится к бытию,
чтобы даже нищие могли бы
хлеба досыта вкусить и рыбы,
и вина любви испить могли,
чтоб святыней стал кувшин невзрачный,
воссиял бы в лаврах полог брачный
в миг слиянья неба и земли.
* * *
«От родословного древа бревно…»
От родословного древа бревно
осталось в прокорм короедам.
Замку былая слава давно
кажется дурью и бредом.
У поместья – мелко нарезанный вид:
кредиторская юмореска.
Мамона здесь безраздельно царит
с Музой в виде довеска.
Зал ресторанный, рояль, контрабас,
скрипичная легкая пьеска;
хозяин с бутылками с глазу на глаз
беседует долго и веско.
В башне разрушенной ветра фальцет
мается песнью последней.
Дров для камина, понятно, нет —
там тлеет косяк из передней.
Две мейсенских чашки, мертвый брегет,
бархатная занавеска.
Живет виденьями канувших лет
безумная баронесска.
Ей грезится первый ее менуэт —
о, как волшебно, как смело
она бы исполнила, сев за спинет,
Моцарта, Паизьелло!..








