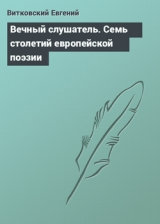
Текст книги "Вечный слушатель"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Соавторы: Джон Китс,Франческо Петрарка,Адельберт Шамиссо,Луи Арагон,Поль Валери,Теодор Крамер,Артюр Рембо,Райнер Мария Рильке,Геррит Ахтерберг,Иоганнес Бобровский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
у саней отставала оковка полозье,
старики говорили, что, мол, никогда
не случалось такие видать холода.
Ветер льдисто хрустел в человеческом горле,
батраки простужались и наскоро мерли,
задубевший, обглоданный труп оленька
отыскался у самых дверей кабака.
Звезды, вестники долгой морозной погоды,
озирали озимых убитые всходы,
виноградники, сгинувшие в холоду,
и озерную гладь, что лежала во льду.
В полыньях, не умея добраться до суши,
били крыльями и примерзали крякуши,
и любой, кто решался дойти по снежку,
их легко набирал по мешку.
Зимняя оттепель
Выдается тепло в середине зимы:
застилается все пеленой дождевою,
оживают ручьи этой странной порой,
и топорщится жнива стернею сырой,
и гуденье идет сквозь еловую хвою.
Отступают снега, и увидеть легко,
как под паром покоятся мрачные зяби,
как на старых покосах гниют клевера,
как погрызена зайцами в рощах кора,
ибо дочиста съелись остатки кольраби.
Сучья, стужей отбитые, наземь летят,
свекловица, что на поле сложена с лета,
раскисает и пенится, бурт за буртом,
чтобы смрадом горячим окутать потом
чуть обсохшие ветви кустов бересклета.
Что ни день, то хозяйству разор да урон;
мокнут ветошь и пакля под черной соломой;
от села до села – непролазная грязь,
и в тумане плывет, все мрачней становясь,
солнца, странно разбухшего, шар невесомый.
Майские костры
Приходит май, и в час ночной
чисты под кряжем небеса;
но ударяют холода,
и вот – кристалликами льда
впотьмах становится роса.
Протяжно рогу вторит рог,
тревогою звучат они:
спешат на склоны сторожа,
и разгораются, дрожа,
вкруг виноградников огни.
Затем в долины дым ползет,
отходит холод в высоту;
огонь мужает, – вот уже
теплеет от межи к меже,
где дремлют дерева в цвету.
Туманя кипень лепестков
высоких, озаренных крон,
спасенье гроздьям молодым
приносит сладковатый дым,
струящийся со всех сторон.
Летние тучи
В самый жар, в тишине разомлевшего дня,
на мгновение солнце закатится в тучи, —
и мрачнеют луга и, во мгле возлежа,
долговязой крапивой трепещет межа,
и ознобом исходят окрестные кручи.
Обрывается в роще долбежка желны,
колокольцы отары молчат виновато,
лишь ракитовый куст зашумит невзначай,
да протянется к небу сухой молочай,
увязающий комлем в земле кисловатой.
Выступает тягучими каплями сок
на репейниках в каждой забытой ложбине;
все дряблее межа, бузина все мертвей,
как чешуйки, жучки опадают с ветвей
и, запутавшись, мухи жужжат в паутине.
Даже осенью почва куда как жива
по сравнению с этой минутой в июле:
прогибаются тучи, и видно тогда,
как в забытом пруду загнивает вода,
где на ряске стрекозы от зноя уснули.
* * *
«Угрюмо сорняком обсажен черным…»
Угрюмо сорняком обсажен черным,
дремал в долине переложный луг,
неспешно заволакивался дерном,
и с голоду над нам орал канюк.
Дотаял снег и обнажил суглинки —
все борозды, что некому полоть, —
Как жалкий ворс, топорщились травинки,
а воздух все светлел, до мая вплоть,
пока не приключился день дождливый, —
для сорняков настала благодать:
понаросло полыни и крапивы,
да так, что даже почвы не видать;
цвела пастушья сумка, стебли спутав,
грубел чертополох, и без конца
висел над логом крик сорокопутов,
расклевывавших заросли горца.
В осиных гнездах умножались соты,
неукротимо крепли сорняки, —
и местности обычный дух дремоты
навеивали только сосняки, —
осотом щеголял любой пригорок,
кружили семена и мошкара, —
и диковато, как полночный морок,
смотрели из лощинок хутора.
* * *
«Трясинами встречала нас Волынь…»
Трясинами встречала нас Волынь,
пузырчатыми топями; куда
ни ткни лопатой, взгляд куда ни кинь —
везде сплошная цвелая вода.
Порою тяжко ухал миномет,
тогда вставал кочкарник на дыбы;
из глубины разбуженных болот
вздымались к небу пенные столбы.
Угрюмый профиль вязовой гряды
стволами оголенными темнел
у нас в тылу, и черный блеск воды
орудиям чужим сбивал прицел.
Позиция была почти ясна;
грязь – по колено; яростно дрожа,
сжирала черной пастью глубина
все робкие начатки дренажа.
В нее, как в прорву, падали мешки,
набитые песком, и отступил,
покуда кровь стучала нам в виски,
кавалерийский полк в глубокий тыл.
Мы пролежали до утра плашмя,
держась над черной топью навесу,
и до утра, волнуя и томя,
пел ветер в изувеченном лесу.
Винтовки в дыму
В конце дневного перехода
по склону вышли мы к селу;
на виноградню с небосвода
ночную нагоняло мглу.
Зачем не провести ночевки
средь шелковиц и старых лоз?
И пирамидами винтовки
поставил в темноте обоз.
И, отгоняя горный морок,
костер сложили мы один
из лоз, из листьев, из подпорок,
из обломившихся жердин;
рыдая глухо, как с досады,
на пламя ветер злобно дул,
почти лизавшее приклады
и достававшее до дул.
Одну усталость чуя в теле,
сейчас от родины вдали,
уже не думать мы умели
о горестях чужой земли, —
мы грелись им, необходимым
теплом обуглившихся лоз,
и веки разъедало дымом,
конечно, только им, до слез.
Ночь в лагере
Часовой штыком колышет,
с хрустом шествуя во мраке,
нездоровьем вечер пышет,
наползая на бараки.
приближая час полночный,
тени древние маячат;
у канавы непроточной
с голодухи крысы плачут.
Полночь проволоку ржавит,
шебурша ночным напилком,
и патрульный не отравит
жизни мошкам и кобылкам, —
ну не странно ли, что травы
зеленеют с нами рядом,
там, где грозные державы
позабыли счет снарядам!
Слушай, как трещат семянки!
Чтоб рука не горевала,
тронь винтовку, и с изнанки
проведи вдоль одеяла:
чуток будь к земному чуду, —
память о добре вчерашнем
дорога равно повсюду
и созвездиям, и пашням.
Лошади под Деллахом
У полка впереди – перевал, и пришлось
избавляться в дороге от пушек тяжелых, —
а купить фуража – на какие шиши?
Интендант покумекал и стал за гроши
продавать лошадей во встречавшихся селах.
По конюшням крестьян началась теснота,
ребра неуков терлись о дерево прясел, —
но в зазимок поди, прокорми лошадей, —
становились они что ни день, то худей,
и глодали от голода краешки ясель.
Позабыв о грядущих вот-вот холодах,
воспрядали от сна оводов мириады,
чуя пот лошадиный, и язву, и струп,
и клубами слетались на храп и на круп,
сладострастно впуская в паршу яйцеклады.
На корчевку, на вспашку гоняли коней, —
словом, жребий крестьянской скотины несладок.
Но иные сбежали, – идет болтовня,
мол, за Дравой, к исходу осеннего дня
слышно ржание беглых, свободных лошадок.
Художник
Прокорма не стало, обрыдли скандалы,
ни денег, ни хлеба тебе, ни угля;
покашлял художник, сложил причиндалы,
и кисти, и краски, – и двинул в поля.
Он всюду проделывал фокус нехитрый:
пришедши к усадьбе, у всех на виду
вставал у холста с разноцветной палитрой
и тут же картину менял на еду.
Он скоро добрел до гористого края
и пастбище взял за гроши в кортому,
повыскреб замерзший навоз из сарая,
печурку сложил в обветшалом дому,
потом, обеспечась харчами и кровом,
на полном серьезе хозяйство развел:
корма запасал отощавщим коровам
и загодя все разузнал про отел.
Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в отворенном окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда —
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа.
Военнопленный
Он в горы с конвоем пришел, к сеноставу,
в мундире еще, чтоб трудился, как все,
покуда хозяин спасает державу —
расчистил бы непашь к осенней росе,
чтоб истово пни корчевал в непогоду,
справлял бы в хозяйстве любую нужду,
чтоб в зимние ночи, хозяйке в угоду,
по залежи горестной вел борозду.
Однако на фронте поставили точку,
хозяин вернулся: такие дела.
Хозяйка ему подарила сорочку
и с грушами штрудель в дорогу спекла.
Вот тут ему шкуру как раз да спасать бы,
не место в хозяйском дому чужаку, —
но год, проведенный средь горной усадьбы
развеял по родине дальней тоску.
В капустном листе – настоящее масло,
по-щедрому, так, что не съешь за присест;
однако горело в душе и не гасло
прощанье, хозяйкин напутственный крест.
И странную жизнь он себе предназначил:
в единую нитку сливались года,
он вместе с косцами по селам батрачил,
однако домой не ушел никогда.
Вернувшиеся из плена
Разрешенье на жительство дал магистрат,
и трава потемнела в лесу, как дерюга, —
на окраину в эти весенние дни,
взяв мотыги и заступы, вышли они,
и от стука лопат загудела округа.
Подрядившись, рубили строительный лес,
сколотили на скорую руку заборы, —
каша весело булькала в общем котле,
и по склонам на грубой ничейной земле
созревали бобы, огурцы, помидоры.
Поселенцы возили на рынок салат,
и угрюмо глядели навстречу прохожим —
только голод в глазах пламенел, как клеймо,
им никто не помог – лишь копилось дерьмо,
все сильнее смердевшее в месте отхожем.
В перелоге уныло чернели стручки,
корешки раскисали меж прелого дерна,
на опушке бурел облетающий бук,
где-то в дальнем предместье ворочался плуг —
но пропали без пользы упавшие зерна…
И мороз наступил. В лесосеках опять
подряжались они, чтоб остаться при деле, —
пили вечером чай на древесном листу,
и гармоника вздохи лила в темноту.
Загнивали посевы, и гвозди ржавели.
Контуженный
Тот самый день, в который был контужен,
настал в десятый раз; позвать врача —
но таковой давно уже не нужен,
навек остались дергаться плеча.
Сходил в трактир с кувшином – и довольно,
чтоб на часок угомонить хандру:
хлебнешь немного – и вдыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.
По окончаньи сумерек, однако,
он пробирался в опустевший сад,
и рыл окопы под защитой мрака
совсем как много лет тому назад:
все – как в натуре, ну, размеров кроме,
зато без отступлений в остальном,
и забывал лопату в черноземе,
что пахнул черным хлебом и вином.
Когда луна уже светила саду —
за долг священный он считал залечь
с винтовкою за бастион, в засаду,
где судорога не сводила плеч;
там он внимал далеким отголоскам,
потом – надоедала вдруг игра,
он бил винтовкой по загнившим доскам,
бросал ее и плакал до утра.
Мартовские смерти
Когда межу затянут сорняки
и вспыхнет зелень озими пшеничной —
в деревне умирают старики,
весенней смертью, тяжкой, но привычной.
Сам воздух, будто некая рука
орудует, в кого постарше целя,
чтоб тот залег в могилу тюфяка,
с которой встал-то без году неделя.
Они лежат, одеты потеплей,
и слушают – занятья нет приятней, —
как треплет ветер кроны тополей,
как шумный гурт прощается с гусятней.
Взвар застывает коркой возле рта,
без пользы стынет жирная похлебка;
при них весь день дежуря, неспроста
домашние покашливают робко.
Еще успеют увидать они,
как дерева проснутся от дремоты, —
но чем светлей, чем радостнее дни —
пономарю все более работы.
Шарманка из пыли
От света и зноя земля горяча,
трещат, рассыхаясь, скамьи,
и ветер, желтеющий дерн щекоча,
проходит сквозь пальцы мои.
Итак, это, стало быть, день выходной
для тех, кто ничтожен и нищ.
Стучатся в ограду волна за волной
шум улиц и гомон жилищ.
Размеренно кружатся тучки вдали,
листва выгорает дотла.
С акаций летят лепестки, и в пыли
блестят, словно капли стекла.
И кажется – голос шарманки возник
в неспешном кружении дня,
вином и коврижкой лаская язык,
кружа и листву, и меня.
Шарманка незримая, ты наяву
из пыли поешь мне, и впредь
позволь позабыть, что на свете живу
и ручку твою завертеть.
С зубцами незримого вала сцепясь,
комод и корзина с бельем
поют, образуя высокую связь
с набивкой в матрасе моем.
Так будем щедры… Пусть всю жизнь напролет
зазубренный крутится вал!
И вот паровозный свисток запоет,
трава зашумит возле шпал,
уронит замазку рассохшийся паз,
и вся эта пыль вразнобой
посыплется в песню, и слезы из глаз
покатятся сами собой.
* * *
«Я думаю, мне было бы по силе…»
Я думаю, мне было бы по силе
уютный ресторанчике завести
в таком предместье, где поменьше пыли,
для клиентуры младше тридцати.
С утра и днем все было б чин по чину,
любой бы кушал то, что заказал,
но к вечеру бы скидывал личину
и наполнялся жизнью сад и зал.
Клиенты без различия, без ранга
с охотой стали бы наверняка
вальсировать и приглашать на танго,
хлебнув вина, а можно – молока.
Не пачкались бы скатерти, салфетки,
не преступало меры озорство,
скандалы были б очень-очень редки,
а может быть – совсем ни одного.
И мне порой приятно было б тоже
припомнить золотые времена:
я выходил бы в залу к молодежи
и вместе с нею пел бы допоздна.
В поле
На гравии блестя слегка,
мерцают дальние огни.
Еще острей от ветерка
тяжелый аромат стерни.
Темны пространства пустырей,
струится сырость от земли,
шуршат крапива и кипрей,
и псы разлаялись вдали.
Для мака время подошло
дозреть, коробочки клоня,
Твоей руке сейчас тепло:
она касается меня.
Движенья ветра так слабы,
и вьются у моих висков
одни лишь пенные клубы
почти незримых мотыльков.
Твой стон и сладостен, и слаб,
и мне сегодня стоит он
не больше, чем любой из жаб
под норость выбранный затон.
Струится вглубь тяжелый сок,
миг длится, жизнь уходит прочь.
Под пальцами опять песок,
уже к концу подходит ночь.
Старик у реки
Где город кончается и переходит в поля,
где илом и гнилью прибрежной пропахла земля,
замшелый рыбак доживает свой век, и вода
течет с незапамятных лет сквозь его невода.
В привычку – стряпня и починка сетей старику,
из города носит и нитки, и шпиг, и муку;
он дружбы не водит ни с кем, но со всеми вокруг
знаком, и выходит к порогу на первый же стук.
Бывает, зайдет поселенка, укупит леща,
к нему плотогоны погреться бредут сообща,
садятся к столу, коль погода снаружи дурит,
и все умолкают, когда старикан говорит
о мерном теченьи реки, о сетях на ветру,
об илистых поймах, о рыбе, что мечет икру,
и губы похожи его на сочащийся сот,
на гриб-дождевик, от которого споры несет, —
даются слова все трудней и трудней старику,
не так уж и много рыбак повидал на веку,
и за день устал, и давно задремать бы ему,
и сплавщики тихо его покидают в дому.
* * *
«Там, где копоть кроет подъездные ветки…»
Там, где копоть кроет подъездные ветки,
что ведут до самых заводских ворот,
ни пырей, ни вязель не хранят расцветки,
щелочью и маслом вымаран осот.
Там земля буреет, напрочь обесплодев,
вар, лоскутья толя, словом, хлам любой
уминают фуры тяжестью ободьев,
так же, как известку и кирпичный бой.
Сколь травы полоски ни грязны, ни узки,
но полны рабочих в середине дня:
смотрят, как шлагбаум весь дрожит при спуске,
как шагает крана черная клешня.
Здесь, когда не жарко, топчутся подростки,
поиграть у рельсов тянет детвору, —
ветхий мяч футбольный ударяет в доски,
и скрипит штакетник пыльный на ветру.
Угасают трубы по гудку, покорно
прочь выходит смена, молча, по-мужски,
медленно, как будто глины или дерна
тащит на подошвах грубые куски.
Газ на стены светит сумрачно и тяжко,
ветер наползает, гулок и глубок, —
только на коленях нищий старикашка
спичечный в отбросах ищет коробок.
Уличные певцы
Вот-вот от трясучки каюк одному,
щербат и потаскан другой;
в потемках поют возле входа в корчму,
однако ж в нее – ни ногой.
Гармонику, дрожью измотан вконец,
терзает бедняк испитой,
и такт отбивает щербатый певец
по донцу кастрюли пустой.
Плетутся сквозь город с утра до утра;
от песни – один лишь куплет
остался, – так редко в колодец двора
летит хоть немного монет.
От кухонь едой пригоревшей несет;
подачки дождешься навряд;
но все же у каждых дверей и ворот
фальцетом, как могут, скрипят.
Пьянея от горечи зимних годин,
бредут по кварталам в тоске:
о мыльной веревке мечтает один,
другой – о холодной реке.
* * *
«Опять акация в цвету…»
Опять акация в цвету.
Одето небо серизной,
струится отблеск фонарей
вокруг антенн и вдоль дверей,
шипит роса, густеет зной.
Опять акация в цвету.
Жара от стен ползет во тьму
и в горло, как струя свинца.
Коль денег – на стакан пивца
и только, так сиди в дому.
Опять акация в цвету.
Сгущает небо духоту,
которой без того с лихвой,
Кто похотлив – тот чуть живой,
а кто болтлив – тот весь в поту.
Опять акация в цвету
вскипает, сладостью дыша.
Ночною болью обуян
любой, кто трезв, любой, кто пьян,
кто при деньгах, кто без гроша.
Жара, дыханье затрудня,
растет, лицо щетина жжет,
спина в поту и высох рот —
довольно, отпусти меня!
Опять акация в цвету!
Десять лет аренды
Возьми с собой корзинку и вино,
иди и подожди в саду за домом;
сентябрь настал, – безветрено, темно,
и звезд не перечесть над окоемом.
Попозже я приду, – разлей питье, —
и парники, и астровые грядки —
здесь все отныне больше не мое
и завтра надо уносить манатки.
Вот артишоки, – ты имей в виду,
я сам испек их, так что уж попробуй.
Я десять лет трудился здесь, в саду,
здесь что ни листик – то предмет особый.
Налей по новой. Десять лет труда!
Зато – мои, зато хоть их не троньте.
Я пережил подобное, когда
лежал, в дерьмо затоптанный, на фронте.
Страданье – не по мне: меня навряд
возможно записать в число покорных, —
но слишком мал доход с капустных гряд
и ничего не скопишь с помидорных.
Не знал я тех, кем брошен был в дерьмо,
не знаю тех, кто гонит прочь от сада.
Хлебнем: понятно по себе само,
что верить хоть во что-нибудь да надо!
Я верю в горечь красного вина,
что день сентябрьский – летнего короче,
что будет после осени – весна,
и что на смену дням – приходят ночи;
я верю ветру, спящему сейчас,
я верю, что вкусил немного меда,
что вещи слишком связывают нас,
что из-за них нам хуже год от года.
Куда пойду, – ты спросишь у меня, —
и заночую на какой чужбине?
Вьюнку ползти далеко ль от плетня,
легко ли с грядки откатиться дыне?
Шуршит во мраке лиственный навес,
печаль растений видится воочью, —
синеет в вышине шатер небес,
и не вином я пьян сегодня ночью.
Зимнее пальто
В шалманчик за рынком приходит с утра
безногий при помощи двух костылей;
он мрачен, – крепленого выпить пора, —
садится у печки, куда потеплей.
Приплелся сюда через силу – зато
сейчас помягчеет блуждающий взгляд:
он ласково зимнее гладит пальто —
его по часам отдает напрокат.
Пальто – это вещь недурная весьма:
и плечи на вате, и полы до пят,
вдоль борта идет голубая тесьма,
ну, правда, нагрудный карман плоховат,
ну, правда, на швах и под воротником
подкладочный светится войлок-злодей;
дешевым пропахло пальто табаком
и потом просительских очередей.
В шалманчик к семи забежит человек,
заплатит что надо – и вмиг за порог
ныряет в пальто под начавшийся снег, —
прокатчик покуда сыграет в тарок:
он шлепает карты на стол тяжело,
глядит на часы; наконец, доиграв:
прокатное время, глядишь, истекло —
уже не пора ли насчитывать штраф?
Сточный люк
Измотан морозом и долгой ходьбой,
старик огляделся вокруг,
подвинул решетку над сточной трубой
и медленно втиснулся в люк.
Он выдолбил нишу тупым тесаком,
спокойно улегся во тьме,
то уголь, то хлеб он кусок за куском
нашаривал в жидком дерьме.
Почти не ворочался в нише старик,
и видел одних только крыс,
лишь поздний рассвет, наступая, на миг
в решетку заглядывал вниз.
И зренье, и слух отмирали в тиши,
и холод как будто исчез,
и дохли в одежде голодные вши,
утратив к нему интерес.
И был он безжалостно взят за грудки,
и вынут наружу, дрожа,
и тщетно пытался от грозной руки
отбиться обтеском ножа.
Прием в дом для престарелых
Отныне – вот постель твоя.
Одежку в этот шкаф повесь.
Следи, чтоб не было нытья:
у нас оно не в моде здесь.
Вот эти тапки забери.
Клопов не бойся, нет почти.
Крючок на фортке – изнутри.
Запомни все, и все учти.
Нас будет четверо: уснем,
увидишь, легши по местам.
Мы в коридор выходим днем,
Курить, понятно, только там.
Как видишь, койки широки:
да ты лежал ли на такой?
К покою склонны старики,
так ты уж нас не беспокой.
Здесь может разное бывать.
Не делай удивленный вид,
не лезь, коль кто начнет кивать
и сам с собой заговорит.
Ну, я пойду. Тебе – впервой.
Подумай, полежи ничком.
Когда черед настанет твой,
то будь приветлив с новичком.
Жители вагона
Вагон, бесплатная квартира,
стоит на рельсах тупика.
Сюда доносится из мира
далекий лязг товарняка,
тут служит лестницей подножка, —
каморка, может, и мала,
а все же места есть немножко
для колыбельки, для стола.
Живущим здесь – не до уюта,
здесь громыхают поезда,
от трассы – тяжкий дух мазута
и гарь, – а впрочем, не беда:
и здесь судьба дает поблажки,
жизнь хочет жить – и потому
не могут не цвести ромашки,
и все-таки цветут в дыму.
Нам ни к чему людская жалость,
возьмем лишь то, что даст земля:
запрем вагон, побродим малость,
вдоль рельсов наберем угля.
Живем легко, не ждем напасти,
мир, как вагон забытый, тих:
видать, о нас не знают власти,
а мы не жаждем знать о них.
По поводу насильственной смерти владельца табачного киоска
Лавочник-табачник, из воды
у плотины всплывший поутру,
были губы у тебя худы
и дрожали в холод и в жару.
Вышла смерть тебе – последний сорт,
да и жизнь – не шибко хороша:
был ножной протез, как камень, тверд,
и усы торчали, как парша.
Жил один ты долгие года,
тишина звенела в голове;
ставню опускали ты, лишь когда
улицы тонули в синеве.
Но порой нырял ты в темноту,
и тогда захватывало дух:
у канала, на пустом мосту
ты ловил подешевевших шлюх.
И, над ними обретая власть,
средь клопов, с отстегнутой ногой,
ты желал повеселиться всласть,
расплатившись кровною деньгой.
Знал ты этой публики пошиб,
и наутро звал себя ослом:
потому, когда серьезно влип,
понял, что имеешь поделом.
Эту дочерь городского дна
ты узнал, дрожащий, в тот же миг,
как тебя окликнула она,
мертвой хваткой взяв за воротник, —
вынырнул босяк из темноты,
вынул нож, – и был ты с босяком
в миг последний так подумал ты —
вроде как бы даже и знаком.
И, умело спущенный в канал,
даже без нательного белья,
ты в воде про то уже не знал,
как наличность плакала твоя,
вся истаяв к утренним часам:
оба руки вымыли в реке,
а потом, как ты бы сделал сам,
пили и дрожали в кабаке.
Шаги
Вцепившись в набитый соломой тюфяк,
я медленно гибну во тьме.
Светло в коридоре, но в камере – мрак,
спокойно и тихо в тюрьме.
Но кто-то не спит на втором этаже,
и гулко звучат в тишине
вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.
Не медлят шаги, никуда не спешат,
ни сбоя, ни паузы нет;
был пуст по сегодняшний день каземат,
в котором ты ходишь, сосед;
лишь нынче решеный, ты после суда
еще неспокоен, чужак,
иль, может, навеки ты брошен сюда,
и счета не ведает шаг?
Вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.
Мне ждать три недели – с зари до зари,
двенадцать ушло, как во сне.
Ну сделай же, сделай на миг перерыв,
замри посреди темноты, —
когда бы ты знал, как я стал терпелив,
шагать и не вздумал бы ты.
Но кто ты? Твой шаг превращается в гром,
в мозгу воспаленном горя.
Вскипает, рыдая, туман за окном,
колеблется свет фонаря,
и, вставши, я делаю вместе с тобой —
иначе не выдержать мне! —
вперед – пять шагов,
и в сторону – три,
и пять – обратно к стене.
Возле Ганновера (Лейферде)
Повыдохлось пламя, иссякло тепло,
нас город не любит, нас гонит село,
шагаем, шагаем – вот так-то.
Мы все позабыли в дожде и в росе,
мы дальше от жизни, чем думают все,
кто может нас видеть у тракта.
Желтеет пустырник и ежится дрок,
мы ночью сидим у железных дорог,
и пальцы грызем, чтоб согреться,
и только блестит, как в слезах, колея, —
провал разделяет – владельцев жилья
и тех, кому некуда деться.
Шлагбаум звенит, значит, близок экспресс.
Видать, в пассажирах горит интерес
к бродягам, столпившимся кучкой:
нам машет из поезда множество рук, —
ну, что же, пойдем на взаимность услуг:
мы тоже вам сделаем ручкой!
Последнее усилие
В лепрозории даже зимой не топили печей.
Сторожа воровали дрова на глазах у врачей.
Повар в миски протухшее пойло больным наливал,
а они на соломе в бараках лежали вповал.
Прокаженные тщетно скребли подсыхающий гной,
на врачей не надеясь, которым что пень, что больной.
Десять самых отчаянных ночью сломали барак,
и, пожитки собрав, умотались в болота, во мрак.
Тряпки гнойные бросили где-то, вздохнули легко.
Стали в город крестьяне бояться возить молоко,
хлеб и пшенную кашу для них оставляли в лесу,
и, под вечер бредя, наготове держали косу.
Поздней осенью, ночью, жандармы загнали в овраг
обреченных, рискнувших пойти на отчаянный шаг.
Так стояли, дрожа и друг к другу прижавшись спиной,
только десять – одни перед целой враждебной страной.
Замёрзшей пьянчужке
Пила беспробудно в мороз и в жару,
и насмерть замерзла сегодня к утру.
Тебя и садовники, и корчмари
тут знали не год, и не два, и не три.
Был чайник твой старый помят и убог,
сходил за посуду любой черепок,
глотка отстоявшейся пены пивной
хватало для грезы о жизни иной.
Свернувшись клубком, ты умела в былом
согреться идущим от тленья теплом,
и ночью минувшей, видать, не впервой
хмельная, уснула под палой листвой.
Любой подзаборник с тобой ночевал,
и пеной не брезгал, и все допивал,
и каждый к утру, недовольно бурча,
давал поскорей от тебя стрекача.
Лежишь закалелою грудой тряпья,
подернута инеем блуза твоя,
и кажется нам, что промерзло насквозь
все то, в чем тепло на земле береглось.
Ромашка
Где, как клинья, лезут в поле
тупиковые пути —
из бугра да из овражка
знай растет себе ромашка,
ей плевать, на чем расти.
Проползают паровозы,
травы копотью черня;
но ромашке – лишь бы лето,
искры гаснут рядом где-то,
ей ущерба не чиня.
Если ты по мне скучаешь,
то под вечер не тужи:
в самом первом, легком мраке
приходи за буераки,
за пути, за гаражи.
Миновав забор щербатый,
ты придешь ко мне сюда:
здесь откроется для взоров
зелень дальних семафоров,
да еще вверху – звезда.
Ты прильнешь ко мне так тихо,
станет виться мошкара.
Ах, как сладко, ах, как тяжко,
пахнешь ты во тьме, ромашка —
и тебя сорвать пора.
Вена: Праздник тела Христова. 1939
Вышло их на улицы так мало,
совершавших ежегодный путь, —
большинство осталось у портала,
не посмев к процессии примкнуть.
К ладану всплывающему липли
ветки, обделенные листвой,
и хористы обреченно хрипли,
медленно бредя по мостовой.
Жались горожане виновато,
обнажали головы они,
удивлялись, что хоть что-то свято
все же остается в эти дни.
Так и шли, сердца до боли тронув,
шли среди всеобщей немоты —
а над ними реяли с балконов
флагов крючковатые кресты.
* * *
«И сгущается ночь…»
И сгущается ночь
и слетает листва
и ничем не помочь
и надежда жива
и торчит часовой
и никто никуда
и хлебнули с лихвой
и гудят провода.
И могли бы добром
и уж прямо враги
и не действует бром
и тупеют мозги
и баланда жидка
и бессмыслен скулеж
и шептаться тоска
и молчать невтерпеж.
И над родиной тьма
и не жизнь а дерьмо
и сойти бы с ума
и на каждом клеймо
и не верим вестям
и сжимает сердца
и полгода к чертям
и не видно конца.
10. 10 1940, о. Мэн, лагерь для интернированных
* * *
«Я сидел в прокуренном шалмане…»
Я сидел в прокуренном шалмане,
где стучали кружки вразнобой.
Хлеба взял, почал вино в стакане,
и увидел смерть перед собой.
Здесь приятно позабыть о мире,
но уйти отсюда должен я,
ибо радость выпивки в трактире
не заменит смысла бытия.
Жить, замуровав себя – жестоко,
ибо кто подаст надежный знак,
не известно ни числа, ни срока,
давят одиночество и мрак, —
радость и жестокость – что желанней?
Горше и нужнее – что из них?
Мера человеческих страданий
превосходит меру сил людских.
Надо чашу выпить без остатка,
до осадка, что лежит на дне,
ибо то, что горько, с тем, что сладко,
непонятно смешано во мне.
Я рожден, чтоб жить на этом свете,
и не рваться из его оков,
потому что все мы – Божьи дети
от начала до конца веков.
* * *
«Когда вернусь я в мой зеленый дом…»
Когда вернусь я в мой зеленый дом,
что ждет меня с терпеньем и стыдом,
я там на стол собрать хочу давно
орехи, хлеб и терпкое вино.
Любимая, на трапезу приди,
и ту, другую, тоже приведи,
придите все – все будет прощено,
пусть нас помирит терпкое вино.
И ты приди, кто в чуждой стороне
так дорог нынче оказался мне, —
придите, – мне без вас не суждено
разлить по кружкам терпкое вино.
Цветите же, когда придет весна,
акация, каштан и бузина,
ломитесь ветками ко мне в окно
и осыпайтесь в терпкое вино.
Так соберитесь же в моем дому
все те, кто дорог сердцу моему, —
мы будем петь, о чем – не все ль равно —
в дому, где ждет нас терпкое вино.
Реквием по одному фашисту[18]
Ты был из лучших, знаю, в этом сброде,
и смерть твоя вдвойне печальна мне;
ты радовался солнцу и свободе,
как я, любил шататься по стране, —
мне говорили, ты гнушался лязгом
той зауми, что вызвала войну, —
наперекор велеречивым дрязгам
ты верил только в жизнь, в нее одну.
Зачем ты встал с обманутыми рядом
на безнадежном марше в никуда
и в смерть позорным прошагал парадом?
И вот лежишь, сраженный в день суда.
Убить тебя – едва ли не отрада;
ни у кого из нас терпенья нет
дорогу разъяснять заблудшим стада —
и я за смерть твою держу ответ.
Пишу, исполнен чувств неизрекомых,
и поминаю нынче ввечеру
тебя медовым запахом черемух.
и пением цикады на ветру. —
вовек да не забудется позор твой,
о сгинувший в неправедной борьбе,
ты славе жизни да послужишь, мертвый, —
мой бедный брат, я плачу о тебе.
Травница
Где тропка петляет к ручью за деревней,
где скалы крошатся опокою древней
и держатся в скалах деревья с трудом —
стоит покосившийся травницын дом.
Хвосты сельдерея, фасоль и редиска
еще говорят – человечество близко,
но папорть, хозяйственным планам вразрез,
под окна решительно выдвинул лес.
Тот самый, что женщине в рваной одежке
сморчки поставляет весной для кормежки,
до осени – ягоду в горла корчаг
ссыпает не скупо; зимою – сушняк
для печки дает приношением щедрым,
покуда метели гуляют по кедрам.
Дремучим чащобам и дочь, и сестра,
как зверь, нелюдима, и так же мудра,
находит, почти что без помощи зренья,
заветные зелья и злые коренья,
и то, что лекарство, и то, что еда,
и то, чем врачуется бабья нужда.
Февраль, и доедена пшенка, и смальца
в корчаге осталось едва на полпальца,
но лес, обрядившийся в иней и наст,
согреет, прокормит, в обиду не даст.
Йозефа
Там, за деревней, где ряской канавы цветист,
средь золотарников – поля неправильный кут.
Хатка Йозефы за ним, в полминуте ходьбы.
Прямо под дверью лежат на просушке грибы.
Шпанские мушки да всякие зелья у ней,
козочка тоже: Йозефа других не бедней.
Вечером трижды, попробуй, в окно постучи —
дверь приоткроется, звякнут в потемках ключи.
Молча вдовец к ней приходит еще дотемна,
молча – кабатчик, пусть лезет на стенку жена,
молча – барышник с кольцом, только чтоб ни гу-гу,
молча – бирюк-винокур, зашибивший деньгу.
Горькой настойкой она угощает гостей,
есть постоянный запасец домашних сластей,
после – Йозефа постель приготовит свою.
Ежели что – так заварит себе спорынью.
Пышно цветут золотарник, татарник и дрок.
Нет никого, кто Йозефе послал бы упрек.
Дом и коза, и кусок полевого кута —
совесть Йозефы пред всеми на свете чиста.
Тост над вином этого года
Орех и персик – дерева;








