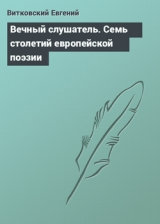
Текст книги "Вечный слушатель"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Соавторы: Джон Китс,Франческо Петрарка,Адельберт Шамиссо,Луи Арагон,Поль Валери,Теодор Крамер,Артюр Рембо,Райнер Мария Рильке,Геррит Ахтерберг,Иоганнес Бобровский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Я дурой вас считал, притом весьма большой.
* * *
«Себя, о Клоримен, счастливым я почту…»
Себя, о Клоримен, счастливым я почту,
Чуть снизойдете вы, – и тут же, в миг единый,
Я становлюсь такой разнузданной скотиной,
Что уж помилуйте меня за прямоту.
О да, выходит так: лишь низкому скоту
Не станет женский пол перечить с кислой миной;
Не сам Юпитер ли, коль представал мужчиной,
Отказом обречен бывал на срамоту?
Приявши лучшее из множества обличий,
Европу он украл, облекшись плотью бычьей,
И к Леде лебедем подъехал неспроста, —
Для мужа способ сей хорош, как и для бога:
Тот сердце женщины смягчить сумеет много,
Кто к ней заявится в обличии скота.
* * *
Предположить, что мной благой удел заслужен,
Что ночь души моей – зарей освещена,
Что в карточной игре с темна и до темна
Выигрываю я дукатов сотни дюжин;
Понять, что кошелек деньгами перегружен,
Что кредиторам я долги вернул сполна,
Что много в погребе французского вина
И можно звать друзей, когда хочу, на ужин;
Спешить, как некогда, побыть наедине
С божественной Климен, не изменявшей мне, —
О чем по временам я думаю со вздохом, —
Иль, благосклонности добившись у Катрин,
Забыться в радости хотя на миг один —
Вот все, чего вовек не будет с Фоккенброхом.
Японскии сон
Как-то раз, как-то раз
Я по уши увяз
Во сне, в бреду великом:
Я влез на месяц молодой
Над океанскою водой,
Над Тенерифским пиком.
Снилась мне, снилась мне
В том невозможном сне
Младых гишпанцев тройка:
Под мышки головы зажав,
Поскольку каждый был безглав,
Куплеты пели бойко.
Следом вдруг, следом вдруг
Явился мне паук
Британии поболе, —
Он порывался взять реванш,
Разгрызть пытался флердоранж,
Ревмя ревя от боли.
А внутри, а внутри
Чудовищной ноздри
Давид метал каменья
И – краснорож, рыжебород —
Терзал верзила роммелпот,
Дрожа от вожделенья.
Жуткий клык, жуткий клык
Он метил каждый миг
Воткнуть слону под ребра, —
Он шар земной пронзал насквозь,
Раскручивал земную ось
И хохотал недобро.
В страшный зев, в страшный зев
Вместились, присмирев,
Французские актерки, —
При каждой кавалер француз, —
Усердно услаждали вкус
Напитками с Мальорки.
Сквозь кишки, сквозь кишки
Шли сотнями быки,
А также – вот так штука! —
Кареты мчались взад-вперед
И было множество забот
У юнкера Безбрюка.
Под хвостом, под хвостом
Приметил я потом
Ряд гейдельбергских бочек;
Испанский флот, войдя в азарт,
В себя деньгами из бомбард
Палил без проволочек.
Из нутра, из нутра
Пылал огонь костра:
Там орден Иисуса
Смолу готовил и свинец
И мученический венец
Сплетал для Яна Гуса.
А спина, а спина
Была распрямлена
Мостом от зюйда к норду.
И некто, вспухший и с горбом,
Вопил, биясь о стенку лбом:
«Кому бы въехать в морду?»
Под скулой, под скулой
Нагажена пчелой
Была большая груда:
От меду стался с ней понос, —
И снял штаны ученый нос
Для потрясенья люда.
Под губой, под губой
Стоял кабан рябой;
Лупя ногою в брюхо,
Залез мужик на кабана,
А вслед за ним, пьяным-пьяна,
Туда же влезла шлюха.
Жуткий хвост, жуткий хвост,
Что доставал до звезд,
Мечом стоял тяжелым;
И кровожадны, и толсты
Там все английские хвосты
Стояли частоколом.
А клешня, а клешня
Из адского огня
Тащила ввысь Плутона,
Чтоб там прибить его скобой,
И звезды в ужасе гурьбой
Летели с небосклона.
Тут как раз, тут как раз
В короткий миг погас
Мой сон несообразный, —
Заря всходила, я во тьме
В неописуемом дерьме
Лежал в канаве грязной.
Размышления, изложенные во время пребывания в шлюпке среди волн морских, вблизи от Золотого Берега (Гвинея), для моего друга Н. Н
В сопровожденьи четырех
Солдат и не вполне пригожих
Одиннадцати чернокожих
Плывет по морю Фоккенброх,
За каравеллою враждебной
Спешит, чтоб изловить воров,
Чтоб оным всыпать будь здоров
И тем исполнить долг служебный.
Грозит тайфун, грозит мушкет,
Ужо сейчас заварим дело…
Однако где же каравелла?
Смоталась. Жаль: была – и нет.
Ну что ж: заминку не премину
Использовать. Покой вокруг, —
Письмо примите, милый друг,
К окну присядьте, иль к камину,
Иль в тень древесную, к ручью,
Где прежде вместе мы сидели,
Импровизируя рондели, —
Оплачьте же судьбу мою.
Вдыхая дым любимой трубки,
В родном краю грустите вы;
Я тоже закурил, – увы,
Не дома, а в казенной шлюпке.
О да, презреннейший металл
Перепадать мне начал ныне:
Немало золота в пустыне.
Я бедным – был, богатым – стал.
Но кровь все так же бьется в жилах;
И мучает меня, как встарь,
Очаровательная тварь,
Которую забыть не в силах.
По десять и по двадцать раз
Ее желаю ежечасно,
И в мыслях столь она прекрасна,
Что недостойна смертных глаз.
Печалюсь: Боже всемогущий!
Когда же отдохнуть смогу
На милом сердцу берегу
От здешних мавританских кущей?
Чудесным стало мниться мне
Все, пережитое когда-то, —
Мой друг, я вас люблю как брата,
На расстоянье же – вдвойне.
Судьба моя, судьба дрянная!
Скорблю во сне и наяву.
Забавно: я ревмя реву,
Былые шутки вспоминая.
Из памяти, из родника
Пью с вожделением и дрожью:
Свиданья с нашей молодежью
Жду, кажется, уже века.
Но, столько лет проведши в зное,
Пускай не обратившись в труп,
Ведь я сойду за старый дуб,
А не за что-нибудь иное!
Всему, всему жара виной —
Здесь жарко, словно пекло рядом:
Я скоро стану карбонатом, —
Вернее, тощей отбивной.
Так я пишу, в тоске по дому,
Представьте мой плачевный вид:
Полдневный зной меня коптит,
Как пересохшую солому.
Шесть лет без женщин проторчав,
На что останусь я способен?
Я буду мумии подобен,
Пусть, как и прежде, величав!
Но нужно ль наперед срамиться,
Покуда в сердце у меня
Толика юного огня
И шарма прежнего частица?
Я верю, будет нам дано,
Доверясь божескому дару,
Пожить, порифмовать на пару,
Смеяться, ежели смешно.
Дождаться б только дня отплытья
Из этой чертовой страны,
Когда ее со стороны
Смогу безжалостно бранить я!
Лишь довести б домой металл,
Испив до дна сей мерзкий кубок!
Пускай струится дым из трубок,
А я гореть уже устал.
Надеюсь, вы теперь не хворы.
Когда вернусь, любезный друг,
Жду встретить все такой же круг
Приятелей; тот круг, который
Еще цепочку дней и лет
Нам славно скоротать поможет.
Богатство счастья не умножит,
И радости без друга нет!
Но кто-то, озирая воды,
Вскричал (а я-то грыз перо!):
«Корабль по курсу!» – Ну, добро:
Стихи останутся без коды.
Ужо теперь в конце концов
Сумею подойти впритирку,
Поймаю и возьму за шкирку
Проштрафившихся наглецов!
Не дам, не дам ни дюйма спуску
Ни каперам, ни кораблю:
С товаром вместе изловлю
И перцу выдам на закуску!
Не сносят воры головы!
Нам будет их корабль наградой!
Адью! Да станет вам отрадой
Все то, к чему стремитесь вы.
Эпитафия Фоккенброху
Здесь Фоккенброх почиет на века,
Прокурен и продымлен до предела.
Людская жизнь сопоставима смело
С дымком, легко летящим в облака;
Да, как дымок его душа взлетела,
Но на земле лежать осталось тело,
Как отгоревший пепел табака.
Ян Лейкен
(1649–1712)
Видимость
Сну подобно бытие —
Мчится, как вода в ручье.
Кто возропщет на сие,
Чей могучий гений?
Люди тратят годы, дни
На восторги, но взгляни —
Что приобрели они,
Кроме сновидений?
Счастья не было и нет
У того, кто стар и сед, —
День ли, час ли —
Глянь, погасли,
Унеслись в потоке лет.
Плоть, вместилище ума, —
Лишь непрочная тюрьма,
Все для взора
Меркнет скоро,
Впереди – одна лишь тьма.
К прелестным песням девицы Аппелоны Пинбергс
Когда сиянье небосклона
Явилось над земное лоно,
Запела нежно Аппелона.
Ночные грезы, где вы?..
Звучала песня девы,
Рассеивая мрак, —
В то время, как
В природе песнь росла своя:
Трель соловья.
Он с песней девы спорил,
Ей вторил —
Не сестре ль?
За трелью трель,
Их —
Тьма!
Свистал,
Цокал.
Тих
Весьма
Стал
Сокол —
Нет хищника известней,
Но и он пленился песней!
Ко тверди голубой
Наперебой
Рвались напевы
Соловья и девы,
Нежно, властно
Не смолкая.
О Боже, сколь прекрасна
Песнь такая!
Приход рассвета
Тебе, прекрасному, привет,
Златых палат посол, Рассвет,
Что постучался в ставни;
Не медли, друг мой, за окном,
Войди, благослови мой дом,
Ты мой знакомец давний.
Ты приглашения не ждешь,
Легко и весело грядешь,
Пришелец издалече, —
Покуда в сумраке стою,
Стучишься в комнату мою
И радуешься встрече.
Тебе во всем подобен тот,
Кто водворил на небосвод
Главнейшее светило, —
Кто ждет в предутренней тиши
Пред ставнями моей души,
Не угашая пыла.
Кто я такой? О скорбь, о страх —
В гнилом дому червивый прах,
И мною ад заслужен, —
Но ждет Господь у этих стен,
Не мыслит он, что я презрен,
Что я ему не нужен.
Войди же нынче, как вчера,
Посланник вечного добра,
Столь робкий поначалу, —
Неси благую весть сюда,
Что все заблудшие суда
Ты приведешь к причалу.
Виллем Билдердейк
(1756–1831)
Сверчок
Чудесно бытие
Твое:
Порою сенокосной
Ты, славный полевой сверчок,
С травинки нежной на сучок
Спешишь за каплей росной.
Пшеничное зерно
Давно
В амбары лечь готово;
Ты слышишь – в поле серп звенит,
Ты малой долей будешь сыт
Обилия земного.
На жатве, в молотьбе
Тебе
Крестьяне услужают:
И твой веселый разговор,
И звонкий лягушачий хор
Их уши ублажают.
Ты не взыскуешь бед, —
О нет! —
Как злобные невежды,
Спешишь высоко ты вознесть
О лете радостную весть,
Селянам дать надежды.
Заслушались, любя,
Тебя
Бессмертные богини,
Венерой ты благословен,
Напевом чистым слух камен
Ты услаждаешь ныне,
Не прерывай игру!
В миру
Удела нет чудесней:
Ты, малая земная тварь,
Взнесен над смертными, как царь,
И продолжаешь песни.
Совесть
Что ты еси? Творца премудрая забава?
Непостижимости незыблемая суть?
Тебя приносит ночь, – ты рвешься к нам прильнуть
И нам продиктовать – что право, что неправо.
Ты, эфемерная над бездной переправа,
Что ты еси, вещай! В тупик ведущий путь?
Вращенье шестерен, что не дает уснуть?
Томлений и надежд всечасная облава?
Где пребываешь ты? Внутри или вовне?
Царишь ли наяву? Мерещишься ли мне?
Иль отраженье ты чужих страстей, не боле?
И до ответа мне Всевышний снизошел:
«Я есмь все то, что есть, и совесть – мой глагол,
И он гласит тебе: страшись Господней воли».
Эверхард Йоханнес Потгитер
(1808–1875)
Матильда
Голос лютни тихострунной
Прозвучал Матильле юной
Сквозь вечернее окно:
Не закрыты была ставни,
Схлынул вал жары недавней,
Так прохладно, так темно!
Ветерок скользил над нею,
Гладил волосы и шею,
Гладил плечи, осмелев,
И струились из прохлады
Сладкозвучные рулады
И пленительный напев.
Под окно из лунной пущи
Вышел юноша поющий,
Посреди ночных теней
Дерзостно представши взору, —
В дом, за шелковую штору,
Пожелал проникнуть к ней.
Все же деве было ясно,
Что впускать небезопасно
По ночам певцов к себе.
Сердце тает, словно свечка:
Береги свое сердечко,
Не ответствуй их мольбе!
Но стоял певец влюбленный
На лужайке на зеленой,
С лютней звонкой на весу, —
Он не пел: «Склонись поближе!»
Не шептал: «Впусти, впусти же!»
Нет, он пел ее красу.
Пел певец: «Какие брови!
Как сдержу волненье крови,
Если на уста взгляну?
Каждый взгляд ее недаром
Полон сладостным нектаром!»
Как не подбежать к окну?
Пусть доказано бесспорно,
Что весьма любовь злотворна,
Преисполнена тщеты —
Но как сладостно, как славно
Слышать, что на свете равной
Не найдется красоты!
И в окно она взглянула,
И мигнула, и кивнула,
И, смущения полна,
Опуская взоры долу,
Напевая баркаролу,
Закружилась у окна.
Но певец, упрям и зорок,
Видел: меж оконных створок
Показалась щель как раз…
Хрустнул куст, расцветший пышно.
Кто в окно скользнул неслышно —
Неизвестно. Свет погас.
Солдат егерского полка
Эх, егерек, бедняга,
Седеющий солдат,
Слуга того же флага,
Что сорок лет назад!
Ты хворями тревожим,
Но койка в доме Божьем
Не для твоих седин, —
Твой жребий безотраден,
Казенный кошт не даден,
Ты брошен, ты один.
Пускай трешкот разгромлен,
Влекомый бечевой, —
Неужто так же сломлен
И дух высокий твой?
Питомцы неудачи,
Вы вдоль дорог, как клячи,
Влачитесь, егерьки,
Шагаете без счета —
Помог бы вам хоть кто-то,
Да, видно, не с руки.
Упрямый, седоглавый,
Плетешься тяжело;
Со дней военной славы
Две сотни лет прошло
Голландия, свободной
Воспряв из пены водной,
Поднять могла в гербе
Ветрило с бечевою, —
Отмстившая с лихвою,
Благодаря тебе!
Страна копила силу
Врагам наперекор,
Канату и ветрилу
Покорствовал простор,
Был величав и четок
Приказ луженых глоток,
И барки строем шли
Вдоль берегов прекрасных
Земель новоподвластных
И вдоль родной земли!
Но неудачный жребий
Нам выпал в те года,
Зашла, как видно, в небе
Счастливая звезда.
Упрямо шли к победе
Чванливые соседи —
Поди, останови!
Хвала тебе, бедняге!
Лишь ты огонь отваги
Сумел сберечь в крови.
Эх, егерек, не ты ли
Отчизне был слугой?
Ты дряхнешь, ты в могиле
Стоишь одной ногой.
Но есть иное благо,
Есть честь и гордость флага,
И вновь грядет рассвет:
Над крепостною башней
Не свял еще вчерашний
Венец твоих побед!
Еще настанет битва,
Ты первым будешь в ней, —
Да сбудется молитва
Твоих тяжелых дней!
Былые помни войны,
Храни огонь, достойный
Наследья твоего, —
И в старости превратной
Блюди свой опыт ратный,
Живое мастерство!
Эх, егерек убогий,
Эх, егерек седой!
Озарены дороги
Счастливою звездой!
И вдаль с тобою мчится
К рассвету колесница,
Ты, гордый и прямой,
Стоишь в мундире новом,
Стоишь в венке лавровом —
Прими же грошик мой!
Так и этак
О, радость юного огня, Почтеннейшие! Навсегда
Когда, усилий не ценя, Умчались юности года, —
Я в горы шел, – когда меня Как их воспомню без стыда
Манили кручи, – И сожалений?
Чтоб там, в тени густой сосны, В конюшне стоя без седла,
Познать величье вышины, Была лошадка весела,
Где с осени и до весны Она не грызла удила
Гнездятся тучи. В горячей пене.
Воистину бывал я рад, Сияли зеленью леса,
Когда летел на землю град, Сверкала на траве роса,
Небес багряный маскарад Мне улыбались небеса
Мне был по нраву, – В начале мая,
Но гром стихал, редела мгла, Так звонко пели соловьи,
Заря благую весть несла: Но мне хотелось в забытьи
Ушла зима, весна сошла Оплакать горести свои
На мир по праву! Весне внимая.
О, встреча с морем и волной, Быть может, мне претил покой,
Когда палит июльский зной Я рвался в море сквозь прибой,
И жаждет лист во тьме ночной Меня над бездною морской
Почуять влагу, Валы качали;
Но вал морской к прибрежью льнет, Вернувшись, я лишался сил,
Прибой под скалами ревет, – Меня смущал мой юный пыл, —
Веди ладью в водоворот, В забавах я не схоронил
Яви от вагу! Свои печали.
Как юный бог, спеша вдохнуть Звенел смычок в вечерний час,
Грозу в подставленную грудь, Шли косари в веселый пляс,
Плывешь, победоносный путь Неужто счастье каждый раз
Во тьму нацеля, Лишь в танцах было?
Чтоб без руля и без ветрил Благоухал высокий стог,
Скользить, покуда хватит сил, В нем до зари проспать я мог
Лететь, покуда не испил А на хрустальный ручеек
Весь кубок хмеля! Луна светила.
О, роскошь – в поле иль в лесу Порой из ближнего села
С ружьем тяжелым на весу Навстречу мне девчонка шла,
Умело выследить лису – Тропа всегда узка была
Хвала добыче! Среди пшеницы,
А если крупно повезет – А нынче – сколько ни шумят
Под вечер сбить тетерку влет, Цветы, но их покров не смят,
Кто в восхищенье не придет Навек увял роскошный сад
От доброй дичи? Моей денницы.
О, роскошь юношеских лет, Чуть свет с постели я вставал,
Когда вела меня чуть свет Скорей, чем рог к охоте звал
За раненым самцом вослед Но нет, я весел не бывал,
Тропа оленья, Охотясь в чаще, —
О, как он взоры мне ласкал, Печально брел по лесу я
И посреди отвесных скал И слышал только гром ружья,
Величья гибели искал, И крики соек у ручья,
А не спасенья! И стон щемящий.
Крыла у юности легки: О чем я думал в те года?
Как сладостно надеть коньки При свете солнечном всегда
И с ветром наперегонки Зеркальная равнина льда
Лететь свободно, Всего чудесней, —
Бежать по брызжущему льду, Звенела песня над катком:
Забыть печаль на холоду, «Взгляни кругом, беги бегом», —
В философическом бреду Но не томился ль я тайком
Не гнить бесплодно! При звуках песни?
О, как сверкает окоем, Нет, много лучше было мне
Когда с подружкою вдвоем С друзьями – иль наедине —
То спуск встречая, то подъем, Сидеть в домашней тишине
Скользишь с опаской, И беззаветно
И на бегу почуешь вдруг Внимать живительный родник
Касание горячих рук, В словах проникновенных книг,
И, слыша шуточки вокруг, Последних истин каждый миг
Зальешься краской. Взыскуя тщетно.
Албрехт Роденбах
(1856–1880)
Мечта
Плывут седые облака
в лазури высоты.
Глядит ребенок, погружен
в мечты.
И, изменяясь на лету
уходят облака в мечту,
они плывут, как сны точь-в-точь,
прочь, прочь,
прочь.
Плывут седые паруса,
торжественны, чисты.
Глядит ребенок, погружен
в мечты.
И, уменьшаясь на лету,
плывут кораблики в мечту,
не в силах ветра превозмочь,
прочь, прочь,
прочь.
Плывут миражи вдалеке,
плывут из темноты.
Глядит ребенок, погружен
в мечты.
И нагоняет на лету
мечта – мечту, мечта – мечту,
чтоб кануть в Лету, кануть в ночь,
прочь, прочь,
прочь.
Лебедь
Прохладно; первая звезда
в просторах замерцала;
и в девственный глядится пруд
небесное зерцало.
В объятьях ночи и луны,
сияние струящей,
прекрасный лебедь на воде
лежит, как будто спящий.
Он гладь невинную крылом
восторженно тревожит,
и пьет, и грезит, как поэт,
и прочь уплыть не может.
Ему ответит на любовь
печаль воды озерной,
и образ отразит его —
хрустальный, иллюзорный.
И лебедь в озеро влюблен,
безмолвствуя во благе, —
но не бесчестит никогда
его невинной влаги.
(Дитя, вот так и я творю,
когда закат увянет,
когда невинный голос твой
в мое сознанье канет.)
Орёл
Вершину как престол избрав,
торжественная птица
взирала в небо, чтоб затем
в просторы устремиться.
Но ядовитая змея
всползла на каменные кручи,
и, лишь собрался царь высот
уйти в полет могучий,
змея вокруг его груди
предательски и злобно,
блеснув на солнце, обвилась,
стальной петле подобно.
Летит орел, а с ним – змея,
что меж камней лежала,
и в грудь орлу сочится яд
отравленного жала.
О честолюбец, возлети
в простор, в пучину света —
и не ропщи, что смерть близка:
таков удел поэта!
Мир
Был зимний вечер. Темнота окутала алтарь.
Ко входу в церковь брел монах, держа в руке фонарь.
Как пилигрим, свершивший путь, усталый, изможденный,
остановился и застыл у каменной колонны.
И долго около дверей ключами он бренчал,
но сам, казалось, ничего кругом не различал,
как призрак. Наконец вошел, ступая еле-еле,
трикраты грудь перекрестил, смочил персты в купели,
фонарь немного приподнял, и видит в тот же миг:
стоит вблизи от алтаря еще один старик, —
как Голод, худ, как Смерть, согбен, но – все же был высок он,
в седой копне его волос светился каждый локон;
исполнен вдохновенных дум, сиял во мраке он,
как алебастровый сосуд, в котором огнь зажжен.
Сурово инок вопросил, едва его заметил:
«Что ищешь?» – «Мира!» – в тишине чужак ему ответил,
вздохнул и в нишу отступил, к колонне, – там темно.
Монах, взглянув на чужака, молиться начал, но,
постигнув истину, шагнул назад, к церковной двери:
пришлец, искавший мира здесь, был Данте Алигьери.
Macte Animo
Я ничего не должен знать о женщинах на юге,
что полны гибельной тоски, когда, томясь в недуге,
несут безлистым деревам в безвыходной мольбе
плач о возлюбленных своих, о листьях, о себе.
Ты ль это, – слышу каждый час в груди твой хрип свистящий, —
ты ль это, червь, грызущий плоть, – смертельный рок, висящий
над светлой юностью моей? – Я все отдам навек,
но не тебя, моя душа, орешины побег!
Тяжелый, низкий небосвод вдруг посветлел сегодня, —
о радость, о тепло, о свет, о благодать Господня, —
моя страна… моя любовь… жизнь, юность, счастье… Брат,
не рассуждать… Бери клинок, погибни, как солдат!
Виллем Клос
(1859–1938)
Медуза
Взирает юноша с мольбою страстной
На божество, на лучезарный лик,
И тяжких слез течет живой родник,
Но изваянье к горю безучастно.
Вот обессилел он, и вот – напрасно —
Он рвется в смертный бой, но через миг
Он побежден, и вот уже поник, —
А камень смотрит хладно и ужасно.
Медуза, ты, лишенная души, —
Верней, душа твоя прониклась ядом
В бесслезной, нескончаемой тиши, —
Пускай никто со мной не станет рядом,
Но я склоню колени – поспеши
Проникнуть в душу мне последним взглядом.
Вечер
Куртина в ясных сумерках бледна;
Цветы еще белей, чем днем, – и вот
Прошелестел за створками окна
Последней птицы трепетный полет.
Окрашен воздух в нежные тона,
Жемчужной тенью залит небосвод;
На мир легко ложится тишина,
Венчая суеты дневной уход.
Ни облаков, ни ветра нет давно,
Ни дуновенья слух не различит,
И все прозрачней мрак ночных теней, —
Зачем же сердце так истомлено,
Зачем оно слабеет, – но стучит
Все громче, все тревожней, все сильней?
* * *
«Я – царь во царстве духа своего…»
Я – царь во царстве духа своего.
В душе моей мне уготован трон,
Я властен, я диктую свой закон
И собственное правлю торжество.
Мне служат ворожба и колдовство,
Я избран, возведен, провозглашен
И коронован лучшей из корон
Я – царь во царстве духа своего.
Но все ж тоска порою такова,
Что от постылой славы я бегу:
И царство, и величие отдам
За миг один – и смерть приять смогу:
Восторженно прильну к твоим устам
И позабуду звуки и слова.
Алберт Вервей
(1865–1938)
Террасы Медона
Далекий город на отлогих склонах,
ни шороха в легчайшем ветерке.
Прислушался – услышал смех влюбленных,
гуляющих вдвоем, рука в руке.
Неспешным взором тщательно ощупал
незыблемые профили оград,
отягощенный облицовкой купол,
старинный водоем, осенний сад.
И на руинах каменных ступеней
болезненно осознаю сейчас,
что мертвые предметы совершенней
и, как ни горько, долговечней нас.
Мёртвые
В нас мертвые живут, мы кровью нашей
питаем их, – в деяньях и страданьях
по равной доле им и нам дано.
Мы вместе с ними пьем из общей чаши,
дыханье их живет у нас в гортанях,
они и мы – вовеки суть одно.
Да, мы равны – но мертвые незрячи;
одним лишь нам сверкает свет Вселенной,
одним лишь нам дороги звезд видны.
Вовеки – так, и никогда – иначе,
и оттого для них вдвойне бесценна
мечтательная тяжесть тишины.
Созвездие
Была темна дорога, словно ров.
Он знал, что в зарослях таятся змеи.
Бледнел закат полоской вдалеке.
И он ступил, спокоен и суров,
на узкий путь – и разве что сильнее
свой виноградный посох сжал в руке.
И мнилось, что огромную змею
он убивает в тусклом звездном свете,
на небе встав над нею в полный рост.
И так, у эмпирея на краю,
его обвили золотые плети
мерцающего лабиринта звезд.
* * *
«Скорби и плачь, о мой морской народ!..»
Скорби и плачь, о мой морской народ!
Еще недели две, тревожных даже, —
продав улов, при целом такелаже,
себя счастливым счел бы мореход.
Но тени над прибрежиями виснут,
и воет шторм, за валом вал валя,
что возразит скорлупка корабля,
когда ее ладони шквала стиснут?
Трещит канат, ломается бушприт,
летят в пучину сети вместе с рыбой,
на борт волна ложится тяжкой глыбой
и дело черное во тьме творит.
Пусть вопль еще не родился во мраке,
лишь пена шепчется, сводя с ума,
но борт хрустит, ломается корма…
Качай, насос! Вода на полубаке!
Придет рассвет, но нет спасенья в нем,
кораблик вверх глядит пробитым трюмом,
и женщины с усердием угрюмым
глядеть на море будут день за днем.
Лишь гулкой тишиной полны просторы.
Мы – нация бродяг в стране морской,
нам неизвестны отдых и покой,
и зыбко все, и нет ни в чем опоры.
Адриан Роланд Холст
(1888–1976)
Осень
Плывет меж веток полночь тяжело,
а я – внизу. Томление. Усталость.
Так с вечера опять и жизнь умчалась,
и лето отошло.
Я думаю о бешеной борьбе,
о взлетах и падениях случайных,
и вечности, о ветре и о тайнах,
что мир несет в себе,
о ветхости престолов и жилищ,
о бедствиях царей, лишенных власти,
об уцелевших отпрысках династий,
бежавших с пепелищ,
и обо всем, что навсегда мертво,
о чужеземцах, что прошли, как тени,
о странствиях минувших поколений
и о конце всего, —
да, наступил конец, и снова мы
покорны увяданию, и снова
печально вспоминаем свет былого,
встречая стяги утра, что сурово
возносятся из тьмы…
О древних мифах, о добре и зле,
о ней и о себе… о жизни, смерти…
о всех о нас, о вечной круговерти
на сумрачной земле.
Принц, вернувшийся из прошлого
Где шлем его лежит и часа ждет?
Кираса где? Не стоит разговоров.
Пусть мертвая эпоха отойдет.
Под низким небом – только шум раздоров,
стенанья, брань, бряцанье луидоров
еще слышны. Все прочее – не в счет.
Все прочее: осанка, и рука,
и сердце, что тщеславием томилось
открыто, а порой исподтишка,
что, воздавая милость и немилость,
в кровавой жатве преуспеть стремилось,
ведя вперед отборные войска.
Конде Великий, взоров не склоня,
пред нами возвышается сурово.
Сменялись войны – за резней резня, —
но он вернулся, юн и строен снова.
Постигнуть нас его душа готова;
как взглянет он на вас и на меня?
Уходит день, кругом ни звука нет,
лишь где-то вдалеке играют дети,
но тот, кто к нам шагнул из бездны лет,
стоит и ждет в холодном зимнем свете.
По истеченьи четырех столетий
он сам своим вопросам даст ответ.
Он взор косит угрюмый, ледяной,
и никакая боль его не ранит, —
скопец духовный, злобою больной,
он и продаст, и бросит, и обманет
истерзанный народ, который занят
кровавой и бессмысленной войной.
Во всем разочарованный давно,
он рот кривит и замышляет злое.
Короткий зимний день глядит в окно
и гаснет – и в тяжелом снежном слое,
там, за окном, покоится былое;
грядущее же смутно и темно.
Вновь грядущее иго
Сначала страх, и следом – ужас.
Все – слышно. Истреблен покой.
И шторм, в просторах обнаружась,
грядет. Надежды никакой
на то, что гром судьбы не грянет,
Молчат часы, – но на краю
небес – уже зарницы ранят
юдоль сию.
Отчаянная и глухая,
ничем не ставшая толпа,
от омерзенья иссыхая,
кружит, презренна и тупа,
по ветхой Западной Европе, —
но только в пропасть, в никуда,
беснуясь в ярости холопьей,
спешит орда.
Себя считая ветвью старшей
и, оттого рассвирепев,
бубня глухих военных маршей
пьянящий гибелью напев,
им остается к смерти топать, —
в разливе гнева и огня
порабощенных – в мерзость, в копоть
гуртом гоня.
Теперь ничто не под защитой, —
но все ли сгинет сообща.
Затем ли Крест падет подрытый
и рухнет свастика, треща,
затем, чтоб серп вознесся адский,
Европа, над твоей главой —
сей полумесяц азиатский
там, над Москвой?
12 августа 1939 года
Гроза
Грядет гроза и судный меч подъемлет,
темнеют побережья и отроги.
Вкруг сердца замыкаются дороги,
и одинокий ждет, и чутко внемлет,
он долго от окна уйти не хочет,
и словно ждет назначенного срока,
и слышит: тяжкий голос издалека
угрюмо и задумчиво рокочет.
Он смотрит в глубь себя, дрожа от страха,
где в нем покойник ожидает спящий;
в предощущеньи молнии разящей
он знает – для него готова плаха
и приговор – он мечется в кошмаре,
он жаждет жизни, к смерти не готов он,
он жутким одиночеством закован
и вопиет о неизбежной каре…
Из бездны восстают на гребне шквала
пророчества, что сделались законом,
и вихрь ужасен реющим знаменам
вкруг темных стен, – и страстью небывалой
охвачен человек – стать пеплом, тенью,
чтоб были все влечения разбиты,
чтоб не искать в себе самом защиты,
во снах и грезах – но его моленью
ответа нет, призывы бесполезны,
во всезабвенье все бесследно канет —
и он на запад горько руки тянет,
где ждет душа первоначальной бездны, —
над сердцем, пламенеющим в испуге,
кричат деревья, черные от влаги,
и на ветру трепещущие флаги
развешивает дождь по всей округе…
И суд, никем вовеки не обманут,
вершится вспышкой молнии блестящей:
и человек, и в нем покойник спящий,
вдвоем к концу времен сейчас предстанут.
Любовь странника
Друг с другом будем мы нежны, дитя,
о горечь нашей жизни одинокой,
что с древним ветром осенью глубокой
летит меж звезд, как листья, шелестя.
О, мы с тобою будем лишь нежны,
слова любви да будут позабыты:
столь многие сердца уже разбиты
и ветром, словно прах, унесены.
Мы – как листва, что, тихо шелестя,
покоится на ветках в сонной дреме, —
и все неведомо на свете, кроме
того, что знает ветер, о дитя.
Мы оба одиноки – потому
я взгляду твоему отвечу взглядом,
и меж последних снов мы будем рядом,
в молчанье погружаясь и во тьму.
Уйдет любовь, под ветром шелестя,
а ветер принесет еще так много, —
но прежде чем нас разлучит дорога,
друг с другом будем мы нежны, дитя.
Лилит
Куда влекла меня, в какие бездны, чащи
упасть, уплыть, – в звериной радости какой
манил в забвенье мрак ее очей пьянящий,
порочных губ изгиб, – обманчивый покой,
с которым возлежа, она со мной боролась,
даря и боль, и страсть, —
где и в какой ночи повелевал пропасть
поющий голос?
Громады города ломились в стекла окон;
ждала меня во тьме, не открывая глаз;
что ведала она, замкнувшись в плоть, как в кокон,
о древней тайне, глубоко сокрытой в нас?
О чем шептал ей мрачный бог, ее хозяин,
из кровеносной мглы;
один ли я, влача желаний кандалы,
был с нею спаян?
И обречен не размышлять, верша поступок,
и в исступлении сдаваться на краю
стигийских рощ, где свод листвы охрян и хрупок,
и ниспадать, и приближаться к забытью, —
там, где молчит в ответ последнему лобзанью
летейская вода, —
о расставанье, исчезанье без следа
за крайней гранью, —
чему открыты мы в объятьях друг у друга,
в восторге боли преступившие дорог
уничтоженья, наслаждения, испуга,
еще не знающие, что бессмертный бог
встает, величественно все поправ тяжелой
безжалостной стопой, —
и гибнет человек, крича в тоске тупой —
слепец двуполый.
И пробудясь от грез, воистину звериных,
я понял – страсть моя поныне велика;
как прежде, одинок, через просвет в гардинах
я вижу вечер, что плывет издалека, —
и пусть из глаз ее томление призыва
угасло и ушло —
я слышу, город снова плещет о стекло,
как шум прилива.
Зимние сумерки
Золотистых берегов полуокружье,
голубой, непотемневший небосвод,
белых чаек нескончаемый полет,
что вскипает и бурлит в надводной стуже, —
чайки кружатся, не ведая границ,
словно снег над растревоженной пучиной.
Разве веровал я прежде хоть единой
песне так, как верю песне белых птиц?
Их все меньше, и нисходят в мир бескрайный
драгоценные минуты тишины,
я бегу вдоль набегающей волны
прочь от вечности, от одинокой тайны.
Сединой ложится сумрак голубой
над седыми берегами, над простором
синевы, – о знанье чуждое, которым
песню полнит нарастающий прибой!
И все больше этой песнею объята
беспредельно отрешенная душа,
я бегу, морскою пеною дыша,
в мир неведомый, за линию заката.
Там, где марево над морем восстает,
за пределом смерти – слышен голос дивный,
жизнеславящий, неведомый, призывный —
но еще призывней блеск и песня вод.
Вечный остров – о блаженная держава,
край таинственный, куда несут ладьи
умирающих в последнем забытьи,
где прекрасное царит, где меркнет слава, —
я не знаю – это страсть или тоска,
жажда смерти или грусть над колыбелью,
и не жизнью ли с неведомою целью
я уловлен у прибрежного песка?
Но зачем тогда забвенье невозможно,
если нового постигнуть не могу?
Так зачем же помню здесь, на берегу,








