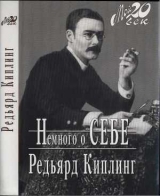
Текст книги "Немного о себе"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
Глава 34
Как я поразил Чикаго и как Чикаго поразил меня; о религии, политике, охоте с копьем на кабана и олицетворении города, которое явилось мне посреди бойни
Я знаю всю хитрость и жадность твою,
Капризы и похоть твои узнаю,
И вся твоя слава кричит на углах
О грубом богатстве и пошлых дарах.
Я увидел город, настоящий город, который зовется Чикаго. Остальные не в счет. Сан-Франциско, конечно, город, но помимо всего прочего – популярный курорт. Солт-Лейк-Сити – необыкновенное явление. А Чикаго – первый по-настоящему американский город, который оказался на моем пути. Он вмещает более миллиона человек вместе с органами самоуправления и заложен на той же основе, что и Калькутта. Глаза мои не смотрели бы на него. Чикаго населен дикарями. Его воды – воды Хугли, а воздух – сплошная грязь. Говорят, что этот город – «босс» всей Америки.
Не верится, чтобы Чикаго имел какое-либо отношение к стране. Мне посоветовали поселиться в отеле «Палмер хаус». Это не что иное, как раззолоченный крольчатник, увешанный зеркалами. Я вошел в огромный зал, отделанный пестрым мрамором и переполненный людьми, которые говорили о деньгах и плевали во все углы. Одни варвары врывались туда с улицы с письмами и телеграммами в руках, другие выбегали из этого ада, третьи кричали друг на друга. Какой-то человек, принявший достаточную дозу, подсказал мне, что все это, вместе взятое, – «самый лучший отель в самом лучшем на земле Всевышнего городе». Кстати сказать, когда американец желает упомянуть соседнее графство или штат, он называет их «землей Всевышнего». Это снимает все вопросы и удовлетворяет его тщеславие.
Затем я бродил по бесконечно длинным и ровным улицам. Что ни говори, жизнь на Востоке, сколько бы ни продолжалась, не приводит к добру. В результате здесь, в Чикаго, ваши идеи неизбежно сталкиваются со взглядами каждого белого, который оказывается правым во всем.
Я всматривался в перспективу улиц, стиснутых девяти-, десяти-, пятнадцатиэтажными зданиями, которые были заполнены до отказа мужчинами и женщинами, и ужасался. За исключением Лондона (я успел забыть, как он выглядит), я нигде не встречал столько белокожих людей разом и такого скопления несчастных. Здесь не было ни красок, ни изящества – лишь путаница проводов над головой и грязная каменная мостовая под ногами.
Кэбмен вызвался за один час раскрыть мне все великолепие города, и я отправился с ним. По его представлению, весь это шум и суета были достойны восхищения. Он считал, что ставить людей друг на дружку в пятнадцать слоев или рыть норы для офисов – просто здорово. Он сказал, что Чикаго – очень оживленный город, и все существа, снующие взад и вперед, занимаются бизнесом. Это значит, что они пытаются делать деньги, чтобы не умереть от пустоты в желудках. Кэбмен отвез меня на каналы, черные как чернила и наполненные какой-то мерзостью, не имеющей названия, а затем попросил обратить внимание на потоки транспорта на мостах. Потом он проводил меня в салун и, пока я утолял жажду, указал на пол, покрытый монетами, утопленными в цементе. Даже готгенготы не способны на подобное варварство. Монеты действительно производили некоторый эффект, но человек, который положил их туда, вовсе не думал о красоте и потому был дикарем. Затем мой провожатый показал деловые кварталы, расцвеченные броскими вывесками и фантастически нелепыми рекламами. Когда я глядел вдоль затейливо украшенных улиц, мне казалось, будто сами торговцы стояли у дверей своих магазинов, выкрикивая: «Экономьте деньги! Пользуйтесь только моими услугами, покупайте только у меня, и только у меня!»
Вам приходилось наблюдать за толпой на наших пунктах раздачи помощи голодающим? Тогда вы представляете себе, как люди выпрыгивают над головами других, простирая руки в надежде, что их заметят, как горестно хнычут женщины, похлопывая детей по животикам. Скорее я предпочту любоваться процедурой раздачи пищи голодающим, чем смотреть на белых людей, занятых, как они сами это называют, свободным предпринимательством. Первое я понимаю. От второго тошнит. Кэбмен сказал, что это – доказательство прогресса, и я догадался, что он читает газеты, как каждый разумный американец. На языке, доступном пониманию читателей, те неустанно твердят, что паутина телеграфных проводов, нагромождение зданий и делание денег и есть прогресс.
Я провел десять часов в этой необъятной дикой местности, пробираясь по ужасным многомильным улицам, распихивая локтями сотни тысяч ужасных людей, которые, гнусавя, все твердили о деньгах. Кэбмен покинул меня, однако вскоре я набрел на человека, которого буквально распирало от цифр, и он швырял их мне в уши в подходящий момент, или когда на виду оказывалась какая-нибудь крупная фабрика. Здесь они вырабатывали такие-то ткани и такие-то изделия на столько-то сотен тысяч долларов, там – миллионы других вещей. Одно здание стоило столько-то миллионов долларов, другое – тоже миллионы (больше или меньше). Это напоминало лепет ребенка над кладом ракушек или игру дурака в пуговицы. Но от меня ожидалось большее, чем простое созерцание. Провожатый требовал, чтобы я восхищался. Но я сумел лишь произнести: «Неужели? В таком случае мне жаль вас». Он рассердился и заметил, что таким неотзывчивым меня делает зависть, присущая всем островитянам. Как видите, он ничего не понял.
Примерно через четыре с половиной часа после того, как Адама выставили из Эдема, он проголодался и тогда, приказав Еве остерегаться падающих плодов, вскарабкался на кокосовую пальму. При этом он изранил ноги, исцарапал грудь и с трудом переводил дыхание. Ева чуть было не умерла со страху, опасаясь, как бы ее господин не сорвался вниз, завершив таким образом земную трагедию, над которой едва успели поднять занавес. Повстречай я тогда Адама, то пожалел бы его. Сегодня я вижу, что миллион с лишним его сыновей не уступают отцу в искусстве добывания хлеба насущного, но стоят неизмеримо ниже его в том отношении, что полагают, будто их пальмы ведут прямо на небеса. Соответственно мне жаль каждого из них по-своему. На нашем Востоке даже самый последний нищий может заработать на кусок хлеба; кроме того, с ним могут поделиться крохами более благополучные друзья. В менее благословенных странах о нем могут просто забыть. Затем я отправился в постель. Это было в субботу вечером.
Воскресенье принесло мне необычное испытание – познать откровение совершеннейшего варварства. Я наткнулся на некое заведение, которое официально значилось церковью. На самом деле это был цирк, однако верующие не подозревали об этом. Здание утопало в цветах, было отделано плюшем, мореным дубом и прочей роскошью, включая витые бронзовые канделябры в истинно готическом стиле. К этим вещам и сборищу дикарей внезапно вышел удивительный человек, пользовавшийся полным доверием у их бога, с которым он обращался запанибрата и эксплуатировал, словно газетчик – высокую персону. Однако в отличие от репортера он не позволял слушателям забывать, что именно он, а не бог является центром внимания.
Прямо-таки серебряным голосом, прибегая к образным выражениям, заимствованным на аукционах, он выстроил для слушателей небеса по подобию «Палмер-хауса» (правда, позолота обратилась у него в чистое золото, а обыкновенные стекла – в алмазы), затем поместил в центре своего сооружения громогласное, любящее поспорить и очень хитрое создание, которое обозвал богом. На этом месте его речи мой восхищенный слух поймал такую фразу (à propos Судного дня): «Нет! Говорю вам. Господь делает бизнес иначе». Он предъявлял слушателям доступное им божество, которое восседало на небесах из золота и драгоценностей, что могло вызвать у них естественный интерес. Он насыщал свою речь выражениями улицы, прилавка, биржи, а затем заявил, что религия должна войти в повседневную жизнь каждого. Полагаю, он представлял себе повседневную жизнь такой, какую вел со своими приятелями.
Я вышел вон, не дождавшись благословения, не желая получать его от такой личности, но люди, которые внимали этой личности, казалось, испытывали наслаждение. Тогда я понял, что встретил популярного проповедника. Позднее, читая поучения некоего джентльмена по имени Тэлмадж [358]358
Тэлмадж, Томас (1839—1902) – американский религиозный деятель пресвитерианской церкви
[Закрыть]и некоторых прочих, я догадался, что тогда мне попался сравнительно кроткий экземпляр. Однако этот человек, который носился со своими грубыми золотыми и серебряными идолами, засунув руки в карманы и не вынимая сигары изо рта, в разухабистой манере обращавшийся со святыми сосудами, наверняка считал себя духовно подготовленным к миссии обращения индейцев. Все воскресенье я слушал людей, которые заявляли, что прикрепить полосы железа к деревяшке и пустить по ним парового и железного зверя – это прогресс. Телефон и паутина проводов над головой – тоже прогресс. Они повторяли это снова и снова. Кто-то пригласил меня в Сити-Холл, где помещалось управление общественных работ, и с гордостью показал его. Холл был безобразный, но очень вместительный, а улицы, напротив, – узкие и грязные. Когда я увидел лица людей, которые занимались бизнесом в этом здании, то понял, что их поместили здесь по ошибке.
Кстати сказать, я утешаю себя тем, что пишу не для читателей в Англии. Иначе мне пришлось бы изобразить экстаз по поводу чудо-прогресса в Чикаго, которого там достигли после великого пожара, а время от времени ссылаться на возвышение (в футах) городских построек над уровнем озера, лежащего перед ним, и вообще пресмыкаться перед золотым тельцом. Но вы сами отчаянные бедняки, с которыми не считаются, и вы поймете, что я имею в виду, когда пишу, как им удалось собрать вместе на плоской равнине свыше миллиона человек, основная масса которых по своему развитию стоит, по-видимому, ниже, чем махаджаны [359]359
Махаджан (инд.) – ростовщик, торговец, банкир, обычно индуистского или джайнского вероисповедания
[Закрыть], и отличается меньшей общительностью, чем пенджабский джат после жатвы. Однако не думаю, чтобы суетливость этих людей, их жаргон или ужасное невежество относительно всего на свете, что не имеет к ним непосредственного отношения, вызвали во мне большее раздражение, чем чтение их прессы. Во-первых, между Нью-Йорком и Чикаго разгорелась чуть ли не война за право организовать у себя промышленную выставку, и вот самые влиятельные журналы в том и другом городе принялись хулить и поносить соперников, словно конкурирующие мальчишки-газетчики. Это называлось юмором, но звучало иначе. Но это еще не все. Второе – тонны этой издательской продукции. Передовые статьи, где встречались перлы наподобие: «Зад такой-то и такой-то местности», «Мы отметили, вторник, такое событие» или «Не» вместо «Нет» – это еще куда ни шло. Нечто иное вызвало во мне желание залиться горючими слезами: газеты добросовестно воспроизводили воинственные крики и пошлости, почерпнутые в «Палмер-хаусе», сленг парикмахерских, демонстрировали интеллектуальный уровень и моральную чистоплотность проводника пульмановского вагона, достоинство экспонатов рыночного балагана и объективность возбужденной рыбной торговки. Мне строго-настрого запретили думать, будто газета призвана заниматься воспитанием публики. В таком случае должен ли я поверить, что прев-су воспитывает публика?
Когда меня охватило уныние и ощущение нереальности и я очень нуждался в поддержке, появился какой-то человек и завел разговор о том, что он называл политикой. Мне пришлось заплатить около шести шиллингов за дорожное кепи ценой не больше восемнадцати пенсов, а он сделал из этого факта текст, достойный проповеди, заявив, что Америка – богатая страна и ее гражданам нравится переплачивать за вещи вдвое. Они могут себе это позволить. Он сказал, что правительство обложило покровительственной пошлиной (от десяти до семидесяти процентов) иностранные изделия, и поэтому американские предприниматели выручают за свои товары приличные суммы. Таким образом, импортная шляпа, обложенная пошлиной, стоит две гинеи.
Американский промышленник продает шляпу стоимостью семнадцать шиллингов за один фунт пятнадцать шиллингов. Далее собеседник сказал, что в этом и заключается секрет величия Америки и упадка Англии. Конкуренция между фабриками помогает удерживать цены на сходном уровне, но не следует забывать, что американцы богаты (не то что нищие – жители старого континента) и поэтому с удовольствием оплачивают пошлины. Моему слабому интеллекту это казалось жонглированием бумагами. Все, что я до сих пор приобрел здесь, стоило вдвое дороже, чем в Англии, а качество местной продукции было значительно ниже.
Более того (поскольку прежде обдумал эти строки), я нанес визит владельцу одной из фабрик. Та была закрыта, но он все же владел ею; там не было ни души, но хозяин умудрялся извлекать приличный доход, потому что получал от синдиката фирм определенные суммы в награду за то, что закрыл свою фабрику, то есть за то, что она ничего не производила. Этот человек сказал, что стоит отменить покровительственную пошлину, как страна наводнится дешевой рабочей силой. Я смотрел на его фабрику и думал, что лучше вообще лишиться рабочей силы, чем видеть такое ужасное будущее. Между тем, как вы, наверно, помните, население этой своеобразной страны наслаждается тем, что оплачивает непроизводимые ценности. Я иностранец, но не в силах понять, почему за восемнадцатипенсовую шляпу необходимо платить шесть шиллингов или восемь шиллингов за коробку сигар стоимостью в полкроны. Когда эта страна обретет достаточное количество населения, то несколько миллионов (отнюдь не иностранцев) будут поражены подобной же слепотой.
Однако утверждения моего друга все же полностью соответствовали гротескной жестокости Чикаго. Судите сами! В деревушке Иссер-Джанг (по дороге в Монтгомери) живут четыре работящие женщины, которые просеивают в год около семидесяти бушелей зерна. По соседству с ними живет ростовщик Пуран Дасс, который под хорошие проценты ссужает до пяти тысяч рупий в год. Джовала Сингх, кузнец, за триста шестьдесят пять дней в году ремонтирует для всей деревни сошники плугов (около тридцати). Хукм Чанд – писец и глава небольшого местного клуба под Деревом Путников – обычно снабжает деревню новостями, которые парикмахер и повивальная бабка не успели сделать всеобщим достоянием.
Чикаго очищает от шелухи и просеивает пшеницу миллионами бушелей; сотни банков ссужают миллионы долларов в год; десятки заводов производят плуги и машины; десятки дневных газет ежедневно выполняют работу, которую проделывают Хукм Чанд, парикмахер и повивальная бабка в деревне Иссер-Джанг (с должным учетом об щественного мнения). Таким образом, Чикаго отличается от Иссер-Джанга лишь интенсивностью производства, но не его качеством. В повседневной жизни Иссер-Джанг, несмотря на эпизодические эпидемии холеры, все же превосходит Чикаго. Джовала Сингх старается обходить стороной три-четыре поля на краю деревни, которые посещаются вурдалаками. Однако миллионы дьяволов не заставляют его бегать день-деньской под лучами раскаленного солнца и кричать, что его лемеха лучшие в Пенджабе. Пуран Дасс выезжает на своей телеге не чаще двух раз в году, но, если надо, сумеет воспользоваться телеграфом и железной дорогой не хуже сынов Израиля из Чикаго. Конечно, все это вздор. Восток – не Запад, и здешнему люду все равно придется иметь дело с механической жизнью, называя это прогрессом. Даже проповедники не смеют упрекать их. Они лишь наводят глянец на этот прогресс, утверждая, что погоня за деньгами – это проклятие, которое вдвое горше Адамова, – наделяет человека широким кругозором и высокими помыслами. Они не говорят: «Освободитесь от собственного рабства», а скорее призывают: «Если вам кое-что удается в этой жизни, все же не придавайте слишком большого значения мирским делам». Да знают ли они сами, что такое мирские дела?
Я отправился взглянуть, как забивают скот на чикагских бойнях. Я хотел немного проветриться, так как моя голова (вы, наверно, догадываетесь) шла кругом. Говорят, что все заезжие англичане обязательно посещают бойни, которые находятся примерно в шести милях за городом. Это зрелище невозможно забыть. Куда ни посмотри, раскинулись загоны, разбитые на блоки так хитроумно, что из любого животные легко сгоняются к наклонному деревянному переходу, ведущему в крытый коридор, который возвышается над этим городом. Коридоры похожи на двухъярусные виадуки: по верхней галерее обреченно бредет крупный рогатый скот; по нижней – постукивая острыми копытцами и оглушительно взвизгивая, бегут свиньи. Всем им уготована одна участь. Толпы скота дожидаются своей очереди (иногда сутками), и нельзя допустить, чтобы их беспокоил вид сородичей, бегущих в предчувствии смерти. Они видят только, как какой-то человек верхом на лошади подгоняет кнутом их соседей в другом загоне. Отодвигаются какие-то ворота, засовы, и не успеешь оглянуться, как очередная толпа подступает к разверстой пасти наклонного туннеля, чтобы исчезнуть в нем навсегда. Свиньи – иное дело. Они визгом предупреждают своих друзей об исходе, и сотни загонов отвечают, словно звуками волынок. Сначала я занялся свиньями. Выбрав виадук, переполненный животными (это легко определить на слух), я заметил, что он вел к мрачному зданию, и направился туда, старательно избегая приблудных животных, которые умудрились не попасть по назначению. Приятный запах соленого раствора предупредил о том, что мне предстояло увидеть.
Я вошел в помещение фабрики и обнаружил, что оно переполнено бочонками со свининой. На другом этаже была свинина, еще не рассортированная по бочкам; в огромном зале висели половинки свиных туш, а у окна были сложены огромные плиты льда. Это помещение служило покойницкой, где свиньи отлеживались, словно над ними свершался акт гражданской панихиды, прежде чем отправиться в путь сквозь такие проходы, какими порой путешествуют даже короли. Завернув за угол, я не заметил устройства, которое состояло из густо смазанного рельса, колеса и блока, и оказался в объятиях четырех потрошенных трупов, белых как снег и похожих на человеческие, которые подталкивала личность, облаченная в пурпур. Отпрянув в сторону, я чуть было не поскользнулся. В ноздрях стоял аромат фермы, в ушах – многоголосые крики. В них не было радости. Двенадцать человек стояли в две шеренги – по шесть в каждой. Между ними, поверх голов, проходила железная дорога смерти, которая чуть было не выбросила меня из окна. Рабочие держали в руках ножи (рукава их рубах были обрезаны по локоть), и с головы до пят каждый был залит кровью. Благодаря обилию испарений и множеству тел стояла духота, словно у нас в Индии удушливой ночью в период дождей. Я добрался до начала начал и, примостившись на узенькой балке, объял одним взглядом всех свиней, вскормленных в штате Висконсин. Их только что выплюнула пасть виадука, и они толпились в большом загоне. Оттуда с помощью хлыста их побуждали перейти в меньшую камеру (по нескольку за один прием), и там какой-то человек прикреплял строп к их задним ногам и подвешивал к железной дороге смерти. О! Только тогда они начинали вопить, призывая матерей и обещая исправиться. Затем человек подталкивал их в спину, и они скользили вниз головой по проходу, выложенному кирпичом, который напоминал огромную кроваво-красную кухонную раковину. Там их ожидал красный человек с ножом, которым проворно чиркал по горлу каждую прибывшую свинью. Звонкий визг переходил в бессвязное лопотание, которое сменялось затем шумом тропического ливня.
Красный человек стоял, прислонившись спиной к стене коридора, стараясь держаться подальше от неистово бьющих по воздуху копыт, и прикрывал глаза рукой, но отнюдь не из сострадания. Брызжущая кровь била ему в лицо, и он едва успевал поразить ножом очередную жертву. Зарезанная, но все еще дрыгающая ногами свинья окуналась в чан с кипящей водой и больше не произносила ни звука. Она послушно барахталась там по прихоти какой-то машины, а затем появлялась на поверхности в дальнем конце чана, попадая на лезвие грубого механизма, который напоминал гребное колесо парохода и со звуком «Хо! Хо! Хо!» срезал щетину. Она оставалась лишь на небольших участках кожи, с которыми расправлялись с помощью ножей двое работников. Затем тело свиньи снова стропилось за ноги к упомянутой железной дороге и пропускалось сквозь строй двенадцати работников (тоже с ножами в руках), оставляя каждому из них какую-нибудь часть своей индивидуальности. Эти части немедленно куда-то увозились на колесных тачках. Когда свинья добиралась до последнего человека, на нее было приятно посмотреть, хотя она оказывалась липкой и полой внутри. Индивидуальность всегда служила препятствием для поездки за границу. Хавронья никогда не сумела бы посетить Индию, не расстанься она с некоторыми дорогими ее сердцу убеждениями.
Разделка туш не произвела на меня такого сильного впечатления, как убой. Эти свиньи, они были такие живые, а потом – совершенно мертвые, а человек в хлюпающем, липком и душном коридоре, казалось, не обращал на это никакого внимания. Едва кровь очередной свиньи переставала пениться на полу, как следующая и еще четыре подруги вскрикивали в последний раз и умолкали навек. Однако свинья – всего лишь нечистое животное, проклятое Пророком.
Мне довелось сделать еще одно любопытное открытие, когда я наблюдал за убоем крупного рогатого скота. Там все было крупнее и не раздавалось тревожных звуков, но я учуял запах соленого кровяного ручья прежде, чем моя нога ступила под своды фабрики. Быки и коровы попадали туда иначе, чем свиньи. Они выходили словно из ущелья на широкий двор. Сотни рыжих, крупных, упитанных животных. В самом центре двора стоял рыжий техасский бычок с недоуздком на своей буйной голове. Никто не управлял им. Он как бы ковырял в зубах и насвистывал в собственном хлеву, когда прибывал скот. Как только первое животное, озираясь с опаской, появлялось из виадука, этот рыжий дьявол словно закладывал руки в карманы и, ссутулившись, без всякого понукания шел навстречу. Затем он мычал нечто по поводу того, что он постоянно назначенный гид этого заведения и охотно проведет экскурсию. Они были деревенскими жителями, но умели вести себя прилично. Итак, сотня сильных терпеливых созданий следовала за Иудой, и на их физиономиях было написано немое удивление. Я видел, как впереди всех колыхалась его спина, когда животные поднимались по беленным известкой наклонным коридором, куда мне запретили пройти. Закрывалась дверь, и через минуту Иуда появлялся снова и с видом добродетельного тяглового бычка занимал свое место в загоне. Кто-то рассмеялся, но я не слышал, чтобы какие-либо звуки доносились из здания, куда скрылся скот. Только Иуда злорадно жевал свою жвачку, и я догадался, что случилось несчастье. Обежав фронтальную часть здания, я вошел внутрь и застыл от отвращения. Кто подсчитывал количество предрассудков, которые мы впитываем порами кожи от окружающих? Но не сам спектакль произвел на меня впечатление. Я чуть было не произнес вслух первое, что пришло мне в голову: «Ведь они убивают священных животных!» Это было подобно шоку. Свиньи – не в счет, но крупный рогатый скот – братья Кау, священной Кау, – совсем другое дело. В следующий раз, когда какой-нибудь член парламента скажет мне, что Индия либо «султанизирует», либо «брахманизирует» человека, я поверю ему только наполовину. Неприятно наблюдать, как убивают коров, когда в течение нескольких лет мысль об этом могла вызвать только смех. Мне не удалось по-настоящему рассмотреть, что происходило сначала, потому что стойла, где они лежали, были отделены от меня пятьюдесятью непроходимыми футами мясников и подвешенных туш. Все, что мне известно, – в нужный момент люди распахивают двери стойла, где уже лежат два оглушенных и тяжело дышащих бычка. Этих убивали резаком, приподняв стропом и перерезая горло. Двое рабочих сдирали шкуру, кто-то отделял голову, и через полминуты рельс, проходящий над головами, уносил обе половинки туши по назначению. В помещении, где производили эту операцию, было довольно шумно, но со стороны ожидавших животных, не видимых по другую сторону загона, не исходило ни звука. Они отправлялись на смерть, беспрекословно доверившись Иуде. В минуту убивали пятерых, и если люди, которые занимались свиньями, были обрызганы кровью, то тут рабочие купались в ней. Кровь с журчанием стекала по сточным желобам. Куда бы ни ступила нога, к чему бы ни прикоснулась рука – все было покрыто толстым слоем запекшейся крови. Зловоние вселяло ужас.
И тогда милосердное Провидение, которое сеяло добро на моем пути, послало мне олицетворение города Чикаго, чтобы я смог запомнить его навсегда. Женщины иногда приходят взглянуть на это убийство, впрочем, как и на людскую бойню. И вот в зал, окрашенный киноварью, вошла рослая молодая женщина с блестящими алыми губами, густыми бровями и копной темных волос, которые были уложены на лбу «вдовьей волной». Женщина дышала здоровьем, богатством и была одета в пламенеющее красное и черное, а на ее ногах (знаете ли вы, что ноги американок можно сравнить разве что с ножками фей?), уверяю вас, красовались алые кожаные туфельки. На нее падал сноп солнечных лучей, кровь струилась у нее под ногами, вокруг висели яркие, багровые туши. Бык истекал кровью в каких-то шести футах поодаль. Фабрика смерти грохотала. Дама смотрела вокруг с любопытством смелым немигающим взглядом и не думала смущаться.
Тогда я сказал себе: «Это особое знамение. Теперь я действительно увидел город Чикаго». И я покинул эти края, чтобы обрести мир и покой.








