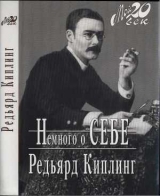
Текст книги "Немного о себе"
Автор книги: Редьярд Джозеф Киплинг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
Если говорить о проверке полученных сведений, деле, которым человек может помочь своему гению, то странно, до чего люди терпеть не могут связанные с этим неудобства. Однажды на второй день Рождества [251]251
второй день Рождества – 26 декабря, День рождественских подарков
[Закрыть], когда земля была густо покрыта инеем, в «Бейтменз» приехал мой друг сэр Джон Блэнд-Саттон, глава корпорации хирургов, целиком сосредоточенный на лекции о мускульных желудках птиц, которую собирался прочесть. После обеда мы уселись перед камином, и он вдруг сказал, что такой-то утверждает, что, если поднести курицу к уху, можно услышать в ее желудке пощелкивание помогающих пищеварению камешков. «Любопытно, – ответил я. – Он авторитет в этом вопросе». – «Да, но… – долгая пауза. – Киплинг, у тебя есть куры?» Я ответил, что есть, туда двести ярдов пути по дорожке, но почему не верить такому-то? «Не могу, – откровенно ответил Джон, – я должен сам убедиться». И безжалостно заставил меня вести его к курам, обитавшим под навесом перед коттеджем садовника. Когда мы шли, подскальзываясь на заиндевелой земле, я увидел чей-то глаз, глядящий из-за опущенной шторы, и понял, что моя репутация трезвенника будет загублена на всех фермах еще до наступления темноты. Мы изловили возмущенную молодую курицу. Джон некоторое время успокаивал ее (он сказал, что пульс у нее был сто двадцать ударов в минуту), потом поднес к уху. «Да, пощелкивает, – объявил он. – Послушай». Я послушал, щелканья внутри у нее было вполне достаточно для лекции. «Теперьможно возвращаться в дом», – заявил я. «Подожди немного. Давай поймаем того петуха. У него пощелкивание будет сильнее». После долгой, шумной погони мы поймали его, камешки в желудке щелкали, словно карты при раскладывании пасьянса. У меня в ухо набралось паразитов, и я шел домой преисполненный такого негодования, что не замечал смешной стороны этой истории. Видите ли, то была не мояпроверка.
Но Джон был прав. Ничего не принимайте на веру, если есть возможность убедиться самому. Хоть это и кажется пустой тратой времени, не имеет никакого отношения к сущности вещей, гения это стимулирует. Всегда сыщутся люди, знающие по профессии или призванию тот факт или вывод, который вы предлагаете читателю. Если вы ошиблись хотя бы на йоту, они доказывают: «Неверно в одном – неверно во всем». Будучи грешен, я это знаю. Точно так же никогда не заигрывайте с читателями – не потому, что некоторые из них этого не заслуживают, просто это дурно сказывается на мастерстве. Весь ваш материал берется из жизни людей. Поэтому помните, как поступил Давид с водой, принесенной ему в разгар битвы.
И, если это в ваших силах, спокойно относитесь к подражателям. Моя «Книга джунглей» породила их целые зоопарки. Но самым гениальным из этих гениев был автор серии книг о Тарзане [252]252
Автор серии книг о Тарзане – имеется в виду американский писатель Эдгар Райс Берроуз (1875—1950), ставший широко известным благодаря серии книг о человеческом детеныше, воспитанном обезьянами (первая книга вышла в 1914 году), и благодаря фильмам по этим книгам.
[Закрыть]. Я прочел ее, но, к сожалению, не видел фильмов, наделавших больше шума. Этот человек «переложил для джазового исполнения» мотив «Книги джунглей» и, думаю, был весьма доволен собой. Говорят, он хотел выяснить, до какой степени скверную книгу может написать и «выйти сухим из воды». Что ж, желание вполне уважительное.
Другая история приключилась со стихами, которые читаются вслух. Во время Войны водитель такси в Эдинбурге сказал мне об одном стихотворении, что оно в большой моде в ночлежках и что он весьма польщен знакомством со мной, его автором. Впоследствии я узнал, что среди солдат и матросов оно ценилось наравне с «Ганга Ди-ном» и неизменно приписывалось мне. Именовалось оно «Зеленый глаз желтого божка». Там описывались английский полковник с дочерью в Катманду, столице Непала, где была военная заварушка; и любовник дочери «безумный Кэрью». Рефрен его звучал примерно так: «И желтый идол зеленоглазый потупил взор». Стихотворение было вычурным, непристойным, в духе, как мне казалось, школы «туалета загородного клуба», к которой проявлял пристрастие покойный мистер Оскар Уайльд. Однако, и для меня это было самым невыносимым, в нем содержался ужасающий намек, что «по милости Бога вот идет Ричард Бакстер». (Вспомните того красавчика, которым так восхищался мистер Дент Питмен.) Сам ли автор это выдумал или создал вдохновенную пародию на скрытые возможности какого-то собрата по перу, не знаю. Но я восхищался им.
Иногда можно изобличить плагиатора. Мне пришлось выдумать дерево с экзотическим названием для человека, который тогда, можно сказать, присосался ко мне. Примерно через полтора года – такое время требуется, чтобы «проверочный» бриллиант, заброшенный в «синюю» землю, оказался на сортировочном столе в Кимберли – мое дерево появилось в его «очерках о природе». Поскольку все мы, писатели, преступники в той или иной мере, я отчитал его, но не слишком сурово.
И я бы посоветовал вам ради того, чтобы не получать ругательных писем, никогда не прибегать к блестящим банальностям, которые старшее поколение именовало «дешевкой». Я давным-давно заявил, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда» [253]253
«Запад есть Запад...» – строка из стихотворения Киплинга «Баллада о Востоке и Западе» (1889)
[Закрыть]. Это казалось правильным, так как я сверялся по карте, однако я постарался показать обстоятельства, при которых эти стороны света перестают существовать. Прошло сорок лет, и в течение доброй их половины блестящие и возвышенные умы всех стран писали мне в связи с каждой новой благоглупостью в Индии, Египте или на Цейлоне, что Восток и Запад встретились. Будучи кальвинистом в политике, я не мог спорить с этими окаянными. Но письма их приходилось вскрывать и просматривать.
Далее. Я написал песню, озаглавленную «Мандалей»; положенная на плавную музыку с трехдольным ритмом она стала одним из вальсов того далекого времени. Солдат вспоминает свои любовные похождения, а в припеве случаи из времени бирманской кампании. Одна из его женщин живет в Мульмейне, не стоящем на дороге куда бы то ни было, и он описывает любовь с некоторой детальностью, но в припеве постоянно вспоминает «дорогу в Мандалей», свой счастливый путь к романтике. Жители Соединенных Штатов, причинившие мне больше всего неприятностей, «завладели» этой песней (до принятия авторского права), положили ее на свою музыку и пели ее своими национальными голосами. Не удовлетворясь этим, они отправились в круиз на пароходе и обнаружили, что из Мульмейна не видно, как за Бенгальским заливом восходит солнце. Должно быть, они плавали и на судах флотилии «Иравади», потому что один из капитанов слезно попросил меня «дать ему для треклятых туристов что-нибудь об этих местах». Не помню, что я отправил ему, но надеюсь, это помогло.
Начни я припев с «О», а не «На дороге» и т. д., это могло бы показывать, что песня представляет собой какую-то связь дальневосточных воспоминаний певца с Бенгальским заливом, увиденным на рассвете с транспортного корабля, который привез его туда. Но «На дороге» в данном случае поется лучше, чем «О». Это простое объяснение может служить предостережением.
Наконец – мне это подействовало на нервы, так как задело нечто значительное – когда после бурской войны стало казаться, что есть какая-то возможность ввести в Англии воинскую повинность, я написал стихотворение «Островитяне», которое после нескольких дней переписки с одной газетой было отвергнуто как невыдержанное, неуместное и неверное. В нем я высказал мысль, что неразумно «для лучшей на свете жизни год службы военной жалеть». И вслед за этим описал жизнь, для которой жалеют год службы так:
Устоям верна старинным, привольна, легка, щедра,
Жизнь так давно идет мирно, что напомнить уже пора:
Возникла она не с горами, не существует извечь.
Люди, не Боги, ее создавали. Люди, не Боги, должны беречь.
И очень вскоре последовало заявление, будто я утверждаю, что «год обязательной службы» будет «привольным, легким» и т. д., и т. д. – с выводом, что я плохо представляю себе военную службу. Столь превратное толкование позволил себе человек, которому следовало знать, что это не так, а мне, пожалуй, следовало понять, что это являлось частью «привольного, легкого» движения к Армагеддону. Вы спросите: «Чего ради навязывать нам легенды о Средних веках?» Да потому что и в жизни, как и в литературе, главное не возраст. Л юди и Дела возвращаются снова и снова, вечно, как времена года.
Но только никогда в жизни, нападая или подвергаясь нападкам, не вступайте в объяснения. То, что вы сказали, может быть оправдано делами или людьми, однако никогда не принимайте участия в собачьей грызне, которая начинается так: «Мое внимание привлекло» и т. д.
Я чуть было не нарушил этот закон в истории с «Панчем» [254]254
«Панч» – еженедельный сатирико-юмористический журнал консервативного направления, основанный в Лондоне в 1841 году и названный по имени главного персонажа народного кукольного театра – неисправимого оптимиста Панча.
[Закрыть], журналом, к которому всегда относился с уважением за его последовательность и привязанность ко всему английскому, из его подшивок я черпал нужные мне исторические сведения. Во время бурской войны я написал стихотворение, основанное на неофициальных критических высказываниях многих серьезных младших офицеров. (Между прочим, там есть блестящая строка, начинающаяся «И может, впоследствии станет всем ясно», – это галактика слов, которую я долго пытался пристроить на литературном небосводе.) Стихотворение никому не нравилось, и в самом деле, примиренческим оно не было, но «Панч» принял его в штыки. К сожалению, – так как этот журнал был в то время популярен. Я не был знаком ни с кем из его сотрудников, но порасспросил и выяснил, что «Панч» в этом конкретном выпуске был – неарийским и «немецким притом». Конечно, сыны Израиля – «народ Книги» [255]255
«Народ Книги» – выражение, подразумевающее, что древнейшая часть Священного Писания – Ветхий Завет представляет собой древнееврейские тексты, написанные на древнееврейском и отчасти арамейском языках
[Закрыть], и во второй суре Корана сказано: «Я превознес вас над мирами». Однако ниже, в пятой суре, написано: «Как только они зажгут огонь для войны, тушит его Аллах. И стремятся они по земле с нечестием, а Аллах не любит распространяющих нечестие!» Что еще более существенно, мой носильщик в Лахоре никогда не объявлял о приходе нашего маленького доброго еврея, стража у дверей масонской ложи, а демонстративно плевался на веранде. Я свой плевок проглотил сразу же.
Долгое время спустя, во время Войны, «Таймс», с которой я не имел дела лет десять, подучила якобы мое стихотворение, озаглавленное «Старый доброволец». Отправлено оно было воскресной почтой, с поддельным штемпелем и без сопроводительного письма. На конверте стоял какой-то штамп сельского почтового отделения, стихотворение было написано с совершенно ровными полями, что свыше моих сил, и каким-то неевропейским почерком. (Я с тех пор, как появились пишущие машинки, рассылал только отпечатанные рукописи.) С моей точки зрения, эта рукопись не могла бы обмануть даже мальчишку рассыльного. В довершение всего стихи были совершенно невразумительны.
Человеческая природа странная штука, и в «Таймс» обозлились на меня больше, чем на кого бы то ни было, хотя, видит Бог, – напоминаю, это произошло в 1917 году – я лишь намекнул, что в этом недоразумении повинно обычное английское разгильдяйство по выходным, когда начальства нет на местах. Там восприняли это с подобающей печатному органу помпой и отправили рукопись экспертам, те заявили, что она состряпана человеком, который чуть не «разыграл» «Таймс» какими-то отрывками из стихов Китса. Этот человек оказался давним моим знакомым, и когда я сказал ему о его «характерных» крупных буквах и их своеобразном наклоне – его, как подчеркнул я, «С, У и Т», он пришел в ярость и, будучи поэтом, долго клялся, что если б не смог написать левой ногой лучшей пародии на мои «вещи», навсегда оставил бы перо. Я поверил ему, так как едва ли не сразу после появления в «Таймс» не особенно бросающегося в глаза опровержения моего авторства, я получил насмешливое письмо о «Старом добровольце» от неарийца, который не особенно высоко меня ценил; почерк наряду с коварным выбором выходного дня (так немцы выбрали неприсутственный день в августе 1914 года) плюс восточная отчужденность и бесчувственность, позволяющая играть в такие игры в разгар борьбы не на жизнь, а на смерть, вызвали у меня серьезные подозрения. Он уже пребывает в лоне Авраамовом, и я никогда не узнаю истины. Но «Таймс» казалась вполне довольной своими крупными буквами и их наклоном, и между нами завязалась настоящая война, заполнявшая мои дни и ночи. Потом «Таймс» отправила ко мне домой детектива. Я не мог понять, с какой целью, но, естественно, заинтересовался. Это был такой детектив, какими их рисуют в книгах, вплоть до скрипа обуви. (С чисто человеческой стороны за обедом выяснилось, что он хорошо разбирается в подержанной мебели.) Официально он вел себя, как все детективы в литературе того времени. В конце концов он уселся спиной к свету напротив меня, сидевшего за письменным столом, и рассказал мне длинную историю о человеке, который беспокоил полицию жалобами на анонимные письма, приходящие неизвестно откуда, и как потом благодаря проницательности полицейских выяснилось, что он сам писал их себе с целью приобрести известность. Как и в случае с молодым человеком в канадском поезде, казалось, что эта история взята из какого-то журнала шестидесятых годов; и я с таким интересом следил за ее сложным развитием, что до самого конца не понимал ее смысла. Потом я стал думать о психологии этого детектива и о том, какую веселую, полную интриг жизнь он, должно быть, ведет, о психологии «Таймс» в безвыходном положении, где все выглядят не лучшим образом, и как Моберли Белл, которому я подражал в юности, повел бы себя в подобном деле; что подумал бы об этом Бакл [256]256
Бакл, Джордж Эрл (1854—1935) – английский литератор и журналист, работавший в газете «Таймс»
[Закрыть], которого я любил за искренность и доброту. И поэтому забыл о защите своей «оскорбленной чести». История перешла из области здравого смысла в сферу возвышенной истерии. Мне оставалось только предложить детективу еще шерри и поблагодарить его за приятную беседу.
Я рассказывал об этом так долго, потому что иногда органы печати с идеалистическими наклонностями дожидаются, когда человек умрет, а затем публикуют собственные версии. Если такое произойдет, попытайтесь поверить, что я в самое трудное время Войны только тем и занимался, что вел эту игру с «Таймс», Лондон, Принта нг-Хауз-сквер.
В ходе семейных разговоров часто возникал спор, смогу ли я написать «настоящий роман». Отец считал, что обстоятельства моей работы и жизни помешают этому. Время подтвердило его правоту.
А теперь любопытная история. На Парижской выставке 1878 года я увидел и запомнил на всю жизнь картину, изображающую смерть Манон Леско, и забросал вопросами отца. Эту поразительную «единственную книгу» аббата Прево я читал одновременно с «Roman Comique» [257]257
«Комический романс» (франц.).
[Закрыть]Скаррона [258]258
Скаррон, Поль (1610—1660) – французский поэт и писатель, роман которого (1651—1657) представляет собой описание быта и нравов французского общества XVII века, увиденных глазами труппы странствующих комедиантов
[Закрыть]примерно в восемнадцать лет, и мне вспомнилась та картина. На мой взгляд, замысел находился в спячке, покуда мой переезд в Лондон (хотя это не Париж) не разбудил его, и «Свет погас» – это своего рода переиначенная, огрубленная фантасмагория, основанная на «Манон». Я утвердился в этом убеждении, когда французы стали с удовольствием читать этот conte [259]259
Рассказ, сказка (франц.).
[Закрыть], и мне всегда казалось, что в переводе он читается лучше, чем в оригинале. Но это всего лишь conte – не выстроенная книга. «Ким», разумеется, откровенно плутовской, бессюжетный роман – произведение, навязанное извне.
Однако я в течение многих лет мечтал выстроить настоящее судно из хорошо высушенного леса – тика и дуба; каждый изгиб плавно переходит в другой, чтобы море нигде не могло встретить сопротивления или хрупкости; весь его вид вызывает мысль о движении, даже когда громадные паруса на краткое время убраны и оно стоит в нужной гавани – судно, балластированное чушками точнейшего исследования и знания, вместительное, с изящными нижними палубами, окрашенное, резное, позолоченное по всей длине, от сияющих кормовых балконов, окаймленных бронзой пальмовых стволов, до вызывающего носового украшения – достойное занять место рядом с «Монастырем и очагом» [260]260
«Монастырь и очаг» – исторический роман (1861) английского прозаика и драматурга Чарлза Рида (1814—1884).
[Закрыть].
Будучи не в состоянии осуществить этот честолюбивый замысел, я отверг его как «недостойный вдумчивого ума». Точно так же полуслепой человек отвергает стрельбу в цель и гольф.
И я не дожил до того дня, чтобы на горизонте появилось новое трехпалубное судно, содрогающееся от собственной мощи, заполненное барами, танцевальными залами, блистающее хромированной сточно-фановой системой, шумное от спортивных площадок до парикмахерских, но служащее своему поколению, как старые суда своим. Молодые люди уже делают их чертежи, твердо веря, что прежние законы проектирования и строительства для них не существуют.
Какими же орудиями работал я на своем старом чердаке? В этом отношении я всегда был разборчив, чтобы не сказать манерен. В Лахоре для писания «Простых рассказов» пользовался тонкой восьмигранной агатовой ручкой с пером «уэверли». Она была подарена мне, и, когда в недобрую минуту сломалась, я очень расстроился. Затем последовал ряд безликих вставочек: все с перьями «уэверли», потом серебряная ручка в виде гусиного пера, на которую я возлагал большие, так и не сбывшиеся надежды. На Стрэнде я приобрел огромную оловянную чернильницу и выцарапал на ней заглавия рассказов и книг, которые написал, обмакивая в нее перо. Однако, когда я женился, горничные стирали эти надписи, и в конце концов чернильница стала гладкой, как стертый палимпсест [261]261
Палимпсест (греч.) – древняя рукопись, написанная на писчем материале, обычно пергаменте, после того как с него счистили прежний текст
[Закрыть].
Потом я отказался от перьевых ручек «уэверли», которые нужно было макать в чернила – само перо я не менял – и в течение долгих лет пользовался маленьким «стилографом» и его преемницей, авторучкой, которой вечно сажал кляксы. В последние годы привязался к тонкому, гладкому черному сокровищу (его официальное название «Джаэль»), приобретенному в Иерусалиме. Я пробовал также ручки с насосом, но их «стеклянные внутренности» были невыносимы.
Из чернил мне требовались самые черные, и живи я в отцовском доме, как некогда, держал бы специального слугу для приготовления туши. Все черно-синее было отвратительно моему гению, и я никак не мог найти подходящих красных чернил, чтобы отмечать начало абзацев, которые хотел переделать потом.
Блокноты составлялись для меня неизменно из больших голубовато-белых листов, которые я расходовал в высшей степени расточительно. Эта старомодность не мешала мне во всех странах покупать блокноты.
Карандашами я перестал пользоваться – может быть, потому, что они надоели мне, когда я работал в газете. Кроме имен, дат и адресов я почти ничего не записывал. Если какая-то вещь не остается в памяти, убеждал я себя, записывать ее вряд ли стоит. Но у каждого свой метод. То, что хотел запомнить, я грубо зарисовывал.
Как и большинство людей, которые долго занимаются одной работой на одном месте, я всегда держал какие-то вещицы на вечно находящемся в беспорядке письменном столе шириной в десять футов. Там был лакированный подносик для перьев, полный кисточек и авторучек без чернил; деревянная коробка со скрепками и завязками; другая жестяная с кнопками; еще в одной хранились всевозможные ненужные вещи от наждачной бумаги до маленьких отверток; пресс-папье, принадлежавшее, как утверждали, Уоррену Гастингсу [262]262
Гастингс, Уоррен (1732—1818) – британский государственный деятель, с 1774 года генерал-губернатор Индии, по возвращении в Англию обвиненный в коррупции, но оправданный палатой лордов британского парламента
[Закрыть]; крохотный, но тяжелый котик и кожаный крокодил стояли, прижимая мои бумаги; измазанная чернилами складная линейка и старомодные перочистки, которые ежегодно дарила наша любимая горничная, завершали основную часть этих фетишей.
Мое обращение с книгами, на которые я смотрел, как на орудия труда, считалось варварским. Однако я экономил на перочинных ножах, и моему указательному пальцу это не вредило. Были книги, к которым я относился с почтением, потому что они стояли в запертых шкафах. Остальные, разбросанные по всему дому, были предоставлены своей участи.
Справа и слева на столе стояли два больших глобуса, на одном из них знаменитый летчик [263]263
Знаменитый летчик – можно предположить, что имеется в виду американский летчик Чарлз Линдберг (1902-1974), совершивший в 1927 году первый беспосадочный перелет через Атлантический океан
[Закрыть]как-то начертил белой краской те авиационные маршруты на Восток и в Австралию, которые стали использоваться задолго до моей смерти.
От моря до моря
Глава 1
О свободе и необходимости ее использования; побуждение и проект, которые ни к чему не приведут; изыскание на тему об отчужденности от окружающего и муках проклятого
Когда весь мир так юн, брат,
И зелен полог леса,
И каждый гусь, брат, – лебедь,
Все девушки – принцессы.
Тогда, брат, ногу в стремя,
Мир обскакать не лень,
Кровь юная зовет, брат,
И праздник – каждый день. [264]264
Эпиграф – строфа из поэмы «Молодой и старый» английского священника и писателя Чарлза Кингсли (1819—1875)
[Закрыть]
Когда минуло семь лет, необходимость, которой все мы служим, соблаговолила обратиться ко мне: «Вот теперь можешь совсем ничего не делать. Поживи в свое удовольствие. На один год я снимаю ярмо рабства с твоей шеи. Как ты распорядишься моим подарком?» Рассмотрев вопрос с разных сторон, я захотел было заняться перевоспитанием общества, но, поразмыслив, решил, что на такое дело уйдет больше года и в конце концов общество едва ли будет благодарно мне за это. Тогда я подумал: а не запить ли мне? Но тут же сообразил, что выдержу от силы месяца три, а головная боль после этого продлится все девять.
И вдруг явился глоб-троттер [265]265
Глоб-троттер (англ. букв, «тот, кто рысцой обегает земной шар») – ту-рист-обыватель и верхогляд. Глоб-тротгерами также англоиндийцы называли за глаза чиновников Министерства колоний, существовавшего в 1854—1960 годах, которые наезжали из Англии в индию в инспекторские командировки
[Закрыть], самая ненавистная мне личность. Развалившись в моем кресле, он с нескрываемым высокомерием, которое приобрел на пять недель вместе с билетом конторы Кука, начал поносить Индию. Ведь он прибыл из Англии и, следовательно, перестал соблюдать приличия еще в Суэце.
«Я уверяю вас, – сказал посетитель, – вы здесь слишком приблизились к действительности и поэтому не можете правильно оценить ее. Вы стоите к ней вплотную. А вот я…» – и, скромно вздохнув, покинул меня, чтобы я сам в одиночестве завершил его мысль.
Однако я успел рассмотреть собеседника (от новенького шлема на голове до сандалий на ногах) и пришел к выводу, что передо мной самая обыденная, заурядно мыслящая личность. Затем подумал об оклеветанной, молчаливой Индии, которая отдана на попрание таким злонамеренным типам, об Индии, где люди слишком заняты, чтобы отвечать на поклепы в их адрес. Я чувствовал себя так, словно сама судьба повелевала мне отомстить за Индию чуть ли не трем четвертям человечества.
Я понимал, что исполнение этого замысла потребует немалых и мучительных жертв, потому что мне самому предстоит стать глоб-троггером в шлеме и сандалиях. Но ради нашего крохотного мирка я готов стерпеть и не такое. Я тоже буду «день-деньской» поставлять нашей публике «скандальные суждения» по любому ничтожному поводу, не стыдясь этого. Я двинусь навстречу Солнцу и буду идти до тех пор, пока не достигну Сердца Мира, чтобы снова вдохнуть воздух, пропахший лондонским асфальтом.
Индийское общество не поручало мне ничего подобного, но я сам взвалил себе на плечи эту задачу, назвавшись Главным уполномоченным милого нашим сердцам мирка.
И тогда лик жизни переменился на моих глазах. Я уподобился умирающему, который в свое последнее утро не узнает собственной комнаты и понимает, что видит ее в последний раз. Я намеренно шагнул в сторону от потока нашей привычной жизни и уже не разделял ее интересов.
Между тем все шло своим чередом. На равнине распускались персиковые деревья; поговаривали, что благодаря обилию снегов в Гималаях жара продержится недолго… Мне было безразлично все это. На верандах появились опахала и опахалыцики, а в окнах общественных зданий – крыльчатые вентиляторы. В весеннем саду распевал медник, и ранняя оса с низким гудением летала вокруг дверной ручки. И медник, и оса – оба – предсказывали наступление жаркой погоды. И это тоже не касалось меня. Я словно перестал существовать и смотрел на прежнюю жизнь с равнодушием мертвеца.
Странной была моя жизнь. Я даже не мог точно сказать, минуло семь лет или сутки. Одно было безусловно: я мог наблюдать, как люди отправляются на службу, а сам нежился в роскошной постели; мог выходить на улицу в любое время суток; мог просиживать допоздна с полной уверенностью, что утро не принесет мне новых трудов. Я узнал, с каким чувством заключенный, отбывший срок, оглядывается на тюрьму, которую только что покинул… То есть я постиг переживания, прежде мне недоступные, а кроме того, понял, насколько глубок эгоизм безответственного человека.
Ходили слухи, что наступающий год будет голодным и принесет множество бед из-за обильных дождей. Это опечалило меня; я испугался, что дожди размоют железнодорожную колею, ведущую к морю, и таким образом отсрочат мой отъезд.
Кое-кто предвещал эпидемии, и я вообразил, что Необходимость пожалеет о сделанном мне подарке и немедля, шутки ради, одним махом сметет меня с лица земли, прежде чем я успею увидеть хоть что-нибудь на ее поверхности.
На афганской границе было неспокойно [266]266
На афганской границе было неспокойно... – стремясь захватить Афганистан, Англия вела на его территории ряд войн; вторая англо-афганская война 1878—1880 годов закончилась установлением контроля Англии над афганской внешней политикой, но не принесла умиротворения в регионе
[Закрыть]– возможно, армейские корпуса поднимутся по тревоге, многие люди погибнут, а другие в горных поселениях станут оплакивать их. Я ужасно боялся, что между Иокогамой и Сан-Франциско русский крейсер перехватит пароход, который понесет мою драгоценную персону.
«Да будет отсрочена катастрофа, да не сбудется Армагеддон, – молил я, – не сбудется ради меня, чтобы ничто не помешало мне предаваться удовольствиям. Война, голод, эпидемии обернутся слишком большими неудобствами». И я стал унижаться перед этим великим божеством – Необходимостью, нарочито громко повторяя: «Чур меня! Чур! Забудь обо мне в моих странствиях!» Воистину, мы добродетельны лишь тогда, когда зарабатываем на хлеб насущный.
Итак, я посмотрел на людей другими глазами, и мне стало жаль их. Они трудились. Им приходилось трудиться. А я превратился в аристократа: навещал их в любое время, спрашивал, для чего они трудятся и как часто это делают. Те ворчали в ответ, и зависть в их глазах доставляла мне удовольствие. Однако я не осмеливался насмехаться слишком открыто, опасаясь, как бы Необходимости не пришло в голову схватить меня за шиворот и водворить обратно на мое собственное, не успевшее остыть местечко рядом с ними.
Когда стало ясно, что моя персона внушает отвращение всем знакомым, я удрал в Калькутту, которая, как это ни больно было видеть, продолжала оставаться городом, где даже занимались торговлей, несмотря на то что год назад я официально, в прессе, проклял эту зловонную столицу. Повторяя проклятие, надеюсь, что она все же потерпит крах. Подумать только – подъезжая к городу, приходится закуривать еще на мосту Хаура, потому что лучше заработать головную боль от никотина, чем отравиться миазмами Калькутты.
Некий калькуттец, в общем-то вполне порядочный человек, несмотря на то что работает руками и головой, спросил меня, почему ежегодно попустительствуют сезонному переносу столицы, этому скандальному «Исходу» в Симлу. Я ответил: «Оттого, что ваша Калькутта, эта сточная канава, непригодна для обитания. Потому что все в этом городе: вы сами, ваши памятники, купцы и прочее – гигантская ошибка. Мне приятно сознавать, что десятки лак истрачены на строительство общественных зданий в другой столице, в местечке под названием Симла, а другие десятки лак пойдут на сооружение линии Дели – Калка, чтобы цивилизованные люди ездили в Симлу с комфортом. С открытием этой линии ваш огромный город умрет, будет похоронен, и с ним будет покончено. Это послужит вам уроком, сэр». Тогда он сказал: «Когда здесь идут дожди, покойники превращаются в желе на пятые сутки после погребения. Видите ли, они подвержены омылению». Я ответил: «В таком случае идите и сами подвергайтесь этому. Ненавижу Калькутту».
Я чувствовал себя больным и несчастным; он поклялся, что мой сплин – результат «взгляда на жизнь с точки зрения Симлы», просил не отправляться в путешествие столь предубежденным и пригласил пройтись с ним в местный парк, который называется «Сады Эдема»…
Вы, кто остался трудиться на этой земле, только вообразите: в надлежащее время я сел на пароход и, хотя мне некуда было торопиться, улизнул из Калькутты, воспользовавшись услугами так называемой Бараньей Почтовой компании, которая занимается доставкой овец и почты в Рангун [267]267
Рангун – название столицы Бирмы (совр. Мьянма) до 1984 года, сейчас Янгон, порт в дельте реки Иравади, в 1862 году центр английских владений в Бирме.
[Закрыть]. Казалось, половина Пенджаба ехала с нами, чтобы послужить королеве в Бирманской военной полиции. И снова грубоватый, резкий говор внутренней Индии ласкал слух среди невнятного бормотания бирманцев или бенгальцев. Итак, в Рангун на борту «Мадуры». Дорогие читатели, отправимся-ка вместе со мной вниз по Хуг-ли и попытаемся вникнуть в жизнь лоцманов, этих странных людей, которые знают о существовании суши только потому, что им приходится видеть ее с середины реки.
– Вот и застряли ниже северной подводной гряды. Под килем шесть дюймов. И это при юго-западном муссоне! Наверное, только на небесах знали, куда я иду… – гудел чей-то бас.
– Чего вы хотите? – вторил другой.
– Затмевающиеся огни там не годятся. Дайте мне красный с двумя проблесками, хотя бы на внешней отмели. В мире нет реки хуже, чем Хугли.
– Подумать только, как обращается с вами правительство!..
В конце концов лоцман с Хугли всего-навсего человек. При исполнении служебных обязанностей он волен говорить хоть по-гречески, но когда дело доходит до критики правительства, ругает его так основательно, словно он гражданское лицо, не связанное контрактом. У лоцмана нелегкая жизнь, зато он знает много занимательных историй и, коли с ним обращаются уважительно, может поделиться некоторыми из них.
Если лоцман прослужил на реке «щенком» лет шесть, остался в живых и не износился, то, полагаю, он зарабатывает до пятидесяти рупий, гоняя по речным плесам двухтысячетонные суда с сотнями пассажиров. Но вот он перелезает через борт, унося ваши последние любовные послания, и бродит на своем буксирчике в устье, пока не встретит другой пароход, чтобы ввести его в реку. Для утешения лоцману требуется не слишком много.
Где-то в открытом море несколько дней спустя.
Я решил не писать. Не могу, оттого что меня неумолимо клонит ко сну. Меня обуяла великолепная лень. Журналистика – плутовство. То же самое – литература и искусство. Индия скрылась из виду еще вчера, и двухмачтовое лоцманское суденышко, качавшееся у Сэндхе-да, уносило мое прощальное письмо в тюрьму, которую я покинул. Мы достигли границы синей воды (растопленные сапфиры), и легкий бриз колышет парусину тента. Утром заметили трех летающих рыбок. Чай на чотахазри [268]268
Чотахазри (англо-инд.) – легкий утренний завтрак. Профессор – имеется в виду С.А.Хилл, метеоролог, преподаватель естественных наук в колледже в Аллахабаде, путешествовавший с Киплингом до Сан-Франциско
[Закрыть]не слишком хорош, зато капитан превосходен. Устраивает вас такой бюджет новостей или же сообщить вам по секрету о профессоре и компасе? Позже вы еще не раз услышите о нем, если, конечно, я вновь возьмусь за перо. В Индии профессор работал по девять часов в сутки, а сегодня в полдень проявил интерес к циклонам и прочему. Он даже подумывал спуститься в каюту, чтобы принести компас и некую книгу по метеорологии, двинулся было с места, но, вспомнив о выпивке, заколебался.
– Компас лежит в ящике, – сказал он сонным голосом, – и все дело в том, что придется вытаскивать ящик из-под койки. Если хорошенько подумать – овчинка выделки не стоит.
Затем он принялся слоняться по палубе, а сейчас, полагаю, крепко спит. В его голосе не слышалось ни малейших угрызений совести. Я хотел упрекнуть его, но язык не повиновался мне. Я чувствовал себя еще более виноватым.
– Профессор, – молвил я, – в Аллахабаде выходит глупая газетенка под названием «Пионер». Мне нужно написать туда статью… Написать собственными руками! Вы когда-нибудь слышали что-ни-будь более нелепое?..








