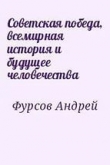Текст книги "Боснийский палач"
Автор книги: Ранко Рисоевич
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Никто тебя не обманывал.
– Обманул, молчи! Обманул, а то что же? Я ведь не знала, чем ты занимаешься, душегуб, – голосила она.
– А что, так ли это для нас тогда важно было, чем я занимаюсь?
– Да я бы ни за что не согласилась! Но ты меня обманул. Ты должен был знать, что у тебя не может быть нормальных детей. Должен был знать! – ее вопли заполнили весь наш маленький домик.
– Что ты несешь? Ты что, ненормальная?
– Это ты сейчас говоришь, что я ненормальная. Я абсолютно нормальная, и всегда была нормальной. Это ты ненормальный, – зачастила она.
– Прекрати! – наконец и он повысил голос.
– Это Бог меня наказал. Да, наказал меня. Всякий, кто с тобой сойдется, будет наказан! Ты проклят!
– Успокойся, говорю тебе. Что ты колотишься, рехнулась, что ли? – прикрикнул он на нее. А ведь не кричал прежде, никогда ни на кого не кричал. Но и спуску никому не давал, всегда своего держался. Кто в себе уверен, тот не кричит, говаривал он частенько.
– Так ты хочешь меня обвинить? Меня, которая тебя приняла с чистым сердцем! Господи, зачем ты меня оставил жить, когда я умереть хотела!
– Я святой, женщина. Не проклятый, но святой. Ты должна это усвоить.
– О Господи, что это? Что это?
Я хорошо запомнил те последние отцовские слова. Не понял тогда их, но запомнил. Больше он никогда не повторял их. Я и сегодня не знаю, что отец хотел этим сказать. Или просто хотел оборониться от ее нападок. Я вновь услышал ее швейную машинку, ее успокаивающее стрекотание. Но не цитру. Он никогда не играл, когда она шила. Но когда она купала меня, то он, если был дома, обязательно играл. И тогда мы вдвоем безмолвно прислушивались к музыке, опасаясь, что он вдруг перестанет играть.
Я думаю, что той ночью они зачали моего покойного брата, или же где-то в те дни. Я считал, так получалось. Тогда я был слишком мал, чтобы разбираться в этом, но я слышал, я не спал. Мать никогда не сопротивлялась, никогда ему не отказывала. Даже после той ссоры, которая закончилась ровно так, как началась, внезапно. Тот, кто мог подумать, что она должна была чем-то завершиться, наверняка не знал моего отца. Боюсь, что я его тоже не узнал.
22
Отец отвел меня в цирк «Веллер». Всего только раз, весной, в проливной дождь. Мы оба промокли насквозь, вода стекала с нас ручейками, когда мы сидели на не струганной деревянной скамье. Все здесь для меня было в новинку, и я сильно испугался. Я не знал, что будет происходить на арене, отец ничего мне об этом не сказал. Не сказал мне даже, куда идем, просто велел следовать за ним. Так у нас было заведено, бесполезно было просить его объяснить хоть что-нибудь. Он не водил меня за руку, я вприпрыжку бегал за ним, потому что он ходил быстро. Не из-за дождя, он всегда так ходил, будто бежит куда-то, или боится опоздать. Он даже есть медленно не умел.
В шатре, кроме нас, было едва ли с десяток зрителей, таких же мокрых, как и мы оба. В основном это были отцы с сыновьями, не припомню, чтобы там была хоть одна девчонка.
Почему я сегодня вспомнил про цирк? Я прижался к отцу, стараясь казаться как можно меньше. Сверкали пестрые огни, клоуны кричали, акробаты прыгали, все неслось с такой огромной скоростью, что у меня в голове все смешалось. Казалось, что они летают по причудливой орбите, словно шар в руках жонглера. Но когда вышел карлик, я испытал невероятный страх – будто кто-то воткнул мне кол в глотку и пропихнул его до самого желудка. Карлик был похож на меня. Я опять прижался к отцу, который, похоже, поняв, что случилось, обнял меня правой рукой. Крошечный карлик бегал по опилкам, кувыркался и болтал глупости, смысл которых до меня не доходил. Это был корявый немецкий язык с нелепыми вставками местного говора.
Казалось, я попал в ловушку. Не брат ли он мне? – спрашивал я себя. А как только он меня усмотрел, что несложно было сделать в почти пустом помещении, он стал обращаться только ко мне. Даже пытался выманить меня на арену, но я спрятался за отцовскую спину.
Возвращались мы молча. Ни единого слова, только по-прежнему трусцой за ним.
– Ну и как? – спросила мать.
Мы оба промолчали.
– Что, столбняк на вас нашел? Что там такое было?
– Ничего, что там может быть, – ответил отец.
– Что вы там видели?
Мы не поняли, кого из нас она спрашивает, и опять оба промолчали. Никто не хотел разговаривать, и она отстала. И мне показалось, что мы оба с облегчением вздохнули.
Отец больше никогда не вспоминал про цирк, а я со временем и вовсе забыл про него.
23
Зайфрид маялся с помощниками, как с непосредственными, помогавшими ему при повешении, так и с плотниками, отвечавшими за строительство виселицы. В основном это были бестолочи, которые так злили его, что он их увольнял одного за другим. Он редко оставался довольным, а на его благодарность вряд ли кто мог рассчитывать. А если к этому еще добавить постоянные неурядицы с оплатой, то становится ясно, почему ему так трудно было угодить. Он считал, что в таком важном деле помощники должны быть идеальными, во всех мелочах. Обязаны стремиться к совершенству, как если бы они мастерили, скажем, мебель. Почему строительство виселицы должно быть менее важным делом, чем сколачивание кухонного стола или буфета?! Напротив, оно куда как важнее, потому что касается государства и его авторитета. Шламперай, все это шламперай и саботаж! Разве никто из выученных местных или из старых мастеров не умеет работать так, как Господь велел?! И этот Алия, которого ему рекомендовали как отличного плотника. Он якобы много лет считается лучшим в Бихаче мастером плотницкого дела.
– Знаешь ли ты, Алия, кто я таков?
– Знаю, а то как не знать, говорят, ты – душегуб.
– Знаешь ли, зачем ты мне нужен?
– А то не знаю! Что зря спрашиваешь?
– Хочу убедиться, что ты умеешь ставить виселицы. Мои виселицы.
– Все виселицы одинаковые, нет тут разницы между твоими и другими.
– Ты их уже ставил, не так ли?
– Ставил, а то. Чего тут удивительного, у нас и до тебя вешали.
– Как ты их ставил? – спрашивает Зайфрид.
– Ну, два столба в землю вкапывал, поперек балку крепкую приколачивал, вот тебе и виселица.
– Плотничать умеешь, Алия?
– А то нет. Мое ремесло.
– Слушай, мне нужен хороший плотник, а не умный, зачем мне умный? Такой, чтобы мог виселицу соорудить так, как я ему скажу, понимаешь?
– А то нет, как не понять. Это тебе не книжку у ходжи читать. Как скажешь, тебе видней. Ведь ты же вешаешь, не я.
– Вешаю, такая у меня профессия, по императорско-королевскому повелению.
– Вах, хорошо. Так какую виселицу желаешь?
– Снизу помост, не очень высокий, как пол. Понимаешь?
– А зачем тебе помост, он ведь не танцы танцевать будет?
– Станцует, коротенько, не дольше комариного писка.
– Народ глядеть придет?
– Нет. А что за дело тебе до этого?
– Так ты ведь про помост говорил.
– В центре помоста отверстие, снизу крышка.
– Как откроешь, так и готов?
– Именно так. Потом толстую рейку, как балка, не меньше двух дюймов.
– Не понимаю.
– Поймешь.
– А за что веревку цеплять будешь?
– Ни за что. Перебросим ее через эту самую балку. Поэтому она должна быть широкой, чтобы жертва к ней спиной прижалась и не дергалась.
– Подумать только! Я такого еще не видывал.
– Поэтому и объясняю тебе. Не все виселицы одинаковы, и не все палачи кретины.
– Машалля, машалля!
24
Рассказчик ну просто сгорает от нетерпения вставить хоть несколько строчек с описанием, каким бы бесполезным оно не казалось. Но ведь даже пауза в застолье усиливает наслаждение.
Лето прошло, горы вокруг Сараево теряют свою свежую зелень и одеваются в желтые цвета множества оттенков. Зайфрид сидит на скамейке перед корчмой в Быстрике, перед ним «Сараевский листок», развернутый на полосе местных новостей. Его имя в газете. Черным по белому писано: «На этой неделе к. унд к. военный трибунал назначил в Конице процесс над пятью пособниками. На днях туда отбыл палач Зайфрид со своим братом и двумя помощниками».
До Коница надо добираться через Хаджич и гору, потому что в Боснии и Герцеговине, как нигде в Европе, повсюду разбросаны реки и горы. Куда не пойдешь – нет уверенности, что доберешься. Куда надо? В Кониц, где пьют лучший кофе в стране, а может, и во всей империи. Толкут его в деревянной ступе, деревянным же пестиком, не спеша, можно сказать, зерно за зерном. Воду берут из источника, редко когда ее не используют в течение часа, потому как считают: отстоявшись, она портится. Толченый кофе насыпают в медную джезву и заливают водой, которая только-только начинает кипеть. Потом ставят на плиту, чтобы пена поднялась три раза. А чтобы гуща осела, добавляют несколько капель холодной воды. Такой кофе и больному пить можно, настоящее лекарство.
Зайфрид быстро привык к местному кофе, но заметил, что в каждом месте его варят по-своему. Он хорошо овладел местным говором, но все равно никак не мог понять, почему они кофе «пекут», а хлеб «варят». Попробовав кофе в Конице, он узнал, что такое настоящий кофе. Поэтому, несмотря тяжкую дорогу и сопровождающие ее опасности, он с удовольствием ездил на юг, по меньшей мере два раза в месяц, обязательно сворачивая на берег Неретвы, где была хорошая кафана.
Похожее местечко, такое же красивое, где он часами мог недвижно сидеть, несмотря на непрекращающуюся кабацкую болтовню, когда кажется, что она вот-вот прекратится, ибо ни у кого уже нет сил продолжать разговор, так вот, такое же местечко было в городе Ключ, на берегу еще более прекрасной реки Саны. И еще там курят кальян и пьют чай. Заваренный на горных травах, с сильным запахом, подслащенный медом. Сидят на веранде, смотрят на воду и на далекие горы.
Грохотал барабан, и глашатай кричал о том, что случится завтра утром. Весть пронесется по Коницу, все будут знать, но никто ничего не увидит. Привыкшие при турках к публичным казням, обыватели не понимают, что происходит за тюремными стенами, там, куда имеют доступ только официальные лица. К чему такая таинственность, говорят в кафанах. Вся эта держава такая таинственная, но все все видят и все все слышат. Как будто даже у кофейных чашек уши есть. Половые, рестораторы, кабатчики, кельнеры, домушники, разорившиеся торговцы и ремесленники, и даже женщины – все они служат полиции в качестве доносчиков, сообщая о том, кто что делает и что говорит. Ни о чем хорошем, конечно, не доносят, так что власть всегда может усомниться в любом обывателе.
Здесь они, за чашечкой кофе, хвалят власть за то, что она хватает гайдуков и их пособников. Иногда им даже кажется, что гайдуков и нет вовсе, по крайней мере, они их не видели, но потом вдруг прослышат про разбой и посетуют, что пособники так и множатся. Чем меньше удачи в отлове гайдуков, тем больше повешенных пособников. А собственно, разве может власть придумать что-нибудь иное, чтобы они больше думали о себе, а не о тех, что в лесах?
Ничего этого Зайфрид не понимает, да оно его и не интересует. Всякое понимание, говорил ему судья Бремер, всякое понимание, уважаемый палач, есть преступный акт, ведущий к предательству, непослушанию и сотрудничеству с врагом. И чтобы я никогда не слышал о том, что ты где-то кому-то сказал про юстификацию. Ясно тебе?! Иди по жизни своим путем, юноша, и приноси пользу нашему императору! Впрочем, последние слова были излишни, всем была известна его любовь к императорско-королевскому величеству.
Как завершится нынешняя поездка, о которой рассказывает наша история, полная бесполезных на первый взгляд описаний? Не остался ли где после нее письменный след, малюсенькая заметочка в несколько слов?
Ни одна газета не сообщила о том, что случилось на обратном пути с Гансом, братом палача. Неизвестно, в самом ли деле он был его родным братом. Жили они раздельно, в кафанах их никогда не видели вместе, и только в те, первые годы, они вместе отправлялись в командировки. При этом Ганс выполнял роль подручного, хотя его знания в области повешения были недопустимо скудными. Когда позже его заменит Флориан Маузнер, Зайфрид назовет брата «швайнкерль».
Итак, на обратном пути Ганс просто-напросто исчез. Прежде чем спуститься к Хаджичу, они отдыхали в лесу. Лил сильный октябрьский дождь, быстро пала ночь. У них был проводник, который шел впереди, но никто и не думал оглянуться, сосчитать, все ли они бредут за ним. Ганс шел последним, он был медлительнее прочих из-за полноты и плоскостопия. Собравшись у кафаны в Хаджиче, где они обычно ночевали, обнаружили, что Ганса среди них нет. Целый час они ждали, когда тот появится, потом еще час размышляли над тем, что следует предпринять, после чего послали двоих на поиски. Может, он подвернул ногу, или ему стало плохо, все может случиться в дальней дороге. До утра его так и не обнаружили. Текли дни, полиция искала его по селам, расспрашивала, обещала награду, но Ганса и след простыл.
Зайфрид шел от города к городу, точнее говоря, от местечка к местечку, ожидая вестей о брате, но таковых не было. Сочли его пропавшим без вести. Наступила зима, а потом и весна, неоднократно по пути на юг Зайфрид с командой проходил через Хаджич, но брата так и не нашел. Как сквозь землю провалился, никакого следа не оставив. Как будто его никогда на земле и не было.
25
Меня с моим внешним видом никогда никуда не принимали. Особенно в компанию детей, которые вечно устраивали жестокие свары. Иногда мне даже казалось, что они по-другому не могут, что их игры бывают только такими. Я смотрел на них из-за забора, на этих играющих соседских детей, прислушивался к их рассказам и песенкам. Приходили ребята из дальних кварталов, не регулярно, а только для того, чтобы продемонстрировать собственное превосходство в силе и в хулиганских выходках. А эти, близкие, по крайней мере, территориально, были, конечно, ничуть не добродушнее, и вовсе не приятельски расположены к пришельцам, а тем более – ко мне. Странно, если бы это было не так, потому что по крайней мере раз в неделю их игры заканчивались драками, после которых кровь текла из разбитых губ и носов. Они орали друг на друга и размахивали палками, совсем как в бою. Сердце у меня колотилось, и комок подкатывал к горлу от страха и непривычного возбуждения. Я боялся этих ребят, которые, казалось, не знали никаких игр, кроме жестоких междоусобиц и непристойных песенок.
Дети соседнего квартала не могли играть со мной, им не разрешали родители.
– Только не с ним, с палаческим отродьем! – сказала девочка, на которую я смотрел из-за забора, и убежала. Наверняка это были слова ее матери, а она их только повторила.
Однако что-то ее влекло ко мне, она приблизилась и смотрела на меня. Мы стояли так несколько минут, после чего она неожиданно высунула язык и убежала. Меня это не обидело, я почувствовал, что чем-то близок ей. А чего бы ей иначе подходить? Другие едва обращали на меня внимание, будто меня нет на этом свете. Особенно ребята, которые забирались в кусты за железной дорогой и демонстрировали свои мужские органы. Я один раз оказался там, совершенно случайно, и видел это. Счастье, что они меня не заметили, иначе бы мне досталось под первое число. Они бы меня не пощадили, еще чего.
Знаю, что отец их тоже видел. Он все видел и все слышал. Они и его не щадили, хотя, стоило ему только выйти на улицу, как они тут же разбегались. Прятались за углом, высовывались оттуда и кричали: «Душе-губ, душе-губ, повесил бы кошку!»
Когда вниз по улице ковылял хромой грузчик Пинто по прозвищу Заяц, они и ему вслед кричали:
Заяц, Заяц,
Ты безрогий,
Подковал себе бы ноги!
У тебя кривые руки,
Не подохнешь ты от скуки!
И почему его прозвали Зайцем?
Меня пугали их песенки, которые с возрастом становились все менее пристойными и все более грубыми. Наверное, они, подрастая, перенимали у старших то, что тем было наиболее близко. Вечно задиристые, никто просто так пройти мимо не может. Повзрослев, они перестают встречаться, не поют вместе и почти не ругаются.
Не раз я пытался нарисовать девочку, которая высунула мне язык. Ее черные глаза, остренький носик, тонкие губы. Нет, она не была красивой, красивой должна была стать картинка. Но ничего не получалось, я рвал рисунки, ни одной не оставил на память. Сейчас мне их жалко, хотя и собираюсь вскоре все свои картины уничтожить. Все до единой, не хочу, чтобы после меня остался живописный след.
26
Рассказчик разрывается между отцом и сыном, и все по поводу песенок. Что кто слушает и запоминает? Что они для него значат, где он на них нарвется и как они подколют его, как он их оборвет?
Зайфрид привык стоять у окна и слушать их задиристые песенки. Что его заставляло это делать, звучание слов или их смысл, который он извлекал из них? Нет, не извлекал – он сам раскрывался перед ним, распахивался. Он не верил, что их смысл одинаков для детей и для него, но для него он не значил ровным счетом ничего. Он даже пытался организовать для них музыкальное сопровождение на своей цитре. Нет, не ритм, он не любит ритм, который его только раздражает, но мелодию. Несколько нот, просто чтобы поддержать слова. Разложит, добавит, и потом повторяет, повторяет как считалку.
Не играй ты в прятки,
Заболеют пятки,
Заплачут девчатки…
Мороз пробежал по коже от этих слов, особенно при упоминании девчат. Какой, чьей девчонки? Почему он повсюду видит женщин? В каждом слове сквозит это чувство, потребность, что ли, он и не думает о том, откуда у детей эта песенка. И случайно ли это его чувство. Неужели и они чувствуют нечто подобное, выкрикивая друг другу эти слова? Наорутся, накричат друг на друга, разругаются и перейдут в телесное качество, доступное им. И ему, его чувствам. Внезапно разволнуются и стыкнутся, взовьются и схватятся парами, совсем как мужчины и женщины.
Мужское и женское начала переплелись, как в собачьей свадьбе, из которой трудно вырваться. Спарятся, кончат, расслабятся, но разбежаться не могут.
Что это, пока он слушает, колотится в его утробе, в самом низу?
Куда подеваться, куда руки спрятать?
Точно так он себя чувствует после некоторых повешений, раздраженный и расстроенный. Прекрасно знает все правила и рекомендации, и ничуть его не касается, что висит тот, кто никого не убивал, все это он понимает, однако волнение охватывает его. Ищет чего-то, чтобы забыться. Все забыть, и себя тоже. И только последние слова эхом звучат в нем: девчатки, девчатки, девчатки… Ворочаются в голове. Мужская сила переполняет его, где от нее освободиться! Прямо тут, под забором, помоги мне, Господи!
А они, хотя и не видят его, будто зная об этих мучениях, заканчивают одну песенку и переходят к следующей. Это не деревенские задорные насмешечки, которые он на дух не переносит. Эти дети для него куда страшнее яда искушения. Откуда у них эти слова, бог их знает:
Ты, старуха-кочерга,
Посмотри на мужика!
А ты, мужичок,
Чеши отсюда со всех ног!
Знает он и тональность этой песенки, прямо-таки видит, как старуха на мужика поглядывает похотливо. Что это за мужик и чего он хочет, его вовсе не интересует. Песенка эта его возбуждает весь день напролет, а к вечеру только последние слова, пока не заснет и не забудет их: «А ты, мужичок, чеши со всех ног! Чеши, мужичок… Чеши… Чеши…»
Иногда от цыганки, что развлекает его, требует, чтобы она спела какую-нибудь из таких песенок. Обычно они исполняют их по-своему, смешивая местные слова с цыганскими, но это ему не мешает. Он смотрит в ее рот, из которого исходят слова, и это еще больше возбуждает его.
27
Как в старинных сказках о добрых феях, Зайфрид иногда встречает необыкновенных женщин, которые просто не должны бы существовать в этой стране. Откуда они берутся, что они здесь делают?
Обычно они связаны с известной сараевской командой поддержки взвода полиции, которая гоняется за гайдуками. Но в то время, как по Крайне крейсирует Мане Цветичанин, эти команды возглавляют исключительно австрийцы. Заброшенные в горы между Романией и рекой Дриной, они тащат за собой семью, если таковая у них есть. Ни доктор Кречмар, ни Зайфрид не понимают, почему у них такие красивые жены. Кто их свел?
– О них надо сказки сочинять, – говаривал доктор Кречмар. – Только так они смогут оказаться в достойном окружении.
– Вы полагаете, кто-то еще читает сказки?
– Их всегда будут читать. Если ты внимательнее приглядишься, то поймешь: все мы вышли из сказки.
Зайфрид не считал, что он вышел из сказки, но у него не было привычки возражать кому бы то ни было, особенно если тот был чином и званием старше его. Если же он невольно, мимоходом, становился случайным свидетелем подобных споров, то так пугался, что потом часами не мог произнести ни единого слова. Да разве такое вообще возможно?! Так и в том случае, когда они сходно мыслили, но вслух утверждали совершенно противоположное, или наоборот, он всегда уважал мнение вышестоящего, хотя доктор Кречмар и не принадлежал к его непосредственным начальникам.
– Ненавижу подчиненность, субординацию, – говаривал доктор Кречмар.
Их обоих просто-напросто очаровала прекрасная женщина с длинными светлыми волосами, с такими же светлыми и влажными глазами. Они познакомились с ней перед домом начальника местного полицейского участка. Она испугалась, когда ей сказали, кто этот человек в черном, но согласилась протянуть ему руку. Прикосновение женщины было для него величайшим из всех возможных искушений. Даже в подобных этому случаях, когда он не мог рассчитывать на большее, чем легкое касание руки. Он дрожал от страсти, как мальчишка, которому не терпится поскорее уединиться и рукой облегчить свои мучительные страдания. Или, точнее говоря, как кобель, которого некий призывный запах заставил вскочить на ногу хозяина. Люди смотрят и смеются, а тот не обращает ни малейшего внимания, потому что делает свое дело, то, что он должен сделать.
– Мой муж ловит гайдуков, а вы их вешаете, не так ли? Ах, как это страшно!
Он уставился на ее прелестные губки, на язычок, что выглядывал из-за беленьких зубок.
– Ах, не рассказывайте мне, – воркотала она, а он едва слышал ее голосок.
– Нет, госпожа, я никогда не рассказываю про это, особенно таким милым дамам.
Она не пугалась, а только стреляла глазками, однако чаще поглядывая на доктора Кречмара. Говорила по-немецки, с мадьярским акцентом. Мягко, сладко, разнежено.
Что это она со мной творит, думал он, а она читала в его глазах не только вопрос, но и желание.
– Вас ведь боятся, не правда ли?
– Меньше, чем вашего мужа, – отвечал он ей.
– Ну уж нет, мой Рудольф никого не судит и не казнит.
– Не судит, но казнит. Убивает, моя госпожа.
– Ах, ну зачем вы так? Я боюсь. Особенно вас. Меня пугают ваши руки, которыми вы надеваете несчастным на шею петлю, в которой они потом задыхаются.
– Эти несчастные – враги империи, прекрасная госпожа!
– Так и мой Рудольф говорит, но мне все равно их жалко. Все они Божьи создания, даже эти, местные.
Эмма чирикала, но Зайфрид не вслушивался. Он отвернулся и уставился на ее маленькую коренастую служанку. Кухарка, горничная, всего помаленьку, да и подружка тоже. И она посмотрела на него.
– Вы знакомы с нашим доктором, госпожа?
– Ах, доктор Кречмар, конечно! Его у нас каждый знает, не так ли? Такой хороший доктор в этих краях – большая редкость. Он так хорошо знает женщин!
Рудольфа не было дома неделю. Гоняясь за знаменитым гайдуком Радованом, он надолго пропал в лесах у Калиновика. Это был один из тех рейдов, когда хватают пособников, чтобы потом, по решению Вюртемберга, повесить их в соответствии с законом. Всех их, словно скотину, сгоняли в Калиновик, и там они уже попадали в руки Зайфрида.
В ту же ночь он отыскал служанку госпожи. Она тоже искала его, потому что госпожа отпустила ее на денек. Та после обеда принимала доктора Кречмара.
Так протекали их дни. Время от времени чувствительным йодлем звучала цитра Зайфрида. Словно сказка, о которой говорил доктор Кречмар, она соединяла далекие леса, австрийские и эти, герцеговинские. В одних наши герои родились, а в других плутали в поисках врагов своего императора.
28
Неопубликованная заметка В. Б.
Я спросил его о возможном личном отношении к тем людям, которых он вешал. Как правило, он ничего не знал о приговоренных к смертной казни, за исключением Эдхема Бркича, завсегдатая кафаны «Персиянец», куда он сам с удовольствием захаживал.
«Всю жизнь, кажется, я провел в одиночестве, хотя довольно часто сиживал в трактирах. В любых заведениях, в основном в корчмах, в забегаловках, в постоялых дворах. Наверное, ни к чему мне вам рассказывать, что за публика там собиралась. Кто-то пил, кто-то ел, чаще и то, и другое вместе. Подавали все что угодно, в основном девочек, женщин, самых разных, таких же, как и мы. Ночлег и баба в кровати. Сараевские кафаны не были исключением, по крайней мере, те, в которых я бывал. Про кафану «Персиянец» говорили, что она пользуется дурной репутацией. Писали про нее в газете «Босняк», что там развращают их молодежь. Дети уважаемых родителей, а ночи проводят в разгулах. Пили там много, каждый вечер кто-нибудь да хватался за нож. Мне это не мешало, я привык. Как сейчас помню, ужасно холодно было. Только сарай-лии знают, что такое настоящий мороз. Все на лету замерзает, даже воздух, который ты изо рта выпускаешь. А в кафане тепло, весело, словом, как всегда.
Я знал всех завсегдатаев, кроме нескольких, все они занимались сомнительными делишками. Правда, не могу сказать, что все они были уголовниками. Хотя всех их можно было бы арестовать, если понадобится, и не было бы это ни ошибкой, ни ущерба никому особого бы не принесло. За каждым бы из них грешок нашелся.
Так вот, этого Эдхема Бркича, которому суждено был стать моим пациентом, я наблюдал не один год. Весьма тяжелый случай, приблудился в Сараево из Краины, или еще откуда-то. Никто не знал, чем он живет, но каждый вечер проводил в той кафане. Для него она вторым домом стала, если только первый у него вообще был. Он посетителей всех кафан знал, не только в «Персиянце», но и во всем городе. Он тебе предлагал всяческие мелкие услуги, ничего особенного, но все-таки. Крепко дружил с Арифом Ченги-чем, похожим на него парнем, из Высокого. Здорово дрался, разговаривать с ним было тяжело. Так и стремился ввязаться в драку, с поводом или без. Бркич умел успокаивать его, он его слушался, хотя и без особого удовольствия. Было между ними что-то, не знаю что, но было.
Той ночью все пошло наперекосяк. Допоздна какие-то картежники засиделись, и чем больше пили, тем больше заводились. В конце концов так разорались, что все посетители разбежались.
Ушел и я, утомившись от их криков и, как прочие клиенты, предчувствуя, чем все это закончится. Те, что давали показания, мне позднее тоже рассказали. Столкнулись Бркич и Ченгич, никак один другому уступить не хотел. Неважно, кто первый начал. Бркич хорошо владел ножом, чакией, как они говорят, вот и ударил его прямо в сердце.
Нелегко мне было его вешать, несмотря на то, что он был уголовником, настоящим преступником. Весь день после казни я играл, запершись в комнате, совсем как монах».
Эй, истина, где ты, истина? Исповеди, мемуары, ерунда всякая. Не так вовсе было, а иначе. Так и здесь. Эдхем Бркич был приятелем Мустафы, бесстыжий молодой сводник. У него было несколько девочек, он продавал их чиновникам и их гостям. Вот чем он был связан с Зайфридом. Друзьями они не были, но прекрасно знали друг друга. Это были деловые отношения, скидки и свежий товар для него. Тем же занимался и Ченгич, хотя и был жуликом помельче. Грабил лавки в Башчаршии, шантажировал всех подряд. Такие редко голову сносят.
Немало ракии они вместе выпили, Зайфрид и Бркич. Он терпеть не мог Ченгича, его примитивность, рыгание за столом, жирные пальцы, которыми он хватал куски баранины с чужих тарелок. Я пишу эти строки с отвращением, только ради восстановления истины. Не для печати.
29
История нас спрашивает: а где разговор с сыном? Почему его нет, ведь должен же он был состояться, например, об искусстве? Разве оба они не художники, ведь наверняка они духовно общались?
Отто повзрослел прямо-таки за одну ночь. Так показалось Зайфриду, в то время как мать его считала дни совсем иначе. Ее здоровье истощалось, она долго, но неуклонно и неудержимо таяла. Они остались вдвоем, близкие и далекие, меняя квартиру за квартирой, дом за домом, как цыгане.
Неизвестно почему, но Зайфрид редко разговаривал с сыном. Годы шли, а он ни слова не сказал о его картинах. Даже вида не подавал, что их замечает, не говоря уж о похвалах. Тем не менее, однажды это случилось, он произнес несколько слов по поводу акварелей, которые Отто развесил в прихожей. Что-то в них подействовало на него, может, он уже был готов воспринять их, перед этим он долго играл, пальцы у него заболели от струн, но ему всегда очень нравилось это состояние. Чувство, что он целиком отдался музыке, до боли в скулах. Отложив цитру, он заглянул в комнатенку Отто, двери в ней было, только занавеска, слышно было, когда сын ходил, когда дышал, иной раз даже когда кисточкой водил по бумаге – он, согнувшись, работал над акварелью. Наверное, почувствовав взгляд отца, резко поднял вверх правую руку, и капелька красной краски упала на то место, где ее не должно было быть.
– Извини, – сказал отец, – я не хотел напугать тебя.
Отто даже не шевельнулся, и продолжал держать над бумагой высоко поднятую руку. И только тишина, в которую они погрузились, становилась все гуще и гуще.
– Это Требевич? – спросил отец.
– Да, – ответил Отто настолько тихо, что тот едва расслышал. А может, ему просто показалось, что он что-то сказал, настолько это было тихо произнесено. Совсем как цвет неба, которое едва-едва голубое, но все-таки голубое.
– Красиво, – впервые наградил он его отзывом.
– Как твоя музыка, – ответил сын так же тихо, как произнес это свое «да». Теперь настала очередь отца смутиться и обрадоваться. Эти слова подтверждали, что сын слушает отцовскую музыку, мало чем отличающуюся от обычной кабацкой, и, вслушиваясь в нее, руководясь ею, рисует. Два бессловесных искусства, радость для ушей и для глаз, привал и поход. Для отца поход значит больше, чем привал, для него, наверное, это просто поход. Но сейчас ни для одного, ни для другого это не привал и не поход, а просто искусство. Некое волшебство, которое сближает их.
В следующий раз, отложив цитру, он сквозь стенную дощатую перегородку, обмазанную глиной, услышал шепот сына. Всего несколько слов, вроде «облако», «вода», «маки», «небо», которые он шептал словно молитву. А в конце имя, что-то вроде Габриэль, что-то архангельское. Он вошел спросить, откуда у него взялось это имя.
Он смотрел на него молча, так, словно хотел стремглав убежать от него. Так обычно смотрят, когда хотят создать натянутость в отношениях, отец этого терпеть не мог. Что означал у него этот взгляд?