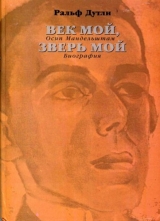
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Многосложное стихотворение Мандельштама появилось 24 мая 1918 года в петроградской газете «Знамя труда» – органе левых социалистов-революционеров. В этой газете печатали свои революционные стихи и некоторые другие известные поэты. 3 марта 1918 года здесь была опубликована поэма Блока «Двенадцать», а за несколько дней до появления мандельштамовского стихотворения, 19 мая 1918 года, – утопическая поэма Есенина «Инония»: «пророк Есенин Сергей», вдохновленный Иеремией, мечтает о грядущем крестьянском рае.
Через месяц после того как в «Знамени труда» появилось стихотворение Мандельштама, газета была запрещена: начались репрессии против левых эсеров. Кто такие левые эсеры? Еще в июне 1917 года на съезде партии социалистов-революционеров они отделились от основного ядра эсеровской партии и образовали собственное крыло. Они отвергали сотрудничество с Временным правительством и были в значительной мере причастны к Октябрьскому перевороту. Однако в марте 1918 года левые эсеры вышли из правительственного блока с большевиками – в знак протеста против Брест-Литовского договора. В июле 1918 года после неудавшегося восстания против большевистской власти им пришлось перейти на нелегальное положение.
Отчаянно-отважный призыв Мандельштама совершить – несмотря ни на что – «поворот руля» оказался единственным в его творчестве. Остальные тексты, которые тогда же, в мае 1918 года, появляются на свет, носят в основном безрадостный характер. В период переезда столицы в Москву правительство временно размещалось в московской гостинице «Метрополь». В одном из стихотворений отражается вид с балкона на Большой театр, расположенный напротив гостиницы. «Мрачно-веселые толпы» льются из театра по улицам, напоминая ночную похоронную процессию. «Ночное солнце» хоронит «возбужденная играми чернь», и ночная Москва встает как «новый Геркуланум» (I, 136) – город, погребенный под лавой ожившего Везувия в 79 году. В стихах «Tristia» город Петербург сливается у Мандельштама с неким древним Петрополем, Римом, Венецией, Иерусалимом и Троей; Москва же – с римским провинциальным городом, залитым лавой. Изысканный петербургский поэт чувствует себя чужим в этой новой столице. Он откровенно ее ненавидит:
Все чуждо нам в столице непотребной:
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля (I, 136).
Он изображает столицу большевиков как пошлый, алчный и разбойничий город – «дремучий», желающий управлять миром, как «бабью ширину», задавившую своими базарами «полвселенной». Москва беспринципна и льстива, угодлива перед властью: «Она в торговле хитрая лисица, / А перед князем – жалкая раба». В этом остро сатирическом портрете города он намеренно выделяет лишь московские храмы, которые ему дарила Марина Цветаева в феврале 1916 года: «Ее церквей благоуханных соты – / Как дикий мед, заброшенный в леса».
Здесь, в чуждом ему городе, 1 июня 1918 года Мандельштам по рекомендации Луначарского получает должность: ему предлагают возглавить подотдел художественного развития учащихся в отделе «Реформа высшей школы» при Наркомпросе. Возможно, получить работу ему помогло стихотворение «Сумерки свободы». Однако продержаться на этом месте ему удается лишь несколько месяцев. Мандельштам не принадлежал к разряду тех вдохновенных служащих, каковыми были, например, Константин Кавафис, Франц Кафка или Фернандо Пессоа, чьи творения – из лучших в искусстве XX века. Он вообще не годился для упорядоченной работы в каком-либо учреждении, словом, был профессионально несостоятелен, – конечно, если не принимать в расчет его литературной профессии.
В том же июне 1918 года происходит – как зловещее предзнаменование всех позднейших событий – первое столкновение Мандельштама с представителем государственной власти. В московском Кафе поэтов чекист Блюмкин открыто похвалялся тем, что распоряжается жизнью и смертью людей. Он размахивал пачкой ордеров, постановлении о расстреле, заранее подписанных, видимо, самим Дзержинским. Стоит ему внести в ордер, хвастался Блюмкин, фамилию какого-нибудь «гнилого интеллигента», и того уже через час ликвидируют. Об этом эпизоде рассказал в своих воспоминаниях «Петербургские зимы» (где многое, впрочем, выдумано или приукрашено) Георгий Иванов, один из поэтов акмеистического круга, эмигрировавший в 1923 году в Париж: «И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски» [141]141
Цит. по: Осип Мандельштам и его время. С. 177.
[Закрыть].
В воспоминаниях Надежды Мандельштам (глава «Не убий») этой истории также уделяется некоторое внимание. Вдова поэта сообщает о глубоком отвращении Мандельштама к смертной казни, к расстрелам. В ответ на протестующие слова Мандельштама Блюмкин якобы пригрозил ему револьвером [142]142
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 125.
[Закрыть]. Спустя всего несколько дней, 6 июля 1918 года, Блюмкин застрелил немецкого посла графа фон Мирбаха. Это спланированное покушение, задуманное как попытка левых эсеров выступить против советской власти, стало их «политическим самоубийством» [143]143
См.: Stökl G. Russische Geschichte. 3-te erweiterte Auflage. Stuttgart, 1973. S. 653.
[Закрыть].
Свои угрозы в адрес Мандельштама Блюмкин не раз повторит в последующие годы. Разгоряченный поэт, выскочив после этого происшествия из Кафе поэтов, бросился к Ларисе Рейснер, которая была замужем за видным большевиком Федором Раскольниковым и имела доступ к высокому начальству. В ее сопровождении Мандельштам и отправился 1 июля 1918 года к председателю ЧК Дзержинскому, чтобы пожаловаться на Блюмкина [144]144
О визите Мандельштама к Дзержинскому см.: Мандельштам Н.Воспоминания. С. 481–482 (коммент. А. Морозова).
[Закрыть]. Но вопреки заверениям «железного Феликса» герой-чекист, размахивающий револьвером, не понес ни малейшего наказания, а по делу об убийстве Мирбаха был официально оправдан в 1919 году.
Одичание нарастало, и террорист Блюмкин чувствовал, что его действия отвечают духу времени. «Антропофагская психика распространялась как зараза», – лаконично скажет об этом Надежда Мандельштам [145]145
Там же. С. 128.
[Закрыть]. В своей книге «Некрополь» Владислав Ходасевич вспоминает о вечере, на котором присутствовали Есенин и его друг Блюмкин – тот самый! Есенин ухаживал за какой-то дамой и спросил ее: «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою» [146]146
Ходасевич В. Собр. соч. в четырех томах. Т. 4. С. 140.
[Закрыть].
Надежда Мандельштам описывает инстинктивное желание Мандельштама держаться от власти как можно дальше. Еще один эпизод той же поры: в качестве делопроизводителя Комиссии по разгрузке и эвакуации Петрограда Мандельштаму пришлось однажды провести ночь в Кремле, в квартире официального лица Н. Горбунова, Утром стало известно, что в кремлевскую столовую придет завтракать сам Троцкий. Мандельштам якобы тут же встал, быстро накинул на руку свое пальто и скрылся. Перед ним стояла, наконец, полная тарелка, однако он предпочел оставить ее нетронутой, несмотря на то что дело происходило в голодной Москве.

Московская гостиница «Метрополь», где в 1918 году временно размешалось советское правительство.
Здесь родились: мандельштамовское стихотворение «Телефон», видение «нового Геркуланума» и обличение «столицы непотребной»
Даже впоследствии он не сможет объяснить ни этого своего стремления к бегству, ни инстинктивного протеста против омерзительного хвастовства Блюмкина, ни своего заступничества за вовсе неизвестного ему человека, которого вооруженный чекист хотел отправить в расход. Конечно, и сам он после столкновения с Блюмкиным был глубоко травмирован. Он опасался, что этот душегуб станет ему мстить. Противоречие между сверхчувствительностью и робостью Мандельштама, с одной стороны, и извержениями безумной ярости, приступами почти самоубийственного гражданского мужества, с другой, останется лейтмотивом его жизни. Этот инцидент привел его в состояние ужаса и подавленности. Загадочное стихотворение «Телефон», написанное в июне 1918 года, наводит на мысль о том, что поэт, возможно, был близок к самоубийству. «На этом диком страшном свете / Ты, друг полночных похорон, / В высоком строгом кабинете / Самоубийцы – телефон!» (I, 137).
В августе 1918 года Мандельштам вернулся на работу в Наркомпрос с большим опозданием и получил выговор за отсутствие «по неуважительной причине» и недобросовестное отношение к служебным обязанностям. Возможно, это опоздание – еще одно свидетельство перенесенной им травмы. 20 октября 1918 года Александр Блок упомянул в своем дневнике о визите Мандельштама, который «интересно» рассказывал о покушении на Мирбаха. Наверное, Мандельштам, как и раньше, говорил главным образом об убийце, являвшемся ему в кошмарных снах.
После ареста в мае 1934 года Мандельштам на допросе признается в том, что «политическая депрессия, вызванная жесткими методами осуществления диктатуры пролетариата», овладела им к концу 1918 года [147]147
См.: Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… М., 1995. С. 232.
[Закрыть]. Нет сомнений, что столкновение с Блюмкиным сыграло в этом решающую роль. Свидетельством растущего отчуждения поэта от своего времени и крепнущего в нем ощущения «внутренней эмиграции» может служить и стихотворение «Tristia», датируемое 1918 годом. Оно было навеяно стихами Овидия «Tristia» («Скорбные элегии») и «Epistulae ex Ponto» («Письма с Понта»), написанными в изгнании. Изгнанник Овидий занимал воображение Мандельштама уже в 1914 и 1915 годах. Теперь он пытается оживить в своей душе последнюю ночь Овидия в Риме, накануне его отъезда в изгнание: римский поэт описал ее в третьей элегии первой книги «Tristia» («Cum subit illius tristissima noctis imago / quae mihi supremum tempus in urbe fuit…» [148]148
«Только представлю себе той ночи печальнейший образ, / Той, что в Граде была ночью последней моей» (лат). Цит. по: Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта / Издание подготовили М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. М., 1978. С. 10 (перевод С. Шервинского).
[Закрыть]):
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских.
Я чту обряд той петушиной ночи.
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз (I, 138).
Важная отличительная особенность стихов Мандельштама, навеянных Октябрьской революцией и Гражданской войной, заключается в том, что современная российская действительность как бы сливается с античными мотивами и мифологическими фигурами (Одиссей, Кассандра, Персефона / Прозерпина и др.) – Это – одно из проявлений мандельштамовского подхода к истории. Убежденный в том, что схожие ситуации повторяются, поэт – отвергая слепую веру в прогресс и пропаганду «светлого будущего» – утверждает собственное понимание истории как циклического процесса. В том же самом стихотворении «Tristia» говорится: «Все было встарь, все повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг» (I, 138). Вечный возврат отражается в самой стихотворной ткани, которая таит в себе множество литературных реминисценций, невнятные голоса «возвращающихся» предшественников: Гомера, Тибулла, Овидия, Батюшкова, Пушкина, но в то же время являет собой чисто мандельштамовский сплав таких поэтических сюжетов, как разлука, изгнание, любовь, предсказание и смерть.
Оба важнейших стихотворения 1918 года – революционное «Сумерки свободы», напоминающее риторику Пролеткульта, и «Tristia», вдохновленное Овидием, – лишь на первый взгляд несопоставимы друг с другом. И в том, и в другом говорится о трагических потерях, о неведомом будущем. Еще не ясно, какую «новую жизнь» возвещает пение петуха в стихотворении «Tristia», какие «разлуки» и «расставания» предстоят… Однако и в жизни, и в стихах последующих лет поэту придется на собственном опыте постигать «науку расставанья» – это будет горькое познание.
Несмотря на «политическую депрессию» Мандельштам в последние месяцы 1918 года продолжает служить в Наркомпросе. В рамках программы реформирования высшей школы он активно занимается изучением ритмики и создает проект Института по ритмическому воспитанию. Такого рода занятия отвечали тогдашней моде. Швейцарский педагог и композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950) создал систему ритмического воспитания, призванную гармонически объединить гимнастику, физические упражнения и музыку. В 1910 году он открыл в городке Хеллерау (близ Дрездена) первую школу ритмической гимнастики. У Жак-Далькроза нашлись и ревностные последователи, особенно – в революционной России. В Петрограде и Москве возникали ритмические студии, которые не обходили стороной и любопытствующие поэты, среди них – Александр Блок, Михаил Кузмин и Владимир Пяст.
Воля к движению и ритму – эту идею Мандельштам-поэт вполне мог разделить с новым формирующимся обществом.
В рамках своей лекционной деятельности он пишет доклад «Государство и ритм». Бросается в глаза, что Мандельштам – при всем своем внимании к «коллективу» – настойчиво выделяет «личность»: «Организовывая общество […] мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего» (I, 208). Мандельштам пишет об итальянском Ренессансе, который состоялся во имя личности, и о новом возрождении во имя коллективизма и русской революции. Примечательно его суждение, что «филология» («любовь к слову») в нынешней ситуации оказывается побежденной, ее интересы – «определенно пострадавшими». Мандельштам лаконично констатирует «антифилологический характер нашей эпохи» и «филологическое предательство» (I, 210). Отсюда – один шаг к радикальному разделению людей на «друзей» и «врагов слова» в его следующем очерке «Слово и культура» (1921). Пророчески звучит его фраза: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины» («Государство и ритм»).

«Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины»
Александр Мандельштам, Адольф Мильман, Рюрик Ивнев и Осип Мандельштам в Харькове (1919)
Мотив грядущего варварства давно уже стал общим местом в русской литературе. Утомленные цивилизацией поэты-символисты предвидели грядущих варваров и приветствовали их в своих стихах. Именно таким приветствием завершается стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» (1904/1905). В одном из своих последних стихотворений Александр Блок отождествляет себя со скифами: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!» («Скифы», январь 1918). И Брюсов, и Блок не медля предложили свои услуги большевикам. Брюсов вступит в партию и возглавит литературный отдел Наркомпроса, тогда как более чувствительный Блок, призывавший современников в статье «Интеллигенция и революция» (январь 1918) слушать «музыку революции», очень скоро задохнется в новой «скифской» атмосфере. А Осип Мандельштам, который никогда не приветствовал своим творчеством ни гуннов, ни скифов, ни прочих варваров, попытается остаться эллином под варварским небом: европейцем, чуждым модной «усталости от цивилизации».
В феврале 1919 года большевики усиливают нажим на эсеров; многие из них будут арестованы. У Мандельштама были все основания опасаться этой новой волны репрессий. Ведь его антибольшевистские стихи – стихотворение о Керенском со строчкой «ярмо насилия и злобы» и насыщенное зловещими предчувствиями стихотворение «Кассандре» – публиковались в ноябре – декабре 1917 года в эсеровских газетах. По-видимому, именно страх перед арестом заставил Мандельштама расстаться со своей должностью в Наркомпросе Луначарского и скрыться. А, может, ввиду его «недобросовестного отношения к служебным обязанностям» ему просто указали на дверь? Или в нем был слишком развит рефлекс, побуждавший его через несколько недель бросать любое пристойное место работы?
Так или иначе, он снова избирает привычный для него маршрут бегства – на юг. В середине февраля 1919 года он едет на Украину, в Харьков. Пройдет около двух лет, прежде чем он вновь увидит Москву. Незадолго до отъезда, 30 января 1919 года, в воронежском журнале «Сирена», издателем которого был Владимир Нарбут, соратник Мандельштама по акмеизму, появляется написанная еще в 1913 году статья-манифест «Утро акмеизма». Это был явный анахронизм: голос сирены из другого времени. Прежний, не угасший, жизнеутверждающий призыв.
10
«Девический лоб» и гражданская война
(Киев / Феодосия / Тифлис 1919–1920)
Жестокая гражданская война 1919 года. Людоедство, лошадиная падаль и мерзлый картофель. Февраль 1919 года: Харьков. 1 мая в Киеве: встреча в «ХЛАМЕ» с Надеждой Хазиной. Свадебная песнь и пестрый сапожок Сафо. «Мы были началом сексуальной революции». 31 августа 1919: вступление белых в Киев. Свидетели «озверения гражданской войны». Год в «белом» Крыму: Коктебель и Феодосия. 5 декабря 1919 года: первое письмо к Надежде. Стихотворение к Лии: «Нет, ты полюбишь иудея». Феодосия – «нежная Флоренция». Временные убежища. «Человек умирает». Весна 1920 года: видение Венеции. Стихотворение «Феодосия»: мечта о повседневности. Прощание с «золотым семенем»: всероссийское кровопускание, исход русской элиты. Два «просоветских» стихотворения. Расправа белых с евреями. Июль 1920 года: ссора с Волошиным. Арест «большевистского шпиона» врангелевской контрразведкой. Высылка через Черное море. Арест в меньшевистском Батуми. После освобождения: гостеприимная Грузия, стихотворение «Тифлис». Октябрь 1920 года: возвращение в Москву.
1919 год – разгар гражданской войны – был одним из самых жестоких и страшных в русской истории. В своем полудокументальном романе «Голый год» (1922) Борис Пильняк лаконично подводит итог: «Не было хлеба. Не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас, – шел девятнадцатый год» [149]149
Пильняк Б. Собр. соч. в трех томах. Т. 1. Голый год. Машины и волки. Рассказы. Отрывки из дневника / Сост., подг. текста и коммент. Б. Б. Андроникашвили-Пильняка. М., 1994. С. 75.
[Закрыть]. Евгений Мандельштам, брат поэта, также вспоминает этот ужасный год: «…Эпидемии, транспортная разруха, голод, мешочники…» [150]150
Мандельштам Е.Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 147.
[Закрыть]. Последние устремлялись из города в деревню, чтобы раздобыть хоть немного еды. Евгений описывает прибытие поезда на Курский вокзал в Москве. Больные тифом валялись на перроне вперемешку с мертвыми телами [151]151
Там же. С. 148.
[Закрыть].
В Москве эпохи «военного коммунизма» царил не столько новый режим, сколько мучительный голод, следы которого можно найти во многих литературных произведениях той поры. Имели место и случаи людоедства. В ноябре 1919 года Зинаида Гиппиус записывает в своем дневнике:
«А знаете, что такое “китайское мясо”? Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, “Чрезвычайка” отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают под видом телятины. У нас – и в Москве. […] Доктор N (имя знаю) купил “с косточкой” – узнал человечью» [152]152
Гиппиус З. Дневники. [Т.] 2 / Вступит, статья и сост. А. Н. Николюкина. М., 1999. С. 260.
[Закрыть].
В «Романе без вранья» (1926), посвященном дружбе с Есениным, Анатолий Мариенгоф вспоминает, как в 1919 году на московских улицах всюду лежали мертвые лошади. «Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. […] Против Почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами. На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах» [153]153
Мариенгоф А. Роман без вранья. Издание 2-ое. Л., 1928. С. 43–44.
[Закрыть].
Виктор Шкловский в «Сентиментальном путешествии» (1923) описывает трапезы с подмерзшим картофелем («Подумать только, что два-три года Петербург ел только мороженую картошку») и лошадиной падалью («Она почти текла»): «Жарили конину на китовом жиру, т[о] е[сть] его называли китовым, кажется, это был спермацет (?); хорошая вещь для кремов, но стынет на зубах» [154]154
Шкловский В.Сентиментальное путешествие / Предисловие Б. Сарнова. М., 1990. С. 188–189.
[Закрыть].
Исчезнувший из Москвы в середине февраля 1919 года, Мандельштам бежал равно и от голода, и от всеобъемлющего насилия. Однако весь юг России был в то время охвачен гражданской войной; белые генералы Деникин и Врангель сражались против Красной армии Троцкого. К лету 1919 года Деникину удалось овладеть значительной частью южной России, хотя его «бросок на Москву» был отбит Красной армией.
В Харькове на Украине Мандельштам вновь находит себе место службы, впрочем, столь же кратковременное, как и все прежние (такими они будут и впредь). Он руководит поэтической секцией Всеукраинского литературного комитета при Совете искусств Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. Кроме того, – сотрудничает в газетах и устраивает литературные чтения. В начале апреля он переезжает в Киев, который с 5 февраля 1919 года находился под властью красных. Там он неоднократно читает свои стихи на коллективных поэтических вечерах.
В Киеве Мандельштам часто посещает артистическое кафе «ХЛАМ» в подвале гостиницы «Континенталь» на Николаевской. Название кафе говорит о его посетителях. «ХЛАМ» – сокращение, означающее «Художники. Литераторы. Артисты. Музыканты». 1 мая 1919 года Мандельштам знакомится в «ХЛАМе» с юной художницей Надей Хазиной. Эта встреча окажется судьбоносной, одним из важнейших событий его жизни. Надежда была родом из семьи ассимилированных киевских евреев; ее отец – присяжный поверенный, мать – врач. Она родилась 31 октября 1899 года в Саратове на Волге и ребенком успела побывать с родителями в нескольких западноевропейских странах. Теперь она учится живописи у Александры Экстер, одной из ведущих художниц русского авангарда, оказавшей значительное воздействие на развитие кубо-футуризма и конструктивизма (в скором времени, спасаясь от большевиков, Экстер переберется в Одессу, затем эмигрирует в Париж).

«…Я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине»
Надежда Хазина: Мандельштам познакомился с ней 1 мая 1919 года в Киеве
Юной Надежде, стремившейся стать художницей, было тогда девятнадцать – почти на девять лет меньше, чем Мандельштаму. В ту пору, по ее собственным словам, она отличалась легкомыслием и позволяла себе провокационные выходки, что вполне соответствовало духу времени. Она была человеком своей эпохи, стоявшим, разумеется, на стороне революции; в ней клокотала жизнь, ее влекли порывы и переполняла жажда приключений. В 1973 году в телевизионном интервью Надежда Мандельштам расскажет о той первой встрече. Уже в первую ночь она и Осип оказались в постели. «Это произошло само собой (it simply happened so)», – скажет она по-английски с невероятным русским акцентом. И далее: «Мы были началом сексуальной революции. Нам нечего было терять». Революция принесла с собою новую мораль, которой определялись отношения между полами, пока через несколько лет ее не задушила ханжеская государственная идеология. Хорошо известны слова революционерки Александры Коллонтай, боровшейся за права женщины: совершить любовный акт – не более, чем выпить стакан воды.
Нечего было терять и двум молодым людям, поэту и художнице, в тот веселый вечер 1 мая в набитом до отказа кафе. Вокруг города Киева бушевала гражданская война, власть переходила из рук в руки – от красных к белым и от белых к красным, а потом следовали расстрелы, погромы и свирепый террор. Смерть правила бал. Во второй книге своих воспоминаний, в главах «Потрава» и «Мы», Надежда Мандельштам подробно пишет о том, сколь важной оказалась та первая встреча. 1 мая 1919 года они всегда будут считать «своей датой», хотя уже вскоре расстанутся более чем на полтора года [155]155
Мандельштам Н.Вторая книга. С. 19–29.
[Закрыть]. Когда зимой 1925–1926 года Н. Я. Мандельштам пришлось лечиться в Ялте от туберкулеза, Мандельштам 23 февраля 1926 года напишет ей из Ленинграда, чтобы утешить и подбодрить: «Надюшок, 1 мая мы опять будем вместе в Киевеи пойдем на ту днепровскую гору тогдашнюю. Я так рад этому, так рад!» (IV, 68). У каждой любовной истории есть своя топография. В данном случае – кафе «ХЛАМ» и Владимирская горка на Днепре.
В Греческом кафе, неподалеку от «ХЛАМа», их на скорую руку, как рассказывает Надежда Мандельштам, «благословил» чудак и поэт Владимир Маккавейский, выходец из семьи священнослужителя. Они обменялись дешевыми голубыми кольцами. «Так начался наш брак или грех, и никому из нас не пришло в голову, что он будет длиться всю жизнь» [156]156
Там же. С. 120.
[Закрыть]. Но уже на другой день после этой встречи Мандельштам, пребывая в полном блаженстве, пишет свадебное стихотворение. Оно обращено к истокам европейской лирики, к лесбосским поэтам Сафо и Терпандру (изобретателю семиструнной лиры) и представляет собой, в первую очередь, искусное сплетение мотивов из «Свадебных песен» Сафо (эпиталамий). Поэт и филолог-классик Вячеслав Иванов опубликовал в 1914 году в Москве сборник стихов Алкея и Сафо в своем переводе. В залитом кровью Киеве 1919 года, в Надиной комнате эта книга оказывается в руках Мандельштама. И стихотворение озаряется светом выпуклого лба его новой подруги:
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба. […]
Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек (I, 139).
В разгар гражданской войны в России совершается поэтическое возрождение Сафо; ее пестрый сапожок и выпуклое чело девушки сияют неповторимым светом [157]157
О «свадебной песне» Мандельштама и ее сафических мотивах см.: Taranovsky K.Essays on Mandel’štam. P. 83–98.
[Закрыть]. В последней строфе стихотворения упомянуты «острова блаженных», которые появляются у Гесиода, Пиндара и Горация и означают в то же время глубокое стремление к миру. Столь много античных мотивов соткал двадцативосьмилетний Мандельштам в охваченном гражданской войной городе Киеве, совсем не похожем на остров блаженных!
«ХЛАМ» чрезвычайно понравился Мандельштаму – он напомнил ему петербургскую «Бродячую собаку», кабаре его легкомысленной юности. Вокруг шумели молодые художники, ученики авангардистки Экстер, написавшие декорации для первомайского праздника. Надежда со своей группой часто приходила в «ХЛАМ». Все они были, по ее словам, «левее левого» – молодые ребята, бредившие «Левым маршем» Маяковского и привыкшие за годы революции и гражданской войны к стрельбе на улицах. «Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях» [158]158
Мандельштам Н.Вторая книга. C. 21.
[Закрыть].
Мандельштам, который, по ее словам, умел веселиться не хуже других, отличался, тем не менее, от всех остальных. Эпоха насилия и грубости вовсе не затуманила ему сознание. Он испытывал глубокое отвращение к казням и пыткам; любой террор был для него неприемлем. А к террору прибегали и белые, и красные. В то время в Киеве на Садовой улице, вместе с Мандельштамом, работал в учреждении Собеса (в секции эстетического воспитания детей) Илья Эренбург. В доме напротив расположилась губернская Чека. «Тонкий забор, – рассказывал Илья Эренбург, – отделял этот сад от другого, где каждую ночь пытали и убивали безвинных людей» [159]159
Там же. C. 635 (примеч. А. Морозова).
[Закрыть].
31 августа 1919 года город заняли украинские националисты во главе с Петлюрой и части Добровольческой армии Деникина. Перед тем как оставить город, чекистские палачи поспешно расстреляли всех заложников. Подвалы, в которых пытали и убивали людей, были переполнены трупами. Белые, освободив город, открыли эти ужасающие места для всеобщего обозрения, для устрашения и предупреждения. Потрясенные, перепуганные киевляне искали тела своих пропавших родственников. Надежда Мандельштам вспоминает о подводе, груженой обнаженными трупами, – их вывозили из города. Обезумевшие толпы людей искали рыжеволосую «чекистку Розу» и, не разбираясь забили насмерть несколько рыжих женщин… В своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам пишет об «озверении гражданской войны», происходившем на ее глазах.
Спустя почти два десятилетия, в апреле 1937 года, в своей воронежской ссылке, Мандельштам все еще будет помнить о жутких эксцессах гражданской войны и отступлении красных из Киева:
Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям.
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
– Мы вернемся еще – разумейте… (III, 135).

«– Мы вернемся еще – разумейте»
Вступление Красной армии в Киев (1919)
«Запах смерти», запах крови и разлагающихся тел висел после этих торопливых расстрелов в подвалах киевской Чека над аристократическим районом Киева – Липками. В тот же день, 31 августа 1919 года, Мандельштам покидает Киев; он пробыл в этом городе пять месяцев. Как всегда в своей жизни, он стремится в Крым. Его девятнадцатилетняя подруга Надя остается в Киеве. Она не решилась отправиться вместе с ним, потому что «за порогом дома лилась кровь» [160]160
Там же С. 27.
[Закрыть]. Вскоре связь между Крымом, Киевом и другими городами временно прерывается. Гражданская война разъединяет любящих более чем на полтора года. Между ними – фронты боевых действий, к которым они не имеют отношения. Прощаясь с Осипом, Надя подарила ему свою гимназическую фотографию с надписью на обороте: «Дорогому Осе, на память о будущей встрече».

«На память о будущей встрече»
Надя Хазина в юности.
Фотография, подаренная Мандельштаму при расставании в августе 1919 года
В середине сентября Мандельштам попадает в Крым, с июня 1919 года занятый белыми. В составленной в 1938 году оперативной справке, за которой последует арест, отмечено его пребывание в Крыму «на территории белых» [161]161
Цит. по: Нерлер П.«С гурьбой и гуртом…» Хроника последнего года жизни О. Э. Мандельштама. С. 86.
[Закрыть].
Что гнало его в Крым? Отвращение к красному террору и страх перед ним? Гложущая его с лета 1915 года тоска по «своему» Крыму? Или надежда найти там работу и кусок хлеба? Н. Я. Мандельштам в своих воспоминаниях утверждает, что он поступил правильно, расставшись с Киевом, «где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов» [162]162
Мандельштам Н.Вторая книга. С. 27.
[Закрыть].
Мандельштам проведет в Крыму почти целый год в портовом городе Феодосия и в Коктебеле у Волошина. Как только он ступает ногой на «обетованную землю», из его груди вырывается ликующая песнь. Скудный вид горы Кара-Даг под Коктебелем заставляет его вспомнить – смелое сопоставление! – о холмах Сиены. Он мечтает о мастерах сиенской школы; в его ушах – органная музыка и музыка Палестрины. Он пишет стихотворение, проникнутое христианскими мотивами, пытается воссоздать миг благодати в смуте гражданской войны: «И с христианских гор в пространстве изумленном, / Как Палестрины песнь, нисходит благодать» (I, 140). Это – пока что последнее мысленное возвращение Мандельштама к «холодному горному воздуху христианства», к «католическому этапу» 1913–1915 годов и очеркам, посвященным Чаадаеву и Скрябину, с их апологией христианского искусства.
Но отныне, с 1 мая 1919 года, он связан – поверх всех красных и белых фронтов – с еврейской девушкой Надей. 5 декабря 1919 года он пишет ей из Феодосии в Киев:
«Дитя мое милое!
Нет почти никакой надежды, что это письмо дойдет. […] Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя, это для меня просто, как божий день. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе. Обо всем, обо всем могу сказать только тебе. Радость моя бедная! […] Я радуюсь и Бога благодарю за то, что он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело… […]
Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь – я бы от радости заплакал. Звереныш мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать – выпуклый детский лобик! Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине. […]
Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, сама того не зная…» (IV, 25–26).








