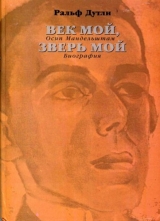
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны – реки обычной —
Белый-белый бел-покров (III, 105).
Тоскуя по Наде, он пишет ей почти ежедневно и поначалу (в письме от 26 декабря 1935 года) отмечает тамбовский «зимний рай, красоту неописанную» (IV, 163). «Живем на высоком берегу реки Цны, – сообщает он в том же письме. – Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслажденье» (IV, 164). В соответствии с обычным процедурным режимом, предписанным для нервнобольных, Мандельштам ежедневно принимает лечебные ванны и проходит курс электротерапии («электр[изация] позвоночника»).

«Зимний рай […] штрафной батальон»
Мандельштам в тамбовском санатории (конец 1935 года)
Однако упоение русской зимой продолжается недолго. Жизнь в санатории начинает ему казаться нудной. «Эти дни вроде дурного сна, – пишет он жене 1 января 1936 года. – Какой-то штрафной батальон…» (IV, 168). Он проводит еще несколько дней в промежуточном состоянии: между летаргией и нервным возбуждением. Однако измученный плохим питанием, шумом, скукой и тоской по Наде, он уже 5 января возвращается в Воронеж. Для сталинского психиатрического санатория Мандельштам навсегда останется трудным пациентом.
И все-таки он надеется на то, что теперь его положение ссыльного изменится к лучшему. Незадолго до своего отъезда в Тамбов он написал «Заявление Минскому пленуму советских писателей», которое передал в Воронежское отделение Союза писателей. Да и Надежда Яковлевна, отправляясь в Москву, также надеялась вручить копии этого «Заявления» А. С. Щербакову, первому секретарю Союза советских писателей, и Д. А. Марченко, секретарю партбюро ССП. Этот документ до настоящего времени не обнаружен, однако его содержание проясняется из письма Мандельштама к жене от 3 января 1936 года. Речь идет, по всей видимости, о выражении лояльности Партии и Союзу писателей или, по крайней мере, – о заключении временного перемирия. Мандельштам брал на себя обязательство никогда более не возвращаться в Москву, а поселиться в Крыму – в городе Старый Крым. Возможно, он отказывался и от сочинительства «враждебных» политических текстов, но хотел сохранить за собой «свободу передвижений по тому району в целом». «Без нее – будет ужасно», – добавляет он (IV, 170). Это означало бы изгнание на юг, «тихую» ссылку в любимейшем месте на земле – в Крыму. Однако обращенные к жене слова о том, что после отправки своего «Заявления» он « ужесвободен», все же не соответствовали реальности: поэт выдавал желаемое за действительное. Время мягких приговоров и особых условий миновало, промелькнув с невероятной быстротой.
Получил ли Мандельштам официальный ответ, – неизвестно. В Воронеже он вновь погрузился в повседневный быт, включая материальные и медицинские проблемы. Радостным событием в его жизни ссыльного был визит Анны Ахматовой – с 5 по 11 февраля 1936 года. Они без конца разговаривали и читали друг другу стихи. Почти целую неделю Мандельштама вновь овевало дыхание петербургской культуры и живого прошлого. Приезд Ахматовой в Воронеж был вызван его телеграммой, содержавшей намек на то, что он близок к смерти. Едва она появилась, Мандельштам ожил. В дни пребывания Ахматовой он сказал ей, что поэзия – это власть, раз за нее убивают [344]344
См.: Мандельштам Н.Воспоминания. С. 199–200.
[Закрыть]. Вскоре после своего возвращения (4 марта 1936 года) Ахматова пишет знаменитое стихотворение «Воронеж»; оно заканчивается словами: «А в комнате опального поэта / Дежурят страх и Муза в свой черед. / И ночь идет, / Которая не ведает рассвета» [345]345
Ахматова А.Собр. соч. в шести томах. Т. 1. С. 429.
[Закрыть].
После беспрерывных раздоров с хозяевами, желавшими избавиться от подозрительного жильца, 13 марта 1936 года Мандельштамы переезжают в другую комнату. Их новый адрес: ул. Ф. Энгельса, дом 13, кв. 39 (в 1991 году здесь установлена мемориальная доска). Новых стихов в этой квартире не пишется, но Мандельштамы завершают работу по составлению стихотворного сборника, известного как «Ватиканский список». Наряду со стихами первой «Воронежской тетради» сюда входят московские стихотворения, изъятые при обыске в мае 1934 года и теперь восстановленные по памяти.
Немало хлопот приносит обоим состояние их здоровья. В начале апреля 1936 года у Надежды Яковлевны обостряется болезнь печени. В просительном письме к ее брату Евгению Хазину Мандельштам описывает отчаянное положение, в котором они оказались:
«Мы совсем одни. […] Все время страх и тревога и страшная мертвая точка. На днях с трибуны облпленума писателей было здесь произнесено, что я “пустое место и пишу будуарные (бу-ду-ар-ны-е) стишки и что возиться со мной довольно”. […] Это такой ад, что нельзя больше выдержать и не с кем сказать слова. Помогите, потому что нам будет очень худо. […] Мы больше не можем» (IV, 170–171).
Несчастье следует за несчастьем: 13 апреля на улице Мандельштама опять настигает сердечный приступ. В письме к Борису Пастернаку он пишет 28 апреля 1936 года:
«Я действительно очень болен, и вряд ли что-либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею, и сейчас уже трудно выходить из комнаты.
Тем, что моя “вторая жизнь” еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу – моей жене» (IV, 171).
7 мая во время исполнения Девятой симфонии Бетховена с участием скрипача Давида Ойстраха Мандельштам вновь почувствовал сердечное недомогание; не дождавшись антракта, он покидает концерт и отправляется в городскую поликлинику. Его признают нетрудоспособным, а в середине июня уведомляют об увольнении из воронежского театра.
Самыми преданными союзниками ссыльного поэта по-прежнему остаются Пастернак и Ахматова. В конце февраля 1936 года они обращаются к прокурору Катаняну с просьбой о смягчении участи Мандельштама. Кроме того, они посылают в Воронеж тысячу рублей, собрав эту сумму среди друзей и знакомых. На эти деньги Мандельштамы проводят несколько летних недель в Задонске, на высоком берегу Дона, в девяноста километрах от Воронежа; они снимают там комнату в крестьянском доме (адрес: ул. Карла Маркса, 10). Покинув Воронеж 20 июня 1936 года, они остаются в Задонске вплоть до начала сентября. Это – их последний совместный летний отдых. Надежда Яковлевна пишет акварели, словно пытаясь возродить то время, когда она в Киеве обучалась живописи. Спустя несколько месяцев, в декабре 1936 года, Мандельштам будет с тоской вспоминать об этом «последнем» лете в Задонске:
А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров,
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели (III, 104).
Это стихотворение начинается словами: «Пластинкой тоненькой жиллета / Легко щетину спячки снять: / Полуукраинское лето / Давай с тобою вспоминать» (III, 103). Лезвие бритвы жиллет, служившее орудием при попытке покончить с собой в мае 1934 года на Лубянке, становится здесь средством освобождения от «щетины спячки». А, возможно, и способом изгнать мысль о самоубийстве. В будущем Мандельштам никогда уже не напишет столь беспечных стихов, насыщенных всеми ароматами лета.
19 августа 1936 года Мандельштамы услышали по радио известие о начавшемся в Москве первом показательном процессе. Они молча шли по улице. «Говорить было не о чем – все стало ясно» [346]346
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 238.
[Закрыть]. Это был «Процесс шестнадцати» – над Зиновьевым, Каменевым и другими старыми большевиками и крупными партийцами. На советском жаргоне того времени он назывался делом «Троцкистко-зиновьевского террористического центра». В отчетах о процессе приводились тирады, источавшие ненависть к «убийцам Кирова». Последние новости можно было слышать прямо на улице: они транслировались через громкоговорители. В эфире гремел голос прокурора Вышинского. Было объявлено о готовящихся новых процессах. Началась эпоха печально известных «чисток» – Большого Террора, длившегося с 1936 по 1938 год. Сотни тысяч людей будут принесены в жертву.
22
Я – тень
(Воронеж 1936–1937)
Сентябрь 1936 года: радикальные перемены к худшему; невозможность найти работу. «Повышенная бдительность» по отношению к «классовым врагам». Последний воронежский адрес и просвет: Наташа Штемпель. Лихорадочный декабрь: вторая воронежская тетрадь. Повседневные сообщники: «Рождение улыбки» и щегол. Стихотворение о кумире «внутри горы». Январь 1937 года «с веревкой на шее»: ода Сталину. Надежда на продление жизни, пародия, проклятие, болезнь? Антиодический цикл. Поэт в роли свидетеля. Стихотворение для «нищенки-подруги». Мечты об Италии. Травля и насилие: второй показательный процесс против «троцкистских заговорщиков». Март 1937 года: «Стихи о неизвестном солдате», реквием по безымянным жертвам. Одышка и «болезнь быть без тебя». Апрель 1937 года, крайняя точка. «Я тень». 23 апреля: «разоблачительная» статья, приобщение Мандельштама к «троцкистам и классовым врагам». Третья воронежская тетрадь: прощание с мировой культурой, стихи о смерти и воскресении. Любовное стихотворение, обращенное к «хранительнице». «Наташина книга». 15 мая 1937 года: конец воронежской ссылки.
Положение Мандельштамов чрезвычайно ухудшается в начале сентября 1936 года, когда оба возвращаются из Задонска в Воронеж. Москва распорядилась – после первого показательного процесса – проявлять «повышенную бдительность» по отношению к «классовым врагам» и «саботажникам». Мандельштам лишается возможности работать где бы то ни было: в газете, на радио, в театре. Отныне он – инвалид-сердечник и нищий, обреченный жить на подаяние родственников и знакомых.
Идеологическое давление усиливается. 11 сентября 1936 года на очередном собрании воронежских писателей объявлено о «борьбе с классовыми врагами на литературном фронте». В этой связи произносится имя Мандельштама. 16 сентября газета «Коммуна» выступает с полемической статьей против «явно чуждых людей», которые якобы распространяют свои «путаные и вредные теории». Снова названо имя Мандельштама. 28 сентября секретарь партгруппы воронежского отделения Союза писателей Стойчев рапортует генеральному секретарю ССП Ставскому (в ответ на запрос-телеграмму Ставского о том, как продвигается в Воронеже «разоблачение классового врага») – и повторяет то, что было сказано полгода назад на писательском партийном собрании по поводу Мандельштама и его выступления в феврале 1935 года: что Мандельштам «ничему не научился, что он, кем был, тем и остался» [347]347
См. подробнее: Нерлер П.Он ничему не научился… О. Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 93.
[Закрыть]. Трудно было придумать более страшный донос на ссыльного поэта.
Одновременно с ужесточением идеологического климата возобновляется и культ личности Сталина. 27 августа 1936 года «Литературная газета» публикует под заголовком «Жизнь Сталина – наша жизнь» резолюцию московского общего собрания ССП, состоявшегося 21 августа: «Сталин – гениальное качество нашей страны и образ нашего характера: он – бессмертен. Жизнь Сталина – наша жизнь, наше прекрасное настоящее и будущее». В этой атмосфере нарастающего преследования «классовых врагов» и прославления великого вождя Мандельштаму становится все труднее найти не только работу, но и крышу над головой – как ссыльный, он вызывает теперь еще большее подозрение. В октябре 1936 года Мандельштамы вновь вынуждены сменить адрес. Простая женщина, работающая портнихой в театре, соглашается сдать им комнату в своем доме. Это – последний воронежский адрес Мандельштамов: улица 27 февраля, дом 50. Знакомые, встретив Мандельштама на улице, теперь демонстративно от него отворачиваются, не здороваются с ним и делают вид, что его не знают.
Но и эта осень 1936 года не была беспросветной: Мандельштамы знакомятся с молодой учительницей Наташей Штемпель, которой суждено будет сыграть особую роль – роль хранительницы мандельштамовских стихов. О Мандельштамах Наташа узнала от Сергея Рудакова, вернувшегося в июле 1936 года из Воронежа в Ленинград. Однако ревнивый Рудаков взял с нее слово не посещать поэта и его жену. Наташа пренебрегла своим обещанием. Как-то раз, в одно из воскресений сентября 1936 года, она просто позвонила к ним в дверь [348]348
О первом знакомстве H. Е. Штемпель с Мандельштамами см.: Штемпель Н.Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. С. 27–29.
[Закрыть]. За долгие годы Мандельштамы хорошо научились распознавать осведомителей и даже придумали для них особую классификацию [349]349
См.: Мандельштам Н.Воспоминания. С. 43–45, 247–249.
[Закрыть]. Они могли безошибочно угадать доносчика среди своих посетителей, даже если он приносил – дабы удостоверить свою причастность к культуре – одну и ту же дешевую статуэтку Будды (именно Мандельштаму, «последнему эллинско-иудейско-христианскому поэту» и «антибуддисту»!). Ко всему этому Наташа Штемпель не имела ни малейшего отношения. Она стала близкой приятельницей Мандельштамов, которую они всегда были рады видеть, и едва ли не единственным человеком в Воронеже, кто осмеливался навещать неблагонадежных супругов и оказывать им содействие.
Следует добавить, что Наташа Штемпель происходила из обедневшей дворянской семьи, чьи далекие предки были выходцами из Германии, – благодаря этому она и сама попала в разряд «социально подозрительных» лиц. Мать Наташи поначалу предостерегала ее от визитов к Мандельштамам: «Ты хорошо представляешь, какие могут быть последствия?» [350]350
См.: Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. С. 27.
[Закрыть]Страну захлестывали волны арестов. По ночам Наташа и ее мать прислушивались: к какому дому подъехали тяжелые черные автомобили НКВД? Несмотря на это Наташа продолжала навещать Мандельштамов; а когда им было нечего есть, их приглашали на улицу Каляева, 40 и устраивали радушный прием. То, что Наташа и ее мать вели себя столь бесстрашно, вовсе не свидетельствует об их героизме: речь идет исключительно о личной порядочности и простой человечности. Странное, загадочное проявление гражданского мужества в тоталитарной системе!
В более спокойное время, в начале ссылки, Мандельштамы могли и сами помочь другим людям. Ссыльный Павел Калецкий упоминает в своих письмах тех лет, что Мандельштамы были единственными в Воронеже людьми, оказавшими ему во время болезни и смерти жены «большую и добрую человеческую поддержку» [351]351
Цит. по: Нерлер П.Он ничему не научился… О. Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 95.
[Закрыть]. Калецкий характеризует Мандельштама как «очень трудного и обаятельного» человека, совершенно беспомощного в практических делах, и очень умного и вспыльчивого собеседника, «взрывающегося, как бомба, при мельчайшем споре» [352]352
Там же.
[Закрыть].
Но к концу года обозначился и другой просвет. Вообще, декабрь 1936 года – один из самых плодотворных периодов в творческой жизни Мандельштама. В лихорадочном угаре той поры появляются на свет стихи второй «Воронежской тетради». Остается загадкой, каким образом Мандельштам, тяжелый сердечник, страдающий одышкой и опирающийся при ходьбе на палку, официально заклейменный как «классовый враг» и почти всеми покинутый, находит в себе силы для этого творческого подъема. Однако он отдает себе отчет в том, что выходит из-под его пера. 12 декабря 1936 года он пишет отцу:
«И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи. Очень упорно. Сильно и здорово. Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испански […] Положение наше – просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнал прелести 85-летнего возраста» (IV, 172).
Основной причиной, побудившей Мандельштама читать по-испански, была книга его старого знакомого Валентина Парнаха (прототип Парнока в «Египетской марке»!), которая называлась «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» и была выпущена в 1934 году в Ленинграде издательством «Academia». Должно быть, Мандельштам, жертва сталинской инквизиции, находил в этой книге какое-то утешение. Особенно поразил воображение Мандельштама один испано-еврейский поэт: находясь в подземельях инквизиции, он каждый день мысленно слагал по сонету и затем хранил в памяти эти плоды своего заточения [353]353
См: Мандельштам Н.Вторая книга. С. 509–510
[Закрыть].
Если стихам первой «Воронежской тетради» помогли появиться на свет музыка и чернозем, то теперь их роль берут на себя мелкие обыденные случайности: улыбка младенца и пойманная птичка, щегол. Стихотворение «Рождение улыбки», начатое 8 декабря 1936 года, – это своего рода космогония в малом формате. Случайно пойманная улыбка грудного ребенка ассоциируется с рождением мира, а постижение ребенком вещей возвеличивается как первоисточник познания:
Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.
Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов,
Для бесконечного познанья яви (III, 100).
Это дитя – трагическое совпадение! – было ребенком писательницы Ольги Кретовой, позволявшей себе идеологические выпады против Мандельштама, а в апреле 1937 года поместившей в воронежской газете разгромную статью о «троцкистах и классовых врагах», к коим она причисляла и Мандельштама.

«Тоска по мировой культуре»
Осип Мандельштам в Воронеже (1936)
Сопричастность к жизненной первооснове получает у Мандельштама и политическую окраску – прочитывается как способ сопротивления эпохе, пронизанной насилием и смертью. В четверостишии, написанном вслед за «Рождением улыбки», он, восславляя улыбку, называет ее «неподдельной» и «непослушной» [354]354
Мандельштам О.Полн. собр. стихотворений. С. 252. В «Собрании сочинений» под ред. П. Нерлера и А. Никитаева опубликовано как заключительная строфа стихотворения «Детский рот жует свою мякину…» (III, 102).
[Закрыть]. Это – отказ от сотрудничества с тем, что в условиях современной действительности, изуродованной сталинским тоталитаризмом, было враждебно жизни и исполнено презрения к человеку.
В стихах второй «Воронежской тетради» воспевается еще один союзник: щегол. Намек ли это на христианскую иконографию, в которой щегол является символом страстей Христовых? Во всяком случае, в стихотворении, написанном 4 февраля 1937 года, Мандельштам воссоздает рембрандтовскую сцену распятия (III, 119). Эта картина Рембрандта на голгофский сюжет находилась в Воронежском музее изобразительных искусств (в свое время сюда перевезли из Дерпта собрание старинной живописи). Не следует игнорировать культурную и религиозную подоплеку мандельштамовского стихотворения, однако поводом к его написанию послужил – как обычно у Мандельштама – эпизод из повседневной жизни. Вадик, маленький сын их новой хозяйки, расставлял силки и затем продавал пойманных птиц. Словно совершая ритуально-поэтический обряд, Мандельштам отождествляет себя с узником в клетке: «Мой щегол, я голову закину…» (III, 102). В другом стихотворении, отображая свое положение пленника, он идет еще дальше:
Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц —
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц! (III, 103).
В июле 1936 года вспыхнула гражданская война в Испании. Начались события, которые беспокоили Мандельштама. Мимо его внимания не мог пройти – учитывая его новое увлечение испанской поэзией – такой факт, как убийство поэта Федерико Гарсия Лорки под Гранадой (19 августа 1936 года). 4 января 1937 года он прочитал в «Правде» о смерти писателя Мигеля де Унамуно (31 декабря 1936 года), схваченного франкистскими палачами в Саламанке. Называя Воронеж «лесной Саламанкой», Мандельштам отождествляет тем самым интеллектуальные жертвы сталинизма и фашизма [355]355
О «смешении» у Мандельштама жертв сталинизма и фашизма, Сталина и Гитлера см.: Месс-Бейер И. Эзопов язык в поэзии Мандельштама тридцатых годов // Russian Literature. 1991. Vol. 29. Nr. 1. P. 272–273, 277.
[Закрыть]. Еще в «Стансах» (май – июнь 1935 года) он соединяет в одном лице «садовника и палача» Сталина и Гитлера: «Я помню все: немецких братьев шеи / И что лиловым гребнем Лорелей / Садовник и палач наполнил свой досуг» (III, 96). Именно Сталина официальная пропаганда называла «мудрым садовником». Напомним: весной 1934 года, желая объяснить происхождение своего антисталинского стихотворения, Мандельштам сказал Пастернаку, что ему особенно ненавистен фашизм в любом проявлении [356]356
См.: Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. С. 86.
[Закрыть].
Сталин продолжает тревожить воображение Мандельштама; в том же декабре 1936 года он создает – после «Рождения улыбки» и стихов про щегла – жуткое стихотворение о «кумире»:
Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы. […]
Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи,
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом,
И вспомнить силится свой облик человечий (III, 101).
Бездействующий кумир обнаруживает здесь приметы того самого тирана, которого в ноябре 1933 года Мандельштам назвал в своей эпиграмме толстопалым «кремлевским горцем» (Сталин родился в грузинском городе Гори): «Его толстые пальцы, как черви, жирны» (III, 74). Нарастающее «окостенение» правителя и его превращение в «кумира» – можно ли найти более точное выражение для культа личности, который неуклонно создавался вокруг Сталина?
Мандельштам охотно использует мифологические и фольклорные фигуры для маскировки политических событий. После стихотворения о коте Наташи Штемпель он пишет стихотворение о коте Кащея, персонажа русских народных сказок. Кашей – злой волшебник, хранитель сокровищ, «скелет без мяса, тело без души»; любителям музыки он знаком по опере Римского-Корсакова «Кашей бессмертный» (1902) и балету Стравинского «Петрушка» (1910). Мандельштам сочинил лукавую политическую сказку, в которой Кашей – замаскированный Сталин – угощается «огненными щами», обнажает клещи и орудует золотыми гвоздями (III, 106–107) [357]357
Об этом стихотворении см.: Мандельштам Н.Книга третья. С. 233. Поэт Игорь Чиннов отождествляет Сталина с Кащеем, террор – с «огненными щами», соратников Сталина, например, Молотова – с говорящими камнями, позолоченные пуговицы на их мундирах – с золотыми гвоздями, а наркома внутренних дел СССР Ежова – с «котом» ( Чиннов И. Поздний Мандельштам: некоторые образы в его поэзии // Новый журнал (Нью-Йорк). 1967. Кн. 88. С. 127–128).
[Закрыть].
Именно эти стихи про злого колдуна Мандельштам послал 31 декабря 1936 года советскому поэту Николаю Тихонову, надеясь получить материальную поддержку от официальных инстанций («Избавьте меня от бродяжничества…»). Кроме того, он пишет: «Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатают, и он будет принадлежать народу советской страны, перед которым я в бесконечном долгу» (IV, 174). А своей жене Мандельштам сказал: «Ведь это золотой самородок […] я, нищий, – посылаю ему кусок золота…» [358]358
Мандельштам Н.Книга третья. С. 233.
[Закрыть]
В январе 1937 года этот нищий доходит до последней черты. Из письма к неустановленному адресату:
«Я тяжко и неизлечимо болен и лишен всякой возможности лечиться. Мне нечего есть. Я живу в нищете. […] Все мною описанное представляется мне какой-то чепухой или дурным сном, до такой степени это не похоже на закон Советского Союза и лишено здравого смысла. Я не понимаю, почем<у моя> адмвысылка в конце третьего, и последнего, <года> перерастает в осуждение на голод и <бездом>ность. […] В благоустроенном советском городе – в Воронеже, на глазах у множества пассивных свидетелей я выпадаю из всяких социальных рамок и являюсь уже не адм. высланным гражданином […] но человеком-призраком, гибель которого санкционирована всеобщей пассивностью» (IV, 177–179).
В этой ситуации («с веревкой на шее», по словам Надежды Мандельштам [359]359
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 247.
[Закрыть]) 12 января 1937 года поэт отваживается на последнюю попытку переломить свою судьбу. Он решается сочинить оду Сталину, призванную спасти его жизнь и жизнь жены. В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна сообщает, что ради этого Мандельштам даже изменил своим писательским привычкам. Он, который всегда слагал свои стихи устно, расхаживая и что-то бормоча, садился на этот раз к столу, раскладывал на нем карандаши и бумагу, чтобы выполнить столь тягостную работу.
Однако ему вовсе не удалось сложить гимн тирану в том духе, в каком многократно писали сотни советских поэтов. Результатом его работы оказалось в высшей степени двойственное произведение, включающее в себя и преувеличенную мнимую хвалу, и пародийные элементы, и замаскированное осуждение. Как мучительно бился Мандельштам над своей «одой», выдает уже первая из семи длинных строф, которая начинается с придаточного условного предложения – с возможности, выраженной сослагательным наклонением, и изображает поэта в «необычном» для него качестве – в виде живописца, рисующего углем:
Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной, —
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял бровь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек, —
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! (III, 112).
Ссылаясь на Прометея, выкравшего для людей огонь, как на своего покровителя, Мандельштам выступает преемником Эсхила, автора трагедии «Прикованный Прометей» (470 до P. X.), и создает нечто совершенно иное, нежели льстивый портрет властителя. В текст вплетаются детали, которые неосмотрительно диктует ему подсознание или лукавый дьявол, мастер шифровки. Иосиф Бродский назвал эту оду «гениальным стихотворением» [360]360
См.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 249.
[Закрыть]. Шифрованным, эзоповым языком слагает Мандельштам зачин жуткой «Оды», в которой за гротескным славословием скрывается осуждение Сталина [361]361
См. подробнее: Месс-Бейер И. Эзопов язык в поэзии Мандельштама тридцатых годов // Russian Literature. 1991. Vol. 29. Nr. 1. P. 228–336.
Немецкий историк Герд Кёнен толкует «Оду» как «крайнее злословие» в «потоке путанных метафор», напоминающих «Капричос» Гойи (см.: Коепеп G.Die grossen Gesänge Lenin, Stalin, Mao Tse-tung. Führerkulte und Heldenmythen des 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 1991. S. 144).
[Закрыть].
«Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось». Тот, кто творит подобное, не приносит миру счастье – он разрушает мир, ибо земной шар со сдвинутой осью должен сорваться в хаос. Это лишь один пример гиперболического ложного славословия, которое демонстрирует здесь Мандельштам. Мнимое возвеличивание Сталина в январе 1937 года было тайным продолжением разоблачительной эпиграммы, написанной в ноябре 1933 года. Вот еще пример:
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили! (III, 113).
Мотив кости указывает на стихотворение о «кумире» (декабрь 1936 года). Акцентировка происхождения Сталина («Он родился в горах…») – настойчивое напоминание о «кремлевском горце» в сокрушительной эпиграмме. Кроме того, Мандельштам намеренно пишет «Джугашвили» – избравший себе «стальной» псевдоним, Сталин, как правило, запрещал упоминать свою настоящую фамилию. Это грузинское имя означает «сын осетина». Концовка же эпиграммы звучала так: «Что ни казнь у него – то малина / И широкая грудь осетина» (III, 74).
Но и в этой подневольной оде Сталину есть четыре «вольные» строки, свидетельствующие о воскресении поэта, о его неколебимой способности отличать истинное солнце от мнимого (официальная пропаганда превозносила Сталина как «солнце»!):
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит (III, 114).
Однажды Мандельштам сказал жене: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы – бугры голов? Что он делает с этими головами?» [362]362
Мандельштам Н.Воспоминания. C. 247.
[Закрыть]Многое говорит о том, что он прекрасно знал о судьбе миллионов людей, арестованных и отправленных в лагерь. Но даже своей жене он не открывал все «коды» своих политических стихов. Он боялся, что ее арестуют и станут допрашивать, и полагал, что искреннее удивление по поводу «скрытого смысла» его текстов сможет облегчить ее участь. Тогда она не окажется сообщницей и соучастницей [363]363
Там же. C. 201.
[Закрыть].
Точка зрения на «Оду» как на несовершенное произведение, которое Мандельштам вынужден был написать ради сохранения собственной жизни, разделяется далеко не всеми критиками. Можно встретить и такое суждение: в этом тексте, как и вообще в «просоветских» или «лояльных» стихах воронежского периода, следует видеть совершенно искренние попытки поэта приблизиться к духу или злым силам своей эпохи (в том смысле, как это выражено в «Стансах»: «Я должен жить, дыша и большевея…») [364]364
Например, Г. Фрейдин считает «Оду» вершиной всего творчества Мандельштама (см.: Freidin G. A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and his Mythologies of Self-Presentation. Berkeley/Los Angeles/London, 1987. P. 260); для М. Гаспарова «Ода» важная составная часть «гражданской» лирики 1937 г. (см.: Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 78–112).
[Закрыть]. Более убедителен тезис, согласно которому Мандельштам – ввиду эрозии европейского гуманизма в тридцатые годы и распространения фашизма и национал-социализма – вполне сознательно стремился приблизиться к «относительной правде» сталинского социализма и лишь позднее, окончательно избавившись от этой иллюзии, встретил смерть свободными стихами [365]365
Марголина С. М. Мировоззрение Осина Мандельштама. Marburg/Lahn, 1989. С. 168–171.
[Закрыть].
Очевидно, что в «Воронежских тетрадях» запечатлены и все кризисные моменты. «Сознание своей правоты», которым Мандельштам в статье «О собеседнике» (1913) наделяет поэта, во время ссылки оказывалось иногда поколебленным. Таким же колебаниям подвергались и сложившиеся еще до революции его представления о личности, не зависимой от истории, и шкале «незыблемых ценностей» (I, 101). И не раз приходилось ему испытывать смешанное чувство вины и благодарности за оказанную ему «милость» – ведь не приговорили же его к расстрелу за антисталинское стихотворение!
И к нему – в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головой повинной тяжел… (III, 118).
Временами Мандельштам пытался довериться своей эпохе, но эти настроения длились недолго. Воспоминания его друга Бориса Кузина проливают свет на эти кризисные состояния:
«Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. […] Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. – “Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо”. А через день-два: “Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!”» [366]366
Кузин Б.Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.192 письма к Б. С. Кузину. С. 166.
[Закрыть]
Эти «большевистские припадки» воронежского периода Надежда Мандельштам рассматривала как следствие реактивного психоза, вызванного его пребыванием на Лубянке, как своего рода гипноз:
«Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах…» [367]367
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 149.
[Закрыть]
Трагическая раздвоенность Мандельштама периода ссылки проявилась, с одной стороны, в его желании примириться с эпохой, с другой, – в горестном понимании того, что он никогда не примет ни всей ее лжи, ни ее верховного распорядителя. Раздвоенное сознание поэта было уже в 1923 году темой его «Грифельной оды»:
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик (II, 47).
В сталинское время было невероятно трудно в одиночку противостоять всеобщей чистке мозгов, мучаясь вопросом: А что если я не прав, а правы все остальные? Но пусть даже Мандельштам был ослеплен и одурманен окружавшим его культом Сталина и пытался проникнуть в сущность лже-благодетеля человечества, его поэзия, оставаясь голосом правды, все равно свидетельствовала о другом. Подчас Мандельштам-человек хотел раствориться в своей эпохе и выжить; но Мандельштам-поэт еще в 1934 году (в разговоре с Анной Ахматовой) нашел решающие слова – «Я к смерти готов» – и доверился будущему своих стихов.
Для Мандельштама-человека «Ода» имела прагматическое значение и была отчаянным жестом – выражением его надежды на продление жизни. Он посылал ее в редакции различных журналов, но ни один из них не решился напечатать это стихотворение, изобилующее сложнейшими образами. Ни «Оду», ни какое-либо другое стихотворение ссыльного изгоя и нищего. С примитивными гимнами того времени, воспевавшими Сталина, усложненно-гротескная ода Мандельштама не имела ничего общего. И в конце концов она не смогла его спасти. В разговоре с Анной Ахматовой Мандельштам назвал ее однажды «болезнью» [368]368
Ахматова А.Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 42.
[Закрыть]. Уезжая из Воронежа, Мандельштам просил Наташу Штемпель, получившую списки всех его неопубликованных стихов, – уничтожить «Оду» [369]369
См.: Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. С. 135.
[Закрыть].








