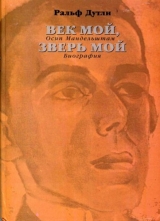
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
4
Разбудить зверя литературы
(Петербург 1905/1906 – Париж 1907/1908)
Решающее влияние: Владимир Гиппиус, учитель словесности в Тенишевском училище. «Звериное» отношение к литературе. Концепция, имевшая последствия: «литературная злость». Юношеская революционность: 1906/1907. Эрфуртская программа Каутского, школьный товарищ Борис Синани и партия социалистов-революционеров. Политические гонения и охранка после 1905 года. Юный Мандельштам – эсеровский пропагандист. Испуганные родители и милосердная ссылка. Париж, октябрь 1907 года: «Жозеф Мандельштамм» – студент Сорбонны. Лекции Жозефа Бедье и Анри Бергсона в Коллеж де Франс. Увлечение литературой французского Средневековья и современной философией. «Период ожиданий и стихотворной горячки». Быт и забавы парижского студента. «Плавание а парижском море». Борьба за религиозное мировоззрение (Ибсен, Толстой, Гамсун). «Увлеченность музыкой жизни». Литературные кумиры: Верлен и Брюсов. Встреча с собором Нотр-Дам.
О важнейшем событии своей школьной поры Мандельштам рассказывает в заключительной главе «Шума времени», озаглавленной, на первый взгляд, весьма загадочно: «В не по чину барственной шубе». Здесь он разворачивает свою концепцию «литературной злости» и раскрывает имя того, кому он обязан своим импульсивным, страстным отношением к литературе, – оно доставит ему со временем много горя. Это – учитель словесности старших классов Тенишевского училища, Владимир Гиппиус (1876–1941), писавший стихи в символистском духе, двоюродный брат известной писательницы-символистки Зинаиды Гиппиус. Он появляется и в автобиографии Набокова: «темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов)…» [28]28
Набоков В.Там же. С. 241.
[Закрыть].
Для Мандельштама он значил больше, чем для Набокова: «Первая литературная встреча непоправима» (II, 387). Прирожденный литератор, страдавший сонливостью, он был для Мандельштама воплощением разночинца, неимущего интеллигента и «злостного» литератора «в не по чину барственной шубе», воплощавшей саму литературу. Учитель словесности с недостаточно четким понятием литературы:
«У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить. […] Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю “русского языка”. Вся соль заключалась именно в хожденьи “на дом”, и сейчас мне трудно отделаться от ощущенья, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках» (II, 388, 390).

«У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла»
Владимир Гиппиус, преподаватель русского языка и литературы в Тенишевском училище, учитель Мандельштама с 1904 года
Под руководством этого учителя словесности у Мандельштама «устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуваженьем, кровной несправедливостью, как водится в семье» (II, 390). Все качества, восходящие к В. В. Гиппиусу, проявятся в стилистике мандельштамовских очерков.
Но самое главное, что перенял начинающий поэт от своего учителя, – это беспокойный, импульсивный темперамент: «литературная злость». Она и определит его дальнейшее творчество, вплоть до политических стихов и роковой эпиграммы на душегубца и мужикоборца Сталина (1933):
«Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознанье неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной некрасовской улице? Если настоящая – то да» (II, 387).
Мандельштам воистину дорого заплатит за эту «заговорщицкую соль», за «жар литературы», который ему на самом деле придется гасить «морозом» и «колючими звездами». Мятежный манифест и провидческие слова! Но ведь и годы его пребывания в Тенишевском училище отмечены не только литературным, но и политическим бунтарством.
Канун революции 1905 года, равно как и следующая за ней эпоха, пробудили в русских гимназистах и студентах радикальные настроения. Царский режим совершал ошибку за ошибкой – и внешнеполитические (поражение в русско-японской войне 1904–1905 годов), и внутриполитические (противодействие реформаторским силам). Роковой датой оказалось «кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, когда мирные демонстранты, около двухсот тысяч обездоленных заводских рабочих, двинулись с иконами и хоругвями к Зимнему дворцу – царской резиденции. По приказу Николая II войска открыли стрельбу по безоружной толпе. По всей России прокатилась волна забастовок и митингов. Это был первый гибельный шаг российского самодержавия. Именно после «кровавого воскресенья» большевики, собравшись на съезд в Лондоне, постановили перейти к тактике вооруженного восстания.
В «Шуме времени» Мандельштам описывает в главе «Сергей Иваныч» приближение революции 1905 года и странного студента, который помогал ему писать реферат, истинного «репетитора революции» (II, 372). Возможно, с помощью этого старшего товарища, а может, благодаря собственной любознательности пятнадцатилетний Мандельштам наткнулся на брошюры социалистического содержания. Самой главной из этих тоненьких книжечек оказалась для него «Эрфуртская программа», написанная в октябре 1891 года Карлом Каутским для германской социал-демократической партии. Владимир Гиппиус, учитель словесности, посоветовал своему воспитаннику прочесть «Капитал» Маркса, чтобы получить представление о марксизме, но юноша снова возвращается к брошюрам. Мандельштам ищет сильных жизненных ощущений – «в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты!» (II, 376).
Конец лета 1906 года Мандельштам проводит «с Эрфуртской программой в руках» в Зегевольде, на курляндской реке Аа, в Латвии – на балтийской родине своих предков. Это был последний отпуск, проведенный с родителями. Осенью он возвращается в Тенишевское училище «совершенно готовым и законченным марксистом». Здесь его ожидала встреча с «серьезным противником» и будущим другом – Борисом Синани. Семье Синани посвящена в «Шуме времени» отдельная глава. Отец Синани был из караимов, то есть предки его принадлежали к еврейской секте, не признающей Талмуд и традиции раввинов, но одну лишь Тору (Пятикнижие Моисеево). В XVII–XVIII веках караимы стали селиться в России, прежде всего – в Крыму.


«Произношу это имя с нежностью и уважением»
Тенишевцы Осип Мандельштам и его друг Борис Синани, увлекший его эсеровскими идеями
Синани были страстными приверженцами идеологии социалистов-революционеров (эсеров); эта партия, созданная в 1901 году Виктором Черновым, сформировалась из радикального крыла русских народников. Начиная с шестидесятых годов XIX века народники выступали с проповедью нового общественного порядка, который якобы должен возникнуть в России на основе крестьянской общины. Они разрабатывали некий крестьянский социализм. Из народнического движения вышло несколько радикальных группировок, например, основанная в 1879 году нелегальная революционная «Народная воля», которой удалось, в частности, в 1881 году убить Александра II. Вслед за народовольцами эсеровские «боевые отряды» легко перешли после 1901 года к тактике индивидуального террора. Их политическими соперниками были социал-демократы; социал-демократическая партия, созданная Плехановым в 1898 году на ортодоксально-марксистской основе, окончательно раскололась в 1903 году на большевиков (во главе с Лениным) и меньшевиков (Плеханов, Троцкий).
Поначалу социалисты-революционеры были несомненно более радикальной группировкой, открыто тяготевшей к террору. В последние месяцы своей гимназической поры (1906) Мандельштам – под влиянием Бориса Синани – оказывается в их идейном русле. Он очаровывается Борисом Синани, восхищается «ясностью его ума, бодростью и присутствием духа». Даже в 1923 году Мандельштам произносит ею имя «с нежностью и уваженьем» (II, 377).
Борис Синани (1889–1911) умер очень рано. Глава «Семья Синани» в «Шуме времени» – памятник, воздвигнутый ему Мандельштамом. В пору юношеских метаний Борис на короткое время заставил своего соученика Осипа пережить состояние политического воодушевления и подлинной «духовности», в чем тот остро нуждался:
«Мне было смутно и беспокойно. Все волненье века передавалось мне. Кругом перебегали странные токи – от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца. Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных мировых вопросов, и грязные, волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь! […] Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, коммунистических манифестов и аграрных споров. […]
Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида Андреева» (II, 383–384).
Квартиру Синани, куда часто захаживал юный Осип, посещали революционеры и террористы. Не дремала и царская охранка: период с 1905 по 1907 год – время жестоких репрессий и многочисленных арестов. После кровавого подавления революции 1905 года появляются тревожные для евреев тенденции, причем не только в южных областях России с их давней традицией погромов, но и в столичном Петербурге.
Мистагог Сергей Нилус опубликовал «Протоколы сионских мудрецов», призванные внушить современникам идею мирового еврейского заговора (ныне известно, что «Протоколы…», давно разоблаченная фальшивка, были изготовлены царской охранкой). Даже царь Николай II твердо верил в подлинность этой книги. Радикально настроенные черносотенцы, объединявшие в своих рядах антисемитов-погромщиков всех мастей, стремились навязать евреям традиционную роль козлов отпущения («Бей жидов!»). В семье Мандельштама тоже опасались погромов. Отец, по воспоминаниям Евгения Мандельштама, запасся на всякий случай дамским браунингом, хранившимся у него в ночном столике [29]29
См. об этом: Мандельштам Е.Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 134.
[Закрыть].
У родителей Мандельштама были все основания тревожиться относительно новых знакомств Осипа. Их первенец дошел до того, что носился с мыслью вступить в какую-нибудь эсеровскую «боевую группу». По меньшей мере, он собирался стать пропагандистом. В марте 1907 года, за два месяца до расставания с Тенишевским училищем, которое он закончил в основном с удовлетворительными оценками, юноша, взобравшись на бочку, произнес пламенную речь перед рабочими своего квартала. Поводом послужило конкретное событие: 2 марта обрушилась кровля Таврического дворца, в котором заседала Дума, и в этом левые партии усмотрели покушение со стороны самодержавия на неудобный парламент [30]30
О Мандельштаме – эсеровском пропагандисте см. запись в дневнике С. П. Каблукова от 18 августа 1910 г. (в кн.: Мандельштам О.Камень. Издание подготовили Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 241). См. также: Нерлер П.Парижский семестр Осипа Мандельштама // Osip Mandel’štam und Europa. Herausgegeben von W. Potthoff. Heidelberg, 1999. S. 257–258.
[Закрыть].
Конечно, источником революционного пафоса Мандельштама была мечтательно-эфемерная политическая восторженность шестнадцатилетнего юнца. Тем не менее, в секретных оперативных материалах, которые станут основой обоих арестов в 1934 и 1938 годах, поэту припомнят его эсеровское прошлое. Ибо вскоре после Октябрьского переворота и гражданской войны большевики начнут преследовать социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков) как злейших врагов.
В сентябре 1907 года Мандельштам отправляется со своим другом Борисом Синани в поселок Райвола (ныне – Рощино), чтобы примкнуть к эсеровской «боевой группе». Однако получает отказ – по причине юного возраста: он слишком молод, чтобы стать террористом! Перепуганные родители принимают решение действовать. Они отправляют юношу, едва достигшего шестнадцати лет, за границу, и не куда-нибудь, а прямо в Париж, тогдашнюю столицу мира, где он должен продолжить обучение. Что это: расчет или легкомыслие? Может быть, им казалось, что в Петербурге их отпрыск подвергается гораздо худшим, то есть революционным соблазнам. Разумеется, из всех ссылок, которые выпали на долю Мандельштама, эта была самой милосердной и плодотворной. Ему предстояло отправиться в столицу поэзии.
Его мудрая мать и на этот раз сделала правильный выбор. В письмах Мандельштама из Парижа нет и следа каких-либо революционных затей. Впрочем, останавливая свой выбор на Париже, Флора Мандельштам вряд ли представляла себе, какую педагогическую ошибку она рискует совершить. Ибо уже в девятнадцатом столетии Париж превращается, наравне с Лондоном и Женевой, в главную арену деятельности русских революционеров! Столь благосклонная высылка за границу могла привести ее отпрыска к весьма нежелательным последствиям. Однако ее выбор не обернулся ошибкой.
14 сентября 1907 года Мандельштам присутствует на поэтическом вечере в своей бывшей школе. В начале октября он уже в дороге. Проведя две недели в Вильне, родном городе своей матери, он, в сопровождении Юлия Розенталя, друга семьи и ее доброго духа с «тяжелой бисмаркской головой» (II, 375), отправляется дальше – в Париж. Открытка родителям из Вильны от 3 октября 1907 года свидетельствует о легкости духовного багажа и ощущении относительной безопасности: «В дороге я чувствую себя отлично. (…) Погода разгулялась, и голова моя – тоже почти свободна от мыслей» (IV, 9).
В конце октября Мандельштам в Париже; он записывается в Сорбонне на филологический факультет под именем «Жозеф Мандельштамм» (двойное «м» предполагает немецкое происхождение фамилии). В Национальном архиве Франции сохранился формуляр, заполненный на неуклюжем французском [31]31
Archives Nationales. AJ16/5002. Опубликовано в кн.: Струве Н. Мандельштам в Париже // Вестник Русского христианского движения (Париж). 1990. № 160 (3). С. 256.
[Закрыть]. В графе «адрес» читаем: рю де ла Сорбон, 14, то есть отель «Жерсон», здание напротив знаменитого университета, – нужно лишь перейти через улицу. Вскоре Мандельштам переедет в соседнее здание, рю де ла Сорбон, 12, где в удобных комнатах селились вольнослушатели из Коллеж де Франс, расположенного неподалеку на рю дез Эколь. (Справка для туристов по литературному Парижу: с 1 февраля 1992 года на этом доме открыта памятная доска в честь Мандельштама).
В Коллеж де Франс Мандельштам слушал лекции медиевиста Жозефа Бедье и философа Анри Бергсона: оба оставят заметный след в его творчестве. В течение всей своей жизни Мандельштам увлекался французским Средневековьем – от «Песни о Роланде» (XI век) до стихов поэта-бродяги Франсуа Вийона (XV век). Вийону он посвятит один из своих первых очерков (1913) и одно из своих последних стихотворений (1937). Для составленной им антологии героических поэм французского Средневековья – отклоненной Госиздатом – Мандельштам в 1922 году переведет большие отрывки из разных старофранцузских текстов. А выполненный Жозефом Бедье стилизованный пересказ романа о Тристане и Изольде (1900) Мандельштам еще в 1923 году назовет «настоящим чудом» (II, 329) [32]32
На тему «Мандельштам и средневековая французская литература» см.: Dutli R.Ossip Mandelstam – «Als riefe man mich bei meinem Namen». Dialog mit Frankreich. Ein Essay über Dichtung und Kultur. S. 257–272 (старофранцузский эпос); S. 235–249, 272– 286 (Франсуа Вийон); S. 300–302 (Мария Французская, сказание о Тристане).
[Закрыть].
Глубокое влияние оказал на Мандельштама и французский философ Анри Бергсон, ярко озаривший своими лучами духовный мир Франции на рубеже XIX и XX столетий. В противовес рационализму и позитивизму XIX века Бергсон проповедовал интуицию, которую он пытался восстановить в правах. Его важнейший вклад в историю мысли – новое восприятие человеческого сознания как единого потока и времени как непрерывной текучести. Время, согласно Бергсону, – это чистая длительность (dur е pure), постижимая лишь интуитивно и непосредственно, неизбывное неисчислимое вечное становление, пребывающее в разных степенях интенсивности. В ту пору не существовало более поэтического философского учения. Отличная питательная почва для начинающего поэта! Прямо во дворе Коллеж де Франс собирались толпы людей и внимали через распахнутое окно откровениям мыслителя. Главный труд Бергсона «Творческая эволюция» (1907) появился как раз в то время, когда Мандельштам находился в Париже, и эта книга лежала в его чемодане в мае 1908 года, когда он покидал французскую столицу [33]33
Подробнее о Мандельштаме и Бергсоне см.: Там же. S. 42–47; Фэвр Дюпегр А.Бергсоновское чувство времени у раннего Мандельштама // Осип Мандельштам. Поэтика и текстология. Материалы научной конференции 27–29 декабря 1991 г. Москва, 1991. С. 27–31.
[Закрыть].
Все это звучит необычайно умно и наводит на мысль о прилежном студенте. Но в Париже 1907/1908 года Мандельштам уже ощущает себя поэтом. «Период ожиданий и стихотворной горячки» – так характеризует он это время в письме к матери от 7/20 апреля 1908 года. Далее описывается праздная повседневная жизнь парижского студента:
«Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова…
Период ожиданий и стихотворной горячки…
Время провожу так:
Утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер – т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа…
Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед… После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера.
Это милая комедия.
К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку…
И происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки…[…]
Маленькая аномалия: “тоску по родине” я испытываю не о России, а о Финляндии.
Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай.
Твой Ося»
(IV, 10–11).

«…“Тоску по родине” я испытываю не о России, а о Финляндии»
Мандельштам с неизвестными (Выборг, 1911)
«Маленькая аномалия» – характерная деталь. Мандельштам имеет в виду каникулы, которые семья проводила в Финляндии: зимой в Выборге, летом в Териоках (ныне – Зеленогорск); наряду с летним отдыхом на Рижском взморье они вносили в детство и юность Мандельштама определенный ритм. Для жителей Петербурга Финляндия обладала особой аурой – этому посвящена отдельная главка в «Шуме времени» (II, 358–360). Стихи, приложенные к цитированному письму, представляют собой мечтательное воспоминание об озере Сайма и финском национальном эпосе «Калевала». Тоска по беспечному времени летних каникул… Как далеки теперь от молодого человека все петербургские партийные распри социал-демократов и социалистов-революционеров, пропагандистов и «боевых групп», как сам он теперь далек от увлечения «Эрфуртской программой» Каутского!

«…Париж был тем морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной»
Мандельштам в парижском предместье (1907/1908)
В том же письме мечтатель и ленивец упоминает о своей «милой комедии». «Уже в XV веке, – читаем в очерке о Вийоне, – Париж был тем морем, в котором можно было плавать, не испытывая скуки и позабыв об остальной вселенной» (I, 171–172). Совершенно ясно, что за этой фразой стоит собственный парижский опыт Мандельштама. Его родители, безусловно, нашли верное целебное средство. Очевидно, что искушение революцией теперь преодолено, и уже неделю спустя, 14 апреля 1908 года, он пишет обожаемому учителю Владимиру Гиппиусу о своей внутренней борьбе за собственное религиозное мировоззрение. Речь в этом письме идет об «очистительном огне» Ибсена, о Льве Толстом и Герхарте Гауптмане, «двух величайших апостолах любви к людям», и о романе Гамсуна «Пан» с его мистикой природы, который якобы научил юного Мандельштама поклоняться «неосознанному Богу» и все еще воплощает для него истинную «религию» (IV, 12). Сплошь духовные авторитеты рубежа веков!
Самое важное, однако, – «увлечение музыкой жизни», которое Мандельштам, по его словам, нашел у французских поэтов и Брюсова. «Живу я здесь очень одиноко, – признается он в том же письме, – и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки» (II, 12). Он упоминает о написанных им статьях, посвященных Верлену, Роденбаху и Федору Сологубу, и о своем намерении писать о Гамсуне. Ни один из этих юношеских очерков не сохранился, но их можно рассматривать как хрупкие зачатки эссеистической прозы Мандельштама, созданной позднее. Кроме того, в словах о «музыке жизни» содержится намек на Верлена, требовавшего для стихов «музыки прежде всего», – этими словами открывается его программное стихотворение «Поэтическое искусство» (1874). В девяностые годы XIX века это стихотворение получило в России широкую известность благодаря переводу Валерия Брюсова.
Верлен и Брюсов становятся литературными кумирами Мандельштама. Это подтверждают воспоминания Михаила Карповича, который встретил одинокого русского студента 24 декабря 1907 года в одном из кафе на бульваре Сен-Мишель. Юноша, еще не достигший семнадцати лет, походил «на цыпленка» и выглядел «довольно смешно». Не то цыпленок, не то петушок – описывая внешность юного Мандельштама, современники часто прибегают к нелепым сравнениям с птицами. Мандельштам, вспоминает Карпович, с упоением читал вслух стихотворение Брюсова «Грядущие гунны» (1905) – гимн новым завоевателям, которые растопчут культуру старого, дряхлого мира. С не меньшим воодушевлением молодой поэт декламировал стихи Верлена, и среди них – свой собственный русский вариант его стихотворения о Каспаре Хаузере («Je suis venu, calme orphelin…» [34]34
«Пришел я, скромный сирота…» (фр.) – перевод В. Брюсова.
[Закрыть]); мандельштамовский текст не сохранился [35]35
См.: Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом // Новый журнал (Нью-Йорк). 1957. № 49. С. 258–260. Перепечатано в кн.: Осип Мандельштам и его современники. Сост. В. Крейд и Е. Нечепорук. М., 1995. С. 40–41.
[Закрыть].
Итак, с одной стороны, – необузданные мечтания русского символиста об «азиатской» России, в которой пульсирует свежая, дикая кровь; с другой, – исповедь сбившегося с пути и потерпевшего крах человека, которую Верлен написал, находясь в заключении. В этой программе семнадцатилетнего юноши, пытающегося соединить мировую тоску с жаждой обновления, нет на самом деле ничего удивительного [36]36
На тему «Мандельштам и Верлен» см. подробнее: Dutli R.Ossip Mandelstam. «Als riefe man mich bei meinem Namen». Dialog mit Frankreich. Ein Essay über Dichtung und Kultur. S. 63–98.
[Закрыть].
Короткая вспышка прежних революционных настроений приходится на весну 1908 года, когда в Париже умирает эсер Григорий Гершуни, террорист и организатор «боевых групп»; он мимолетно появляется в главе «Семья Синани» (II, 383). На организованном эсерами собрании, посвященном памяти Гершуни, главным оратором был революционер Борис Савинков. Едва он заговорил, как Мандельштам поднялся с места и в продолжение всей его речи стоял «как в трансе» – с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами [37]37
См.: Карпович M. Мое знакомство с Мандельштамом // Осип Мандельштам и его современники. С. 41. См. также: Нерлер П.Парижский семестр Осипа Мандельштама // Osip Mandel’štam und Europa. S. 260.
[Закрыть]. Если бы его мать знала об этом! Впрочем, возможно, Мандельштам пришел в такое волнение потому, что с грустью вспомнил о друге юности Борисе Синани и их общих революционных порывах.
Пребывание в Париже дало Мандельштаму – при всей его юношеской мечтательности и повседневной студенческой праздности – множество глубоких импульсов для дальнейшего творчества. Наряду с увлеченностью литературой французского Средневековья и современной философией Бергсона следует упомянуть и о его знакомстве с шедевром готической архитектуры – Нотр-Дам, которому будет посвящено программное стихотворение 1912 года; этот парижский собор занимает важное место и в мандельштамовском манифесте «Утро акмеизма» (1913), где центральной является идея зодчества: «Notre Dame есть праздник физиологии, ее дионисийский разгул» (I, 179). Впечатление от Собора Парижской Богоматери будет гулко звучать в душе Мандельштама и спустя год после его парижского пребывания. В письме к Вячеславу Иванову из Монтрё Мандельштам пишет 13/26 августа 1909 года: «Разве, вступая под своды Notre Dame, человек размышляет о правде католицизма и не становится католиком просто в силу своего нахождения под этими сводами?» (IV, 14). Французские темы и образы будут сопровождать Мандельштама на протяжении всей его жизни, вплоть до воронежской ссылки.
В конце мая 1908 года Мандельштам возвращается в Петербург – без диплома, зато с книгой Бергсона в чемодане. Отныне столица поэзии – неотъемлемая часть его опыта. «Зверь литературы» пробужден. Музыка стихов Верлена звучит в его ушах. И подобно Франсуа Вийону, молодой Мандельштам забывал, плавая «в парижском море», обо всей остальной вселенной.








