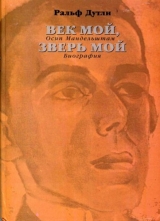
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
19
Власть отвратительна, как руки брадобрея
(Москва / Крым 1932–1933)
Надежда в Боткинской больнице. Обострение обоняния. Возвращение в Дом писателей на Тверском бульваре. Прошлые заслуги и принципиальная «непригодность». Партийное постановление от 23 апреля 1932 года: единообразие советской литературы. Занятия биологией и теорией эволюции. Эссе о Дарвине и стихотворение о Ламарке: протест против погружения в «глухоту паучью». Прежняя веселость в новых шутливых стихотворениях Разговор с русскими поэтами прошлого: «Сядь, Державин, развалися». Мечта о немецком языке и «пра-книге» поэзии. Приветствие Генриху Гейне. Сентябрь 1932 года: дело Саргиджана. Принижение роли Мандельштама в литературной энциклопедии 1932 года. Пророк и шаман: последние публичные выступления. «Современник Ахматовой». Апрель 1933 года: Старый Крым. Голодающие крестьяне, насильственная коллективизация. Политическое стихотворение о голоде в Крыму. «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Итальянские сны европейца Мандельштама: Ариосто, Тассо, Данте. Июнь-июль 1933 года в Коктебеле: встреча с Андреем Белым. «Разговор о Данте»: поэтологическое эссе и политический памфлет. «Путешествие в Армению» последняя прижизненная публикация. Нападки в советской печати. Чтение Данте вместе с Ахматовой. Ненапечатанный Мандельштам.
Осенью 1931 года Надежде пришлось лечь в Боткинскую больницу. Еще в мае Мандельштам писал отцу о том, что у Нади – спазмы в кишечнике, тошнота, похудание (IV, 142). Как и в 1929 году во время Надиной операции в Киеве, Мандельштам заботится о своем «солнышке», посылает ей «сливки, компот» – для укрепления организма (IV, 145). Он не отходит от нее ни на шаг, ночует в больнице. Позднее Надежда напишет, что в этот период у него обострилось чувство обоняния. Путешествие в Армению и созерцание французской живописи обновили его зоркость, Боткинская больница – обоняние. В концовке одного из стихотворений, в котором поэт оглядывается на прожитую жизнь («Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый…»), стоят рядом два остро схваченных чувственных ощущения: звук разрываемой марли и запах карболовой кислоты (III, 50). Надежда Мандельштам относит эти слова к тому времени, когда он навещал ее в Боткинской больнице [279]279
Мандельштам Н.Вторая книга. С. 398.
[Закрыть].
В январе 1932 года Мандельштамы вселяются в крохотную комнатку Дома Герцена на Тверском бульваре; именно здесь десять лет тому назад Мандельштам пережил свой первый конфликт с Всероссийским союзом писателей. Тогда он в негодовании оставил это писательское общежитие. Возвращение окрашено горечью, но все-таки – крыша над головой! Он живет теперь в правом флигеле, в сырой десятиметровой комнате, своего рода кладовке в доме советских литераторов. «Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол и т. д…», – жалуется Мандельштам весной 1932 года в письме к И. М. Гронскому (IV, 146). Но и для такой «привилегии» потребовалось новое вмешательство Бухарина, который, кроме того, выхлопотал Мандельштаму жалкую ежемесячную персональную пенсию в 200 руб. за его «заслуги перед русской литературой» (имелась в виду литература дореволюционная) – ввиду его принципиальной «непригодности» для советской литературы. Это решение от 23 марта 1932 года будет впоследствии отменено: после окончания ссылки в 1937 году поэт лишится «пожизненной пенсии» [280]280
См об этом: Видгоф Л.Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. С. 98.
[Закрыть].
Итак, Мандельштам становится – слишком рано! – нищим пенсионером; он объявлен непригодным для своей эпохи, которой, по выражению Сталина, нужны «инженеры человеческих душ». 23 апреля 1932 года было принято партийное постановление, имевшее важные последствия: все писательские организации, включая РАПП, ликвидировались; на их основе должен был возникнуть единый Союз советских писателей. Тем самым окончательно обеспечивалось единообразие советской литературы, уже в 1929 году завершившей период экспериментаторства.

«Они не знают, кто я!»
Осип Мандельштам (1932) – «ранний пенсионер»
(ввиду принципиальной «непригодности» для советской литературы)
К весне 1932 года жилищные условия Мандельштама улучшаются: из сырой кладовки в Доме Герцена ему удается – после разбирательства дела «жилищно-хозяйственной тройкой» – переехать в более светлую и сухую соседнюю комнату. 1932 год разносторонне обогатит Мандельштама в духовном отношении, что было вознаграждением для оказавшегося в изоляции поэта. Благодаря своему другу Борису Кузину и его коллегам, сотрудникам Зоологического музея на Никитской, он предается глубоким размышлениям о биологии и теории эволюции. В своей записной книжке Мандельштам признается в том, что естествоиспытатели Ламарк, Бюффон и Линней «окрасили» его зрелость, а челюсть кита в вестибюле Зоологического музея пробудила в нем «ребяческое изумление перед наукой» (III, 386).
Ученым-натуралистам посвящена в армянских очерках целая глава. Кроме того, 21 апреля 1932 года Мандельштам публикует в журнале «За коммунистическое просвещение», печатном органе Наркомпроса, статью о «литературном стиле» Чарльза Дарвина (к пятидесятилетию со дня его смерти). Поэт возвеличивает великого натуралиста, в котором видит прежде всего писателя. Дарвин, по его словам, вступает с природой в отношения военного корреспондента, интервьюера, отчаянного репортера (III, 393, 398); Мандельштам восторженно пишет о «колоссальной тренировке аналитического зрения» у Дарвина (III, 397), о «небывалой свежести» его стиля (III, 212), об изгнании из литературного обихода натуралиста какой бы то ни было риторики и велеречивости (III, 213, 391).
Публикация этого текста состоялась благодаря Александру Моргулису, который работал в редакции журнала «За коммунистическое просвещение» и сумел на короткое время устроить туда и Надежду Яковлевну. Мандельштам близко знал Моргулиса с 1927 года – они часто виделись в Детском Селе. Жена Моргулиса, пианистка Иза Ханцин, не раз играла на рояле для Мандельштама, восторженно слушавшего ее игру. Своеобразное свидетельство особых отношений, соединявших Мандельштама с Моргулисом, – целая серия «моргулет», коротких шутливых стишков, которые неизменно начинались со слов «Старик Моргулис…» (Моргулис, родившийся в 1898 году, был на семь лет моложе Мандельштама; он погибнет в лагере, в том же, что и Мандельштам, в 1938 году). Вот лишь один пример: «У старика Моргулиса глаза / Преследуют мое воображенье, / И с ужасом я в них читаю: “За / Коммунистическое просвещенье"!» (III, 146).
В начале тридцатых годов к Мандельштаму вообще возвращается прежняя веселость, которой ему часто недоставало во второй половине двадцатых годов – в «период молчания». Он опять с удовольствием сочиняет шутливые стихотворные экспромты, которые часто рождаются за веселой беседой в дружеском кругу – за чаем или бутылкой вина, как вспоминает Надежда Яковлевна. Продолжается и серия иронических автопортретов: «Шапка, купленная в ГУМе / Десять лет тому назад, / Под тобою, как игумен, / Я гляжу стариковат» (III, 152).
Шутливые портретные зарисовки Мандельштам делал и в кругу зоологов – сослуживцев Бориса Кузина. Одна из них относится к зоологу Юлию Вермелю, который увлекался философией Канта и постоянно его цитировал. Мандельштам откликнулся на это остроумным стихотворением, основанным на богатой игре слов:
Вермель в Канте был подкован,
То есть был он, так сказать,
Безусловно окантован,
То есть Канта знал на ять.
В сюртуке, при черном банте,
Философ был прямо во!
Вермель съел собаку в Канте,
Кант, собака, съел его (III, 150).
Визиты к зоологам оборачивались для Мандельштама не только веселым времяпрепровожденьем, но и серьезными раздумьями над биологическими вопросами – и над своей эпохой. В мае 1932 года он пишет стихотворение, посвященное французскому естествоиспытателю Жану Батисту де Ламарку (1744–1829), – Борис Кузин, друг Мандельштама, был нео-ламаркистом. Это стихотворение – воображаемое движение вниз по ламарковой лестнице живых существ, тягостный спуск по ступеням развития, нисхождение в ад, означающее потерю и человеческих чувств, и теплой крови.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил (III, 62).
Этот срыв в слепоту и глухоту ощущается еще болезненнее, если вспомнить, как превозносил Мандельштам в очерках об Армении чувственные ощущения – зрение и слух. Стихотворение «Ламарк» – протест против «глухоты паучьей» сталинского времени, против детерминизма, слепой веры в прогресс и концепции «нового человека».
1932 год отмечен также влечением к чарующим звукам. Мандельштам с воодушевлением принимается изучать итальянский – ему хочется прочесть в оригинале поэтов Средневековья и Возрождения: Петрарку, Ариосто и Тассо. Стихотворение «Новеллино», написанное 22 мая 1932 года, восходит к эпизоду из «Божественной комедии» Данте, которому год спустя он посвятит свое самое значительное эссе: «Разговор о Данте». Этот текст повествует также о чувственном наслаждении, дарованном итальянской речью, которая теперь начинает ему открываться:
«Когда я начал учиться итальянскому языку […] я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился: ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило – это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм» (III, 218).
Все более отдаляясь от современного читателя, Мандельштам обращается и к русским поэтам прошлого. В мае 1932 года он пишет шутливо-ироническое завещание, в котором упоминаются поэты Тютчев, Баратынский и Лермонтов («Дайте Тютчеву стрекозу…» – III, 65). За ним в июне следует стихотворение, посвященное «нежному» Батюшкову, который тоже почитал итальянскую поэзию и сплетал свои русские стихи со строками Петрарки и Торквато Тассо (III, 65–66). А в цикле, озаглавленном «Стихи о русской поэзии», Мандельштам фамильярным жестом подзывает к себе Гаврилу Державина (1743–1816), великого одописца XVIII столетия: «Сядь, Державин, развалися…» (III, 66–67). Этим движением легко устраняется дистанция, преодолевается пропасть во времени. Обращения к поэтам лукаво-бесцеремонны, но в них чувствуется и боль поэта, которому закрыт доступ к его современникам.
В августе 1932 года Мандельштам создает стихотворение «К немецкой речи» и посвящает его своему другу Борису Кузину, восторженному поклоннику немецкой культуры. Это – духовное путешествие в немецкий XVIII век. Союзником Мандельштама становится Эвальд Христиан фон Клейст (1715–1759), поэт и приятель Лессинга, прусский офицер, погибший во время Семилетней войны в битве с русскими при Кунерсдорфе. Поэзия – возведение мостов между временами и языками, попытка прорваться в чужой мир, несмотря на все опасности, грозящие стихотворцу:
Себя губя, себе противореча,
Кик моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства (III, 69).
Стихотворение уводит читателя в поэтическую Валгаллу и во Франкфурт – возможно, в еврейском гетто этого города жили некогда предки Мандельштама. В нем сквозит мечта о встрече еврейской мистики с немецким Просвещением XVIII века, о бракосочетании Каббалы с Разумом. В то же время в нем скрыта и почтительная память о родителях: отце, увлеченном немецкими поэтами, и матери, чья семья была захвачена идеями еврейского просвещения – Гаскалы.
И еще: это стихотворение – приветствие Генриху Гейне, также проделавшему в свое время путь из стихии родного языка на чужбину. «Бог Нахтигаль», к которому дважды взывает Мандельштам, восходит к стихотворению Гейне «В начале был соловей» [281]281
См.: Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991 № 1. С. 17; Dutli R.«Das bin ich. Das ist der Rhein». Tierseele und Lorelei: Osip Mandel’štams Jugendgedichte, der «Heidelberger Zyklus» 1909/1910 und deutsche Echos im Spätwerk der dreissiger Jahre (Ergänzungen zum Thema «Mandel’štam und Deutschland») // Osip Mandel’štam und Europa. S. 79–81.
[Закрыть]. Магия стиха соединяет Клейста, Гейне и Мандельштама в один поэтический образ. «Соловьиная горячка» из стихотворения 1918 года все еще сохраняет свое «теплое сердце» (I, 134). В августе 1932 года – за год до прихода Гитлера к власти – Мандельштам провидит «новую чуму» и «семилетнюю бойню», но выражает, тем не менее, свою веру в немецкий язык и некую «пра-книгу» поэзии:
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая нам снится. […]
Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум и семилетних боен,
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен (III, 70).
Все фантазии о русской поэзии и мечта о «пра-книге» относятся к лету 1932 года. Новый, с тяжкими последствиями, конфликт быстро возвращает Мандельштама к советской действительности: дело Саргиджана. Молодой советский писатель Сергей Бородин (псевдоним – Амир Саргиджан), сосед Мандельштама по Дому Герцена, в чьи обязанности входило, вероятно, шпионить за поэтом, ворвался – после очередного спора – к нему в комнату и ударил его жену. Поводом для выяснения отношений послужил денежный долг: одолжив у Мандельштама, который и сам постоянно страдал от отсутствия денег, 40 или 75 рублей, Саргиджан не захотел или не смог вернуть эту сумму.
13 сентября 1932 года состоялся созванный Союзом писателей товарищеский суд под председательством официозного советского писателя, «красного графа» А. Н. Толстого. Суд вынес порицание обеим сторонам: должнику и драчуну Саргиджану, но и высокомерному Мандельштаму, не сумевшему сдержать своего презрения к Саргиджану. Толстой разговаривал с Мандельштамом якобы весьма пренебрежительно. Большинство в зале, вспоминает один из очевидцев, было явно на стороне Саргиджана – такие же как и он сам, советские литераторы-приспособленцы [282]282
См: Липкин С. Квадрига. Повесть. Мемуары. M., 1997. C. 380
[Закрыть]. Мандельштам же, напротив, воспринимался как «бывший поэт» и сомнительный современник, к тому же способный учинить скандал. Другой свидетель рассказывает, как возмущался Мандельштам решением товарищеского суда, высказавшего ему порицание: он вскочил на стол и, размахивая маленьким кулачком, стал негодующе что-то выкрикивать [283]283
О «деле Саргиджана» см. подробнее: Видгоф Л.Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. С. 106–108.
[Закрыть].
Подобно тому как в августе 1923 года Мандельштам вышел из Всероссийского союза писателей, а в декабре 1929 года выступил с «Открытым письмом к советским писателям», так и теперь: чувствуя себя униженным и бесправным, поэт отвечает письменным протестом, обращенным в Горком писателей. «Расправа, достойная сутенера или охранника, изображается как дело чести», – возмущается Мандельштам в одном из писем (адресат не установлен). «Постановщики», по его словам, превратили Саргиджана в «юридического палача» (IV, 147). Мандельштаму было ясно, что удар, нанесенный его жене, предназначался, собственно, ему самому. На этом, однако, дело не закончилось: в мае 1934 года в Ленинграде Мандельштам публично даст пощечину Алексею Толстому (через неделю его арестуют).
В Доме Герцена изгой Мандельштам общался с коллегами сравнительно мало. Он дружески относился к крестьянскому поэту Сергею Клычкову (расстрелянному в 1937 году), и тот отвечал ему взаимностью. Нередко Мандельштамов навещал художник Лев Бруни – автор знаменитого «голубого портрета», созданного еще в 1916 году, – вместе с женой. Поэт продолжал поддерживать добрые отношения с Виктором Шкловским. Но по отношению к писательской касте Дома Герцена он был настроен враждебно. И эта враждебность тоже зиждилась на взаимности. Мандельштам ощущал себя поэтом, совершенно не признанным своей эпохой: «Они не знают, кто я!», – сказал он однажды, по свидетельству Надежды Вольпин, о своих современниках [284]284
Цит. по: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 91.
[Закрыть].
Если бы ему потребовалось подтверждение того, что его официально деквалифицировали, достаточно было открыть шестой том советской «Литературной энциклопедии», появившийся как раз в 1932 году. Там можно было прочесть следующее: творчество Мандельштама представляет собой «художественное выражение сознания крупной буржуазии», в нем проявились «полный индиферентизм к современности», «крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему», «крайний буржуазный индивидуализм». Анатолий Тарасенков, автор этой статьи, клеймил его творчество как «зашифрованное идеологическое увековечивание капитализма и его культуры» [285]285
Литературная энциклопедия Т. 6. М., 1932. С. 757–758
[Закрыть]. Такое уничижение Мандельштама возмутит в 1961 году Илью Эренбурга. «Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама, – писал он. – Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой!» При этом Эренбург приводит любопытный факт, разоблачающий ложь и двоемыслие тогдашних писателей: «…Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне и восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям» [286]286
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Т. 1. С. 312–313.
[Закрыть].
Представление о нем как о «поэте прошлого», не способном что-либо сказать своим современникам, Мандельштам сумел опровергнуть уже через два месяца после прискорбного товарищеского суда. 10 ноября 1932 года он выступает в редакции «Литературной газеты» (в том же Доме Герцена) с чтением своих произведений. Именно эта газета усердно способствовала травле Мандельштама в 1929 году. Один из посетителей вечера, Николай Харджиев, специалист по русскому авангарду, рассказывал в письме к Б. М. Эйхенбауму (между 10 и 15 ноября 1932 года): «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с пол. часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) – в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: “Я завидую Вашей свободе. Для меня Вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна несвобода”» [287]287
Цит. по: Эйхенбаум Б.О литературе. Работы разных лет / Сост. О. Б. Эйхенбаум, Е. А. Тоддес. Вступит, статья М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддеса. Коммент. Е. А. Тоддеса, М. О. Чудаковой, А. П. Чудакова. М., 1987. С. 532 (текст письма Н. И. Харджиева приведен в комментарии к наброску Эйхенбаума «Конспект речи о Мандельштаме»).
[Закрыть].
В конце 1932 года Мандельштам, находясь в писательском поселке Переделкино под Москвой, пишет письмо своему отцу. Он сообщает о двух выступлениях, которые Союз писателей вынужден был ему разрешить, «чтоб прекратить нежелательные толки»: «Эти выступления тщательно оберегались от наплыва широкой публики, но прошли с блеском и силой, которых не предвидели устроители. Результат – обо всем этом ни слова в печати». Каждый его шаг, пишет Мандельштам, по-прежнему затруднен, и искусственная изоляция продолжается (IV, 148). Тем не менее, 23 ноября 1932 года «Литературная газета» публикует подборку его стихотворений: «Полночь в Москве», «К немецкой речи» и политически острое стихотворение «Ленинград» (декабрь 1930), увидевшее свет исключительно по недосмотру цензуры. В первые месяцы 1933 года у Мандельштама состоялось еще несколько более или менее «публичных» выступлений: два в Ленинграде и два в Москве. Союз писателей имел возможность регулировать такого рода мероприятия, ограничивая раздачу пригласительных билетов или приглашая только тех лиц, которые считались политически «благонадежными». Тем не менее, последние публичные выступления Мандельштама обернулись для него неожиданным успехом. В то время он носил бороду и был похож на библейского пророка. Подобно шаману, декламирующему все свои стихи свободно и с нескрываемым пафосом, он чувствовал себя в своей стихии. 22 февраля 1933 года он читал в Ленинграде – высокомерно опершись о стул и не подымая на публику глаз. Всем своим видом, вспоминала Анастасия Цветаева, он как бы показывал: мне вы не нужны [288]288
Устные воспоминания А. И. Цветаевой, записанные В. Д. Дувакиным // Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 160.
[Закрыть].
14 марта 1933 года состоялось еще одно выступление Мандельштама – в московском Политехническом музее, где Маяковский некогда обрушивал на публику свои грохочущие стихи. Когда Мандельштам вышел на сцену, начались бурные и продолжительные аплодисменты, удивившие его самого. Поклонников его поэзии собралось куда больше, чем рассчитывали устроители вечера, который превратился в триумф. Вступительное слово произнес литературовед Борис Эйхенбаум, высоко оценивший творчество поэта. Когда Мандельштаму послышалось в его речи критическое замечание в адрес Маяковского, он выбежал на подмостки и громко крикнул в зал, что Маяковский – «точильный камень русской поэзии» [289]289
См.: Липкин С. Квадрига. Повесть. Мемуары. С. 395.
[Закрыть]. Эта похвала – последнее слово Мандельштама, критически отзывавшегося о Маяковском в статьях 1922–1923 годов и ошеломленного «океанической вестью» (III, 381) о его самоубийстве в апреле 1930 года. В этот раз Мандельштам читал и ранние свои стихотворения периода «Камня»; после незатихающих аплодисментов ему вновь и вновь приходилось читать на бис.
Во время другого выступления, 2 марта 1933 года в ленинградском Доме печати, ему задали провокационный вопрос: по-прежнему ли он тот самый Мандельштам, который был акмеистом? Немного подумав, Мандельштам ответил: «Я тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей, соратником своих соратников, современником Ахматовой». Это было молчаливое – и опасное – признание своим соратником Николая Гумилева, расстрелянного уже в 1921 году. Солидарность с осужденными не слишком поощрялась в то время. Павел Флоренский, богослов и ученый-энциклопедист, чей первый арест в мае 1928 года глубоко потряс Мандельштама, был вновь арестован 26 февраля 1933 года и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых работ. (В декабре 1937 года его расстреляют на Соловках.)

«…Тот самый Мандельштам, который был, есть и будет […] современником Ахматовой»
Анна Ахматова и Осин Мандельштам (1934)
3 апреля 1933 года был в первый раз арестован друг Мандельштама Борис Кузин; причина – неосторожные высказывания. Независимые политические и научные взгляды Кузина, за которые его так ценил Мандельштам, еще не раз обернутся для него разного рода неприятностями. Мандельштам отчаянно пытается помочь Кузину. 5 апреля он пишет письмо Мариэтте Шагинян – советской писательнице, автору «производственных романов» и члену партии с влиятельными связями. Мандельштам встречался с ней в Армении, куда она приезжала «в командировку» – писать хвалебные статьи про пятилетний план. Мандельштам отправил ей «Путешествие в Армению» и подробное письмо в защиту Кузина, которое, впрочем, содержит интонации, не слишком приятные для официального уха. Еще в Армении Шагинян предъявила своему ненадежному товарищу по литературной работе ряд претензий. «Вы всегда бранили меня за то, – пишет ей Мандельштам, – что я не слышу музыки материализма или диалектики, или все равно как называется». Вместе с Кузиным, пишет далее Мандельштам, они «раздирали идеалистические системы на тончайшие материальные волоконца и вместе смеялись над наивными, грубо-идеалистическими пузырями вульгарного материализма». В том же письме – свидетельство Мандельштама о том, какое значение приобрел для него этот человек: «Ему, и только ему, я обязан тем, что внес в литературу период т[ак] н[азываемого] “зрелого Мандельштама”. […] У меня отняли моего собеседника, мое второе “я”» (IV, 149–150).
Кузина освободили, продержав неделю на Лубянке. Осип и Надежда Мандельштамы как раз отправлялись в Крым; недолго думая, они взяли Кузина с собой. 18 апреля 1933 года они прибыли в Старый Крым – город татарских ханов в юго-восточном Крыму, и нашли приют у Нины Грин, вдовы писателя Александра Грина. Новая встреча с Крымом ошеломила Мандельштама. Всюду бросались в глаза последствия коллективизации (проводившейся в рамках первого пятилетнего плана). 1 февраля 1930 года Сталин провозгласил «ликвидацию кулачества как класса», что повлекло за собой катастрофическое обнищание крестьян на Украине, Дону и Кубани. Раскулачивание коснулось не только зажиточных крестьян, которых либо расстреливали на месте как «контрреволюционеров», либо подвергали конфискации их имущество, а самих отправляли в Сибирь. Но и крестьяне среднего достатка, и даже бедняки были захвачены этой волной репрессий – их уничтожали, чтобы получить «установочные цифры». Оставшихся в живых загоняли в колхоз «оружием голода». Расстрелы, депортация людей и попытки взять их измором – одиннадцать миллионов человек оказались жертвами этой политики. По словам историка Гюнтера Штёкля, это была «величайшая гуманитарная катастрофа, которую когда-либо обрушивало какое-либо правительство на собственный народ» [290]290
Stökl G. Russische Geschichte. S. 718.
[Закрыть]. Все карательные акции осуществляло ГПУ, усиленное спецотрядами, которые расстреливали людей, «рабочими бригадами», вооруженным городским отребьем. Это был планомерно организованный хаос. 2 марта 1930 года появилась известная статья Сталина в «Правде» – «Головокружение от успехов». Сельское хозяйство оказалось разоренным. Массовая гибель крестьян привела к тому, что в течение последующих десятилетий Советский Союз не мог обеспечить себя продовольствием.
Старый Крым также был наводнен голодными крестьянами; они блуждали по улицам, выпрашивая кусок хлеба, или взламывали дома, надеясь раздобыть себе хоть какую-нибудь пищу. Мандельштамам пришлось еще в Москве запастись едой на месяц вперед, ибо в Старом Крыму есть было нечего. Потрясенный зрелищем голода в Крыму, Мандельштам пишет в мае 1933 года одно из своих острейших политических стихотворений: «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым. / Как был при Врангеле […] Природа своего не узнает лица, / И тени страшные Украйны и Кубани…» (III, 73). В мае 1934 года, когда Мандельштам окажется под следствием на Лубянке, это стихотворение будет фигурировать в его деле. Слова «как был при Врангеле», означавшие «так же, как и в гражданскую войну», звучали суровым приговором сталинскому «оружию голода», злодейски направленному против крестьян.
Парадоксы биографии поэта: в Старом Крыму внимание Мандельштама приковано не только к страшным последствиям убийственной политики коллективизации, провозглашенной Сталиным, но одновременно и к итальянским поэтам Возрождения – Ариосто и Тассо. Но поэтическое не всегда можно оторвать от политического. В стихотворении «Ариост», посвященном автору «Неистового Роланда» (1505–1521), бичуется и современная фашистская Италия Муссолини: «В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна, как руки брадобрея» (III, 71). Конечно, за словами об «отвратительной» власти скрывается не только Муссолини.
Изучение итальянского языка и поэтов Возрождения было не простым увлечением, а отчаянной попыткой прорыва к мировой поэзии. Очарованный Мандельштам терзался чувством вины. Лишенный общения с современным читателем, подвергнутый общественной изоляции, он искал разговора с поэтами Средневековья и Возрождения. В мрачном провидческом стихотворении, возникшем все в том же мае 1933 года («Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…»), он упоминает про беззаконный восторг, за который «изменническим губам» уготована «лихая плата»: уксусная губка (III, 73). Намек на сцену распятия – еще одно предсказание собственного конца.
Для него, «неисправимого звуколюба», кажется, уже нет спасения. Он упорно предсказывает свою «неисправимость», как и свою неотвратимую казнь. Тяга к созвучиям чужого языка, тоска по европейской и мировой культуре были глубоко заложены в фундамент его творчества и нераздельно с ним слиты. Концовка стихотворения «Ариост» свидетельствует о том, что Мандельштам продолжал ощущать себя европейцем. Перед лицом нынешнего европейского «холода» он грезит об утопической Европе братского единения – Европе поэтов, в которой и Ариосто, поэт итальянского Возрождения, и современный русский поэт Мандельштам найдут свое место и зазвучат в лад в едином средиземноморском и черноморском пространстве:
Любезный Ариост, быть может, век пройдет
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
…И мы бывали там. И мы там пили мед… (III, 71).

«…Человека приветствовали за то, что он еще не труп»
Осип Мандельштам весной 1933 года
Пропасть между поэзией Мандельштама и советской литературой давно уже стала непреодолимой. Насколько глубока была эта пропасть, выяснилось именно в мае 1933 года, когда в ленинградском журнале «Звезда» появилось «Путешествие в Армению» – его последняя прижизненная публикация. Цезарь Вольпе, завотделом журнала, сразу же лишился своей должности: вопреки цензурному запрету он напечатал и пересказ древнеармянской легенды, в которой Мандельштам метафорически изобразил современную политическую ситуацию: Сталин – ассириец, Бухарин – образованный евнух, а сам он – низверженный царь-поэт [291]291
См. об этом: Мандельштам Н.Воспоминания. С. 375.
[Закрыть].
Разразился громкий скандал. В «Литературной газете» от 17 июня и «Правде» от 30 августа 1933 года Мандельштам подвергается уничтожающим нападкам. Оказывается, вместо того чтобы славить «достижения социализма», механизацию и коллективизацию, Мандельштам тянется к той изначальной и непреходящей Армении, что сохранила верность самой себе. Не Армения, занятая «социалистическим строительством», увлекает поэта, а библейская, вечная, неизменно сущая. Очевидная провокация.

«…Дивная геологическая случайность, именуемая Коктебелем»
На лестнице дома Волошина в Коктебеле летом 1933 года: Мандельштам – во втором ряду справа; Андрей Белый – в последнем ряду (в тюбетейке)
Пока Мандельштам находился в голодающем Старом Крыму, в Москве уже грозно сгущались тучи. 28 мая 1933 года он переезжает из Старого Крыма в Коктебель, в дом Максимилиана Волошина, знакомый Мандельштаму по его давнему пребыванию в Крыму летом 1915 и 1916 годов, – приют для художников, превращенный после смерти Волошина в государственный Дом творчества писателей. Конфликт с Волошиным, история с пропавшим изданием Данте в смутную пору гражданской войны – все было забыто. Мандельштам поднялся к могиле Волошина, погребенного высоко над Коктебельской бухтой, и записал в свой блокнот последнее хвалебное слово поэту, «почетному смотрителю дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем», где он «вел ударную дантовскую работу по слиянию с ландшафтом» (III, 411).
Имя Данте появляется здесь не случайно. еще в Старом Крыму Мандельштам начал работу, которая станет его важнейшей поэтологической декларацией: «Разговор о Данте». В долгих прогулках по берегу Черного моря, на усеянном галькой коктебельском пляже он набрасывает свой «Разговор» и неожиданно находит себе первого собеседника. Им оказался бывший символист Андрей Белый, который отдыхал в Коктебеле одновременно с Мандельштамом (июнь – июль 1933 года) и писал там книгу «Мастерство Гоголя». Сохранилась групповая фотография, на которой изображены Мандельштам и Андрей Белый; они сидят – вместе с другими отдыхающими – на лестнице коктебельского дома. Каждый из них – как-то «выпадает из ряда»; у каждого перед мысленным взором – свой «фотограф»: свой Гоголь, свой Данте. Но при этом и старые раздоры, которые следовало устранить.








