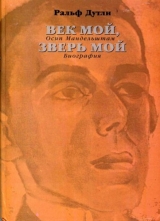
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
При обыске присутствовала высоко значимая свидетельница. Как раз накануне Ахматова приехала из Ленинграда в Москву. Об этом ее настоятельно просил Мандельштам после того, как дал пощечину Алексею Толстому. Она тоже оставила воспоминания о том ночном призрачном действе. В семь часов утра Мандельштама увезли на Лубянку – в штаб-квартиру ОГПУ; подозрительные рукописи изъяли. Надя приготовила чемоданчик с бельем и книгами, среди которых был и «Ад» Данте (но брать книги в камеру не разрешалось). Приказ об аресте был подписан не Ягодой, как показалось Надежде Мандельштам, а его заместителем Аграновым; их подписи были похожи. На другое утро сотрудники ОГПУ снова явились в Нащокинский переулок. Но антисталинского стихотворения так и не удалось обнаружить.
Мандельштама поместили в так называемую «внутреннюю тюрьму», расположенную во дворе Лубянки. 18 мая 1934 года его впервые вызвали на допрос к следователю Шиварову, которого Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях именует по отчеству – «Христофорович». Допрос длился всю ночь. Протоколы допросов были впервые обнародованы в 1991 году, в горбачевскую эпоху, когда на короткое время приоткрылись архивы КГБ. Писателю Виталию Шенталинскому удалось ознакомиться с делом Мандельштама (№ 4108) и опубликовать из него ряд материалов.
Шиваров потребовал, чтобы Мандельштам произнес вслух те стихи, которые, по мнению поэта, могли стать причиной его ареста. Мандельштам прочитал две строфы из стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…» и одну строфу из стихотворения, содержащего проклятие московскому «жилью». Шиваров записывает, а затем, как козырь, извлекает из папки антисталинское стихотворение в его первоначальном и наиболее опасном варианте – со словами «душегубец» и «мужикоборец». Какой-то доносчик из окружения Мандельштама (кто именно – до сих пор не выяснилось) потрудился на славу! Мандельштам не отрицает своего авторства. Ему приходится собственноручно записать все стихотворение и поставить под ним свою подпись. Надежда Мандельштам позднее напишет: «Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе О. М. в роли конспиратора совершенно невозможно – это был открытый человек, неспособный ни на какие хитроумные ходы» [316]316
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 41.
[Закрыть]. Дознаватель назвал мандельштамовское стихотворение «беспрецедентным контрреволюционным документом» [317]317
Там же. С. 40.
[Закрыть]. Воистину беспрецедентно. По словам Шенталинского, это было «более, чем стихотворение»: «поступок, отчаянный по смелости, акт гражданского мужества» [318]318
Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… С. 228.
[Закрыть]; история литературы не знает ничего подобного. Не существует ни одного антисталинского стихотворения, столь уничтожающего по своей силе. До сих пор не известно, знал ли сам Сталин текст этого стихотворения. Кто из подчиненных отважился бы показать мстительному тирану этот документ – «террористический», как сказал следователь?
Шиваров перечислил Мандельштаму имена его посетителей в Нащокинском переулке – следователь получил их от доносчика. Дознаватель пытается внушить поэту, будто некоторые из них уже арестованы и дают против него показания. Он требует, чтобы Мандельштам назвал тех, кому он читал свое стихотворение. Мандельштам сперва называет восемь человек, среди них – Ахматову и ее сына Леву, однако не говорит о тех, кто слышал его стихотворение за пределами квартиры (например, Пастернак!). Поверив на какой-то момент, что запись, которой с самого начала располагал Шиваров, сделана рукой Марии Петровых, он, сперва умолчав о ней, называет ее имя на следующем допросе, утром 19 мая. Она была единственным человеком, записавшим это стихотворение в Нащокинском переулке – правда, с обещанием уничтожить запись. Но эта женщина, которая до конца жизни пользовалась доверием Анны Ахматовой, осталась вне всяких подозрений. Такой она должна остаться и на страницах этой книги.
Екатерина Петровых утверждает в своих воспоминаниях, что Мандельштам, давая показания следователю, намеренно оговаривал ее сестру: отвергнутый влюбленный был, по ее словам, одержим бредовой надеждой, что Марию отправят вместе с ним в ссылку [319]319
Осип и Надежда Мандельштамы в воспоминаниях современников. С. 162–167.
[Закрыть]. Однако в протоколах допроса, опубликованных В. Шенталинским и Э. Поляновским, нет ничего, что подтверждало бы подобное подозрение. Оно кажется нелепым еще и потому, что Мандельштам вовсе не думал тогда о ссылке, а боялся лишь одного: смертной казни. Видимо, слухи о том смятенном состоянии, в котором пребывал Мандельштам на Лубянке, породили и в сознании его современников целый ряд нелепых догадок.
Оказавшись в лапах ОГПУ, Мандельштам вел себя совсем не по-геройски. Он тяжело переносил сам факт заточения. Можно вспомнить о том эпизоде периода гражданской войны в Крыму, когда арестованный в августе 1920 года врангелевской контрразведкой Мандельштам стучал в дверь камеры и кричал: «Вы должны меня выпустить – я не создан для тюрьмы!» Кто искренне думает, что Мандельштаму следовало на допросах хранить героическое молчание, тот вовсе не представляет себе насыщенной ужасом атмосферы Лубянки. Страх перед пытками, которые поручались в ОГПУ специально подготовленным, известным своей жестокостью сотрудникам, был, конечно, велик. И хотя систематические пытки стали применяться на Лубянке лишь с 1937 года, в распоряжении тайной полиции имелись хорошо проверенные средства для того, чтобы сломить заключенного. Ночные допросы, постоянное яркое освещение, при котором невозможно заснуть, пересоленная пища без капли воды – все это Мандельштаму пришлось испытать на себе. Однажды на него надели даже смирительную рубаху – вещь, которой он прежде никогда не видел. В заключении у него стал прогрессировать реактивный психоз, осложненный галлюцинациями. Надежда Мандельштам пишет, что ему слышались голоса и женский плач за стеной его камеры. Он решил, что его жену тоже арестовали и подвергают истязаниям. Возможно, эти голоса представляли собой звукозапись, которую проигрывали для психического воздействия.
На Лубянке Мандельштам пытался покончить с собой, вскрыл себе вены на запястье. Он сделал это лезвием бритвы, которое с этой целью – в предвидении возможных пыток – заранее запрятал в каблук своей туфли. Уже в «Четвертой прозе» (1929–1930) он многозначительно описывает этот инструмент смерти:
«Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. […] Пластиночка бритвы жиллет – изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков» (III, 172).
Попытка самоубийства не удалась: ее пресекли надзиратели. Однако, несмотря на признаки психического расстройства, Мандельштама и в заключении не покидала ясность ума – это доказывают его вопросы к сокамернику, которого ОГПУ подсадило к нему, чтобы его запугать и сделать управляемым. «Отчего у вас чистые ногти? – спрашивал Мандельштам. – Почему от вас пахнет луком, когда вы возвращаетесь с допроса?» Типично мандельштамовские вопросы. Сокамерника пришлось удалить; Мандельштам остается в одиночке [320]320
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 88, 94.
[Закрыть].
Один из эпизодов того времени свидетельствует об извращенном сотрудничестве писателей с тайной полицией. Петр Павленко, приспособленец, автор произведений в духе «социалистического реализма» и ярый апологет Сталина, распространял по Москве – в подтверждение того, сколь жалко выглядит Мандельштам на допросах, – разного рода подробности: дескать, Мандельштам несет чепуху, у него все время сползают брюки и т. п. Откуда он мог это знать? Вероятно, Павленко получил задание: распускать слухи, дабы выставить Мандельштама в смешном виде и тем самым лишить его ореола трагической жертвы. Шиваров, приятель Павленко, приводил его в свой кабинет и прятал не то за дверью, не то в шкафу, позволяя ему тайно присутствовать на допросах. Во всяком случае, Мандельштам был убежден, что видел Павленко в коридорах Лубянки. Он рассказывал Эмме Герштейн: «Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился… вдруг слышу над собой голос: “Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?” Я поднял голову. Это был Павленко» [321]321
Герштейн Э.Мемуары. С. 65. О Павленко – сообщнике H. X. Шиварова см. также: Мандельштам Н.Воспоминания. С. 100–101.
[Закрыть]. В биографии поэта будет еще одна дата – март 1938 года, когда этот пособник тайной полиции, подвизающийся на литературной ниве, вновь сыграет свою жуткую роль.
25 мая – по прошествии семи суток – Мандельштаму в ходе допроса предложено изложить свою политическую биографию.
По поводу 1917 года он заявляет: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно». По его словам, «политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата», началась уже в конце 1918 года. О 1927 годе: «…Не слишком глубокие, но достаточно горячие симпатии к троцкизму…» 1930 год: «…В моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса». Шиваров возвращается к главному преступлению – «контрреволюционному пасквилю против вождя Коммунистической партии и Советской страны». Он просит Мандельштама описать реакцию людей, которым он читал свой «пасквиль». Поэт признает, что «плакатная выразительность» стихотворения сделала его «широко применимым орудием контрреволюционной борьбы» [322]322
См: Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… С. 233–237.
[Закрыть]. Одного такого признания достаточно для десяти расстрелов!
Тем временем близкие Мандельштама не бездействовали. Надежда Яковлевна поставила в известность Бухарина, которому Мандельштам был многим обязан: изданием своих книг, поездкой в Армению и содействием в получении квартиры. Поначалу Бухарин проявляет осторожность («Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?»), но затем все же вступается за Мандельштама – в последний раз. В разговоре с Бухариным Надежда Яковлевна умолчала об антисталинском стихотворении, и эта тактическая ложь продлила жизнь Мандельштама на четыре года. Сразу же после ареста Ахматова встретилась с Пастернаком, который, со своей стороны, попросил Бухарина сделать для Мандельштама все, что только возможно. Сама же она отправилась к грузинскому партийному руководителю и члену ЦК Авелю Енукидзе, близкому соратнику Сталина. Совместные усилия в защиту Мандельштама не остались, похоже, безрезультатными.
26 мая 1934 года – во исполнение инструкции «сверху»: «Изолировать, но сохранить» – Мандельштаму был вынесен приговор: три года ссылки в Чердынь (Пермской области). Учитывая тяжесть проступка, приговор оказался исключительно мягким, и его следовало воспринимать как особую милость. За вопиюще «террористический документ» Мандельштама могли попросту расстрелять. Определенно, он сам рассчитывал именно на такой исход. Или же его могли отправить на Беломоро-Балтийский канал, который именно в эти годы строила армия заключенных, изнуренных и гибнущих от непосильного рабского труда. И еще одна милость, еще одно чудо: Надежде Мандельштам разрешалось – в силу психической неустойчивости ее мужа – сопровождать его в ссылку. 27 мая ее вызывают на Лубянку; здесь впервые после ареста она встречается с мужем; у него – перевязанные запястья. Ей сообщают, что на заключительный вопрос: «Ваше отношение к советской власти?» – он якобы ответил: «Готов работать со всеми органами советской власти, за исключением Чека». Эти слова он произнес в лицо не кому-нибудь, а следователю-чекисту.
В этой истории довольно много необычного. Не случайно Надежда Мандельштам употребляет слово «чудо». Никого из людей, названных Мандельштамом на допросе, не арестовали, тем более не расстреляли. Никаких новых арестов по этому делу не последовало. Все эти факты свидетельствуют об одном: приближенные Сталина не доложили ему о мандельштамовском стихотворении. Ибо мстительный «широкогрудый осетин», с тараканьими глазищами и толстыми пальцами, окруженный сбродом «тонкошеих полулюдей», наверняка добрался бы до каждого, кто слушал эти разоблачительные стихи. Мария Петровых до конца своей жизни пребывала в убеждении, что Сталин их не знал. Правда, 27 октября 1935 года был арестован Лев Гумилев – один из тех, кому Мандельштам читал свое стихотворение, однако это произошло на волне массовых арестов после убийства Кирова. Сын расстрелянного в 1921 году «контрреволюционера» Николая Гумилева, он будет впоследствии еще не раз арестован и отправлен в лагерь – ответчиком и за Анну Ахматову, свою мать.
О причинах мягкости приговора, вынесенного Мандельштаму в 1934 году, можно лишь строить домыслы (собственно, «мягким» он казался лишь поначалу). Арест Мандельштама совпадает по времени с подготовкой Первого съезда советских писателей, проходившего в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года и призванного – в пропагандистских целях – продемонстрировать единство партии и интеллигенции. На фоне нацистской Германии, где сжигались книги, советская власть стремилась показать себя миру оплотом культуры и гуманности – точно так же, как и на антифашистском Конгрессе в защиту культуры, который будет организован в Париже на следующий год, с 21 по 25 июня. Расстрелянный за политические стихи, Мандельштам плохо «вписался» бы в эти пропагандистские акции. Да и в качестве самоубийцы – после громких самоубийств Есенина и Маяковского в 1925 и 1930 годах – он мог нанести ущерб репутации советского режима, все еще стремившегося к легитимизации. Итак, свершившееся чудо было мнимым, ибо принесло пользу самой власти. Чудо оказалось отсрочкой.

«Потому что не волк я по крови своей»
Мандельштам на Лубянке после первого ареста в мае 1934 года
29 мая 1934 года на Казанском вокзале Мандельштамы простились со своими родственниками: Евгением Хазиным, братом Надежды, и Александром, братом Осипа Эмильевича. Среди знакомых в Нащокинском переулке Анна Ахматова собрала немного денег для ссыльных; Елена Булгакова, жена автора «Мастера и Маргариты» (и прообраз Маргариты в этом романе) расплакалась и отдала все деньги, что были у нее в сумочке. Конвой состоял из трех вооруженных сотрудников ОГПУ. Путь в ссылку продолжался пять дней – с 29 мая по 3 июня 1934 года. Сперва ехали поездом до Свердловска (ныне снова Екатеринбург), затем по узкоколейке до Соликамска и оттуда – пароходом по реке Каме – до райцентра Чердынь, захолустного городка на Урале в Пермской области. В течение всего пути Мандельштам находится в тяжелом психическом состоянии: страдает галлюцинациями, боится, что его расстреляют. Один из конвоиров сказал Надежде Мандельштам: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают». Он думал, что за стихи расстреливают только в буржуазных странах [323]323
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 62.
[Закрыть].
В относительно спокойные минуты Надежда Яковлевна читает вслух Пушкина – с собой в дорогу она взяла томик его стихов. В вагоне звучит поэма «Цыгане» (в ней старый цыган вспоминает об изгнаннике Овидии!); ее слушают и конвоиры. 1 июня 1934 года на людном свердловском вокзале, где ссыльным несколько часов пришлось ждать состава на Соликамск, у Мандельштама сложилось короткое стихотворение про портного, горькое и, на первый взгляд, наивное:
Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? – портновской следуя манере,
С себя он мерку снял
И до сих нор живой (III, 155).
Юридический термин «высшая мера», означающий смертную казнь, стал в эпоху сталинизма тридцатых годов одной из повседневных примет мрачной действительности. Однако это стихотворение – попытка заклясть угрозу «высшей меры» магией языка: «И до сих пор живой!»
В пятидневном путешествии, тяжело сказавшемся на психике Мандельштама, был и момент прозрения, которое воплотится лишь год спустя в стихотворениях «Воронежских тетрадей», вобравших в себя кошмарные образы тех дней. Особенно глубоко врезалась в память Мандельштама поездка пароходом по Каме. Вот несколько строк из стихотворения-диптиха «Кама» (1935):
Так я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.
А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла (III, 93).
Ссыльным воспрещалось смотреть в окно на окружающую природу. В поездах и на пароходах оконные занавески были всегда задернуты. И все же стихотворение «Кама» озарено, как вспышками, некоторыми деталями. Так, ель, горящая на берегу реки, передает лихорадочный жар, пытающий в мозгу измученного поэта. Но самое полновесное эхо – отзвук бессонного пути в ссылку – протяжно раскатилось по длинным анапестическим строкам стихотворения, написанного в Воронеже между апрелем и июнем 1935 года. В нем, подобно галлюцинациям, возникают, то зачаровывая, то ужасая, бесконечные леса и бескрайний простор «растущего на дрожжах» российского пространства:
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, – слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо (III, 92 93).
Начиная с пушкинского стихотворения «К морю» (1824), в котором оно уподоблено «свободной стихии», море стало символом свободы. Готовность осужденного и сосланного поэта Мандельштама довольствоваться одним лишь «вершком», говорит о том, насколько ему не хватало «свободной стихии».
Мандельштама доставили, однако, не к берегу желанного моря, а в край бесконечных лесов, холодов и болот. Чердынь представляла собой уральскую глухомань, большую часть года покрытую снегом и скованную льдом; летом же над болотами здесь роятся полчища комаров. Это было далекое русское захолустье, с вязкими размытыми дорогами, лишенное и проблесков культурной жизни, безо всяких надежд на перемены – в девятнадцатом веке его мог бы описать Чехов. Едва Мандельштам прибыл к месту назначения, его тут же, после регистрации в комендатуре ОГПУ, поселили в бывшей земской больнице. Но ему не довелось, подобно Ивану Громову из знаменитой чеховской повести «Палата № 6», встретить там понимающего врача. В Чердыни был лишь один районный врач – женщина, строго соблюдавшая служебные предписания.
Психическое заболевание не отпускает Мандельштама: ему слышатся грубые мужские голоса, которые запугивают его и упрекают в содеянном. Ему кажется, что Ахматову расстреляли и он должен найти ее тело в овраге. В череде безумных видений ему мерещится и его собственный расстрел, который должен состояться «в шесть часов вечера». Желая обмануть своего мужа, Надежда Мандельштам вновь и вновь переводит стрелки стенных часов. В конце концов, он приходит к мысли, что ему остается лишь единственный выход: самоубийство. Он еще раз пытается покончить с собой: в ночь с 3 на 4 июня 1934 года бросается из окна второго этажа местной больницы и падает на вскопанную грядку, вывихнув себе правое плечо и сломав плечевую кость. Но этот безумный прыжок в никуда приводит его в чувство. Миг возвращения к ясности описан в седьмом стихотворении воронежских «Стансов» (май июнь 1935 года):
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки
Как петушок в прозрачной летней тьме
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме (III, 336).
Опасаясь, что Мандельштама поместят в пермскую психиатрическую клинику и тем самым окончательно погубят, Надежда Яковлевна, не медля, начинает хлопотать. Она обращается к Пастернаку и Ахматовой, просит их вмешаться; остаток денег уходит на телеграммы: Бухарину и даже в ЦК Коммунистической партии. Бухарин пишет Сталину знаменитое письмо с примечательной фразой: «Поэты всегда правы; история за них». И добавляет: «И Пастернак тоже волнуется» [324]324
Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… С. 239.
[Закрыть].
Советские правители вовсе не желали – за несколько недель до открытия писательского съезда – запятнать себя самоубийством еще одного поэта. Еще стояли, если воспользоваться выражением Анны Ахматовой, «вегетарианские времена»: неукротимая слепая воля Сталина к уничтожению людей начнет проявляться лишь с 1936 года – с началом эпохи «чисток». 12 июня по указанию «сверху» приговор был пересмотрен. 13 июня состоялся известный телефонный разговор Сталина с Пастернаком, чье мнение о Мандельштаме вождю хотелось услышать. «Он ведь мастер, не правда ли?» – спросил Сталин. Пастернак уклонился от ответа, сказав, что желает поговорить со Сталиным «о жизни и смерти». Сталин повесил трубку [325]325
О телефонном разговоре Пастернака со Сталиным см.: Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. С. 75–82.
[Закрыть]. В милосердии, проявленном Сталиным к Мандельштаму после первого его ареста в 1934 году, есть оттенок коварства, который свидетельствует: Сталин ясно понимал, что будущая его слава в значительной степени зависит от поэтов. Возможно, он рассчитывал и на то, что сумеет заставить гениального поэта Мандельштама написать оду, восхваляющую его как вождя? В то же время телефонный звонок Сталина к Пастернаку доказывает, что великий вождь не знал разоблачительной мандельштамовской эпиграммы. Вероятно, клевреты убедили его в другом: дескать, строптивый Мандельштам арестован из-за пощечины, которую он дал Алексею Толстому. Пощечину, нанесенную ему лично, диктатор не простил бы ни одному человеку.
14 июня в Чердынь приходит официальная телеграмма, подтверждающая пересмотр приговора. Мандельштам получает право выбора места своей ссылки по формуле «минус двенадцать», воспрещающей проживание в Москве, Ленинграде и еще десяти крупнейших городах Советского Союза.
Явившись 15 июня в чердынское ОГПУ к коменданту, Мандельштам сообщил, что выбрал Воронеж (город в среднерусской черноземной полосе, в шестистах километрах к югу от Москвы). Один из его знакомых, ботаник Николай Леонов, отец которого служил в Воронеже тюремным врачом, однажды в разговоре похвалил ему этот город. Там можно было найти сносное медицинское обслуживание, а кроме того – в отличие от чердынской глухомани – какую-то, пусть и провинциальную, культурную жизнь. Своей жене Мандельштам сказал: «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач» [326]326
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 112.
[Закрыть].
16 июня 1934 года Мандельштамы возвращаются – через Пермь и Казань – обратно в Москву; им снова приходится пережить «день о пяти головах», в этот раз – с надеждой на то, что их положение улучшится. Еще в феврале 1937 года Мандельштам вспомнит об этом возвращении в жизнь, а также – о гигантских портретах Сталина на каждом углу. Двусмысленный образ «благодетеля», которому Мандельштам был обязан отсрочкой губительного приговора, появляется в одном из его стихотворений:
Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба (III, 117).
В Москве Надежда Яковлевна снова пытается попасть на прием к Бухарину, однако тот отказывается ее принять. Ягода, начальник ОГПУ, успел за это время ознакомить его с антисталинским стихотворением, так что Бухарин испугался и отказался поддерживать Мандельштама [327]327
Там же. С. 30.
[Закрыть]. Из политических соображений он не мог позволить себе продолжать общение с этим поэтом. После короткого, двух-трехдневного пребывания в столице Мандельштамы вновь садятся в поезд, однако теперь они едут в самом желанном для Мандельштама направлении – на юг. Около 25 июня 1934 года они прибывают в Воронеж. Их ожидало то, что спустя десятилетия Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях еще раз назовет «чудом».








