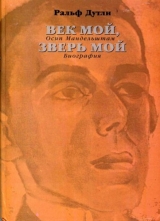
Текст книги "Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография"
Автор книги: Ральф Дутли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Ни о ком из поэтов символистского поколения Мандельштам не отзывался в своих статьях 1922–1923 годов столь полемически, как об Андрее Белом, самом преданном русском ученике антропософа Рудольфа Штейнера. Он высмеивал его, называл «дамой», просиявшей «нестерпимым блеском мирового шарлатанства – теософией» (II, 237), «болезненным и отрицательным явлением в жизни русского языка» (I, 221). Белый оказался наилучшей мишенью для Мандельштама в его полемике с «буддизмом» и «теософией» – неприятие восточного «тайноведения» коренилось у Мандельштама в его эллинско-иудейско-христианском мировосприятии [292]292
О полемических выпадах против теософии и буддизма см. главку «Антибуддист» в послесловии к кн.: Mandelstam O.Gespräch über Dante. Ciesammelte Essays II. 1925–1935. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Ralph Dutli. Zürich, 1991. S. 290–293.
[Закрыть]. На протяжении всей своей жизни Белый был чрезвычайно любознателен, глубоко восприимчив ко всему оккультному и иррациональному, тайнам Востока, индуистскому и буддистскому вероучению. Тем не менее, сокрушительно критикуя книгу Белого «Записки чудака» (1923), подвергая ее прямо-таки разносу, Мандельштам не позволяет себе издевательского тона в отношении автора эпохального романа «Петербург» (1912, 1916). «А над Белым смеяться не хочется и грех: он написал “Петербург”. Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого» (II, 322) [293]293
Об отношении Мандельштама к Андрею Белому см. подробнее: Dutli R.Europas zarte Hände. Essays über Ossip Mandelstam. S. 61–80.
[Закрыть].

«Ни у одного из русских писателей предреволюционная тревога и сильнейшее смятение не сказались так сильно, как у Белого»
Андрей Белый (1929)
Теперь наступила другая пора. После партийного постановления 1932 года, которое унифицировало советскую литературу, двум крупным русским поэтам уже незачем было спорить друг с другом, отстаивая свои мелкие разногласия; оставалась лишь духовная жизнь – свободный разговор о поэзии, культуре, Европе. Белый, один из последних представителей Серебряного века русской литературы, выразитель высококультурной, давно минувшей и ныне запрещенной эпохи, оказался для Мандельштама ценнейшим собеседником в те чуждые духовности времена, когда страной правил «ассириец» Сталин.
Надежда Мандельштам рассказывает, что оба поэта, сидевшие в коктебельском писательском доме за одним столом, прекрасно понимали друг друга, тогда как жена Белого, Клавдия Бугаева, противилась их позднему сближению [294]294
См.: Мандельштам H.Воспоминания. C. 182–183.
[Закрыть]. Тем не менее, именно Белый стал первым, кто обсуждал с Мандельштамом «Разговор о Данте», написанный летом 1933 года. Этот «Разговор» – в высшей степени оригинальная попытка осмыслить творчество итальянского поэта XIII–XIV века, заглянуть в его словесную лабораторию и одновременно – постигнуть динамическую суть поэтического искусства, к которой Мандельштам приближается, используя новые и все более смелые метафоры.
Но его эссе имеет и политическую окраску. В то время как партийное постановление от апреля 1932 года обрекло советскую литературу на застой и неподвижность, Мандельштам пытается говорить о ходе и движении, пути и мышлении. «У Данта, – пишет он, – философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах» (III, 220). еще в 1923 году в статье «Огюст Барбье (Поэт Парижской революции 1830 г.)» Мандельштам заметил, что «Божественная комедия» была для своего времени «величайшим политическим памфлетом» (II, 304). Не случайно в свой антисталинский памфлет «Четвертая проза» (1929–1930) Мандельштам ввел начальный стих дантовского «Ада» («Nel mezzo del cammin di nostra vita…» [295]295
На середине жизненного пути ( итал.).
[Закрыть]) – этими словами он обозначил свое собственное вступление в сталинский ад тридцатых годов.
Когда в седьмой главе «Разговора» Мандельштам подробно передает рассказ Уголино (33-я песнь «Ада») о пизанском архиепископе Руджери, морившем голодом его с тремя сыновьями в тюремной башне, нет сомнений: поэт говорит и о переполненных тюрьмах современной эпохи, ее «аппарате устрашения» и той «удивительной беспечности», с какой людей бросают в застенок. Кроме того, работа над Данте – при том, что основная задача была поэтологической, – приобщила Мандельштама к судьбе изгнанника. Не пройдет и года, как автор «Разговора о Данте» будет сам арестован и выслан из города – подобно Данте, изгнанному в 1302 году из Флоренции.
«Разговор о Данте» не был опубликован при жизни Мандельштама (впервые он появился в 1966 году в американском двухтомном «Собрании сочинений», затем, в 1967 году, – отдельным изданием в Москве). Когда Мандельштам возвращается из Крыма в Москву, на него обрушивается убийственная критика его армянских очерков – статья в «Правде» от 30 августа 1933 года. Резко отрицательной была уже рецензия в «Литературной газете», напечатанная 17 июня 1933 года; однако «Правда» высказалась еще более резко. «Бедность мысли», «анемичная декламация», «старый, прелый великодержавный шовинизм» – вот что, дескать, определяет эту прозу, воспевающую лишь экзотику и «рабское прошлое» Армении. Мандельштам, говорилось в этой статье, «прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении» [296]296
Розенталь С.Тени старого Петербурга. («Звезда», №№ 1–7 за 1933 год) // Правда. 1933. № 239. 30 августа. С. 4.
[Закрыть]. «Правда» припомнила Мандельштаму и его колкости в адрес пролетарских писателей, например, Безыменского, видного рапповского деятеля, который осмеивался в «Путешествии…» как «силач, подымающий картонные гири […], продавец птиц, – и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа» (III, 197). Беспримерная дерзость в отношении священной пролетарской литературы!
Двойная атака в печати привела к тому, что издание «Путешествия в Армению» отдельной книгой, подготовленное Издательством писателей в Ленинграде (еще в июле Мандельштам читал корректуру), не могло состояться по политическим мотивам. Журнальная редакция «Путешествия…» в «Звезде» (май 1933 года) стала его последней прижизненной публикацией. Рухнул и поддержанный Бухариным проект двухтомника избранных сочинений Мандельштама в ГИХЛе (Государственное издательство художественной литературы): несмотря на доводы и угрозы ответственного редактора Мандельштам ни под каким предлогом не соглашался на то, чтобы исключить из состава будущей книги «Путешествие в Армению».
Армянские очерки выражали самую суть его художественного метода, а там, где дело касалось творчества, Мандельштам не мог пойти на уступки и компромиссы. Он предпочел отказаться от этого последнего в его жизни издательского проекта, тем более что аванс уже был получен.
«Разговор о Данте» был предложен редакции журнала «Звезда» и Издательству писателей в Ленинграде, но уже без малейшей надежды на успех. 3 сентября 1933 года, через четыре дня после критического выступления «Правды», Мандельштам пишет заявление в Издательство писателей в Ленинграде и просит вернуть отклоненную рукопись (IV, 155). Впрочем, этому сочинению Мандельштама, которое было для него важнее, чем какое-либо другое, не пришлось затеряться в ящике письменного стола: еще в Коктебеле он читал его Андрею Белому и Анатолию Мариенгофу, в сентябре в Ленинграде – литературоведам Виктору Жирмунскому и Юрию Тынянову, поэтам Бенедикту Лившицу и Анне Ахматовой, наконец, в Москве – Борису Пастернаку и художнику Владимиру Татлину. «Разговор о Данте» настоятельно требовал разговора с другими деятелями культуры.
Особенно ценным собеседником была для него Анна Ахматова: они вместе читали Данте. Знакомство с произведениями Данте имело для Ахматовой огромное значение, что отразилось и в ее стихах («Муза», 1924; «Данте», 1936). Видимо, акмеистам – жертвам своего инфернального времени – автор «Ада» мог сказать куда больше, чем все современники вместе. Незадолго до смерти Ахматова, отвечая на вопрос, что общего между ней, Гумилевым и Мандельштамом, написала: «Любовь к Данте» [297]297
Ахматова А.Собр. соч. в шести томах. Т. 6. Данте. Пушкинские штудии. Лермонтов. Из дневников / Сост., подг. текста, коммент., статья С. А. Коваленко. М., 2002. С. 9.
[Закрыть]. В «Листках из дневника» она вспоминает об одной из встреч с Мандельштамом в 1933 году, когда Осип «бредил Дантом, читая наизусть страницами» [298]298
Там же. Т. 5. С. 40
[Закрыть]. Мандельштам и Ахматова помнили наизусть целые отрывки по-итальянски. Однажды, вспоминает Ахматова, когда она прочитала несколько строк, Мандельштам заплакал. Она испугалась. «Нет, ничего, – сказал Мандельштам, – только эти слова и вашим голосом» [299]299
Там же. С. 41.
[Закрыть].
Итак, три начинания, три задуманные новые книги, развалились почти одновременно после политического разноса в советских газетах: «Путешествие в Армению», двухтомник избранных сочинений и «Разговор о Данте». Уксусная губка приближалась к «изменническим губам» постепенно, окольными путями. Впрочем, Мандельштам давно уже привык к тому, что его не печатают. Он выгнал одного молодого поэта, пришедшего жаловаться, что его не публикуют, со словами: «А Андре Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?» [300]300
Там же. С. 48.
[Закрыть]
20
Проклятая квартира
(Москва / Чердынь 1933–1934)
Осень 1933 года: квартира в Нащокинском переулке, 5. Обличение «гробовой» квартиры. «Не могу молчать». Эпиграмма на Сталина, «душегубца и мужикоборца». Восьмистишия после удушья: воздушная струя поэзии. Мария Петровых и «самое прекрасное любовное стихотворение XX века». 8 января 1934 года: смерть Андрея Белого. «Мой реквием» и «Я к смерти готов». Встреча с Пастернаком: «ненависть к фашизму». 21 марта: конфликт с Литературным музеем, письмо к Бонч-Бруевичу. 6 мая: пощечина Алексею Толстому. 16–17 мая 1934 года: домашний обыск, конфискация рукописей, арест. Допросы на Лубянке. Антисталинское стихотворение – «беспрецедентный контрреволюционный документ». Реактивный психоз и попытка самоубийства. 27 мая 1934 года, приговор: высылка в Чердынь на Урал. Распоряжение: «Изолировать, но сохранить». Причины мягкого приговора. 3–4 июня 1934 года: вторая попытка самоубийства в Чердыни. Письмо Бухарина Сталину: «Поэты всегда правы». 12 июня: пересмотр приговора, формула «минус двенадцать». 13 июня: телефонный звонок Сталина Пастернаку. «Он ведь мастер, не правда ли?» 25 июня 1934 года: прибытие в Воронеж.
Осенью 1933 года стало казаться, что по крайней мере в жилищном вопросе забрезжил просвет – наступил конец кочевой и бивачной жизни. После долгих, многомесячных проволочек Мандельштаму удается вселиться в дом писательского кооператива в Нащокинском переулке (район Арбата). Незадолго до этого переулок переименовали в улицу Фурманова – в честь умершего в 1926 году писателя Дмитрия Фурманова, который в годы гражданской войны служил комиссаром у легендарного партизанского вождя Чапаева и увековечил его в одноименном романе. В этом доме, надстроенном тремя этажами, Мандельштаму была предоставлена – опять-таки благодаря тактичному вмешательству Бухарина – квартира 26 на пятом этаже [301]301
См.: Видгоф Л.Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. С. 237–238.
[Закрыть]. На обустройство Мандельштаму пришлось истратить весь аванс, полученный им за несостоявшийся двухтомник своих избранных сочинений, а также все прочие деньги, какие удалось наскрести. Многие писатели, которые жили в том доме, поддерживали «линию партии»; они недоверчиво взирали на Мандельштама и выражали сомнение: правомерна ли в отношении него такая привилегия. Однако в этом же доме жил в квартире 44 (вплоть до своей смерти в 1940 году) другой сомнительный современник – Михаил Булгаков, работая над своим эпохальным романом «Мастер и Маргарита». Нет тайны в том, что в образе «мастера» Булгаков создал автопортрет, но, обозначив несчастного мастера буквой М, вдохновлялся также судьбой своего соседа по дому.
В апреле 1933 года Мандельштам идиллически пишет отцу о «прелестной миниатюрной солнечной квартирке из двух комнат на 5 этаже с газовой плитой и с ванной» (IV, 154). Роскошь обернулась халтурой: в новой квартире с самого начала требовался ремонт (дом снесли в 1976 году). Стены были тонкие и звукопроницаемые; двери обиты войлоком, который вскоре пожрала моль, постоянно порхавшая по квартире. После долгожданного вселения Мандельштам стал опасаться, что за эту «милость» высшие инстанции ждут от него уступок в творчестве. В разговоре с Анастасией Цветаевой он назвал эту квартиру «гробом» и добавил: «Отсюда лишь одна дорога: в Ваганьково» (то есть на московское Ваганьковское кладбище) [302]302
Там же. С. 248.
[Закрыть]. Когда однажды к нему заглянул Борис Пастернак, поздравил с новосельем и заметил, что теперь у него есть квартира – можно писать стихи, Мандельштам пришел в ярость и воскликнул, что для этого ему не нужна квартира [303]303
Мандельштам Н.Воспоминания. С. 176.
[Закрыть]. Этот эпизод иллюстрирует разницу между Пастернаком, далеким от приспособленчества, но все же тяготевшим к «примирению с действительностью», и его антиподом Мандельштамом, непримиримым и воинственно настроенным. В результате появилось стихотворение «Квартира тиха, как бумага…», где резко обличается новое жилье:
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть. […]
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна (III, 74–75).
Мандельштам посылает проклятие квартире всеми десятью строфами этого стихотворения – одного из самых острых его политических стихотворений, в котором разоблачаются насильственная современность и ее «палачи» и упоминаются «плаха» и «давнишнего страха струя».

Дом в Нащокинском переулке, где Мандельштам в ноябре 1933 года написал антисталинское стихотворение и другие политические тексты, оказавшиеся для него роковыми; в этом же доме жил Михаил Булгаков, автор романа «Мастер и Маргарита»
В том же ноябре 1933 года ярость Мандельштама обратилась и против верховного вождя и диктатора, которого поэт считал ответственным за все несчастья в стране. Он вспоминал о жертвах раскулачивания и голодных крестьянах, которых видел в Крыму. Вначале он написал саркастическую колыбельную для «кулацкого младенца», бичующую «колхозного бая» (III, 75). «Не могу молчать», – говорил он своей жене [304]304
Там же. С. 185.
[Закрыть]. А потом сочинил ту роковую эпиграмму на Сталина, за которую в конечном итоге и поплатился жизнью. Точнее, он создал ее в своей голове и читал вслух в узком кругу друзей и более или менее близких знакомых – впрочем, этот круг угрожающе расширялся. Он запишет ее лишь по просьбе следователя на Лубянке.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина (III, 74).
Анне Ахматовой Мандельштам сказал в то время, что стихи теперь должны быть гражданскими [305]305
Ахматова А.Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 41—42
[Закрыть]. Но пересилить самого себя он не мог: его подлинной стихией была лирическая поэзия. Одновременно с политическими и сатирическими стихами Мандельштам приступает к созданию «поэтологического» цикла восьмистиший (с ноября 1933 по январь 1934 года). Этот цикл представляет собой образное погружение в суть поэзии, в процесс ее возникновения, постижение связей между поэтическим творчеством и дыханием.
И уже в самом его начале звучит мучительно-гнетущая – вызванная не только болезнью сердца – тема удушья и освободительной, как воздушная струя, поэзии:
Люблю появление ткани,
Когда после двух или грех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.
И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя (III, 76).
В этом цикле из одиннадцати стихотворений прославляется поэзия как универсальная сила и инструмент познания, противоположный застывшему причинно-следственному мышлению; здесь присутствует знание о «бесконечности», таящейся в поэзии – вселенной, наделенной детскими чертами: «Большая вселенная в люльке / У маленькой вечности спит» (III, 79).
Удивительный парадокс: поэтология и чистая лирика соседствуют с острейшими политическими выпадами. Своеобразно-смелые, в духе оригинала, переложения четырех сонетов Петрарки (из «Canzoniere»), которые Мандельштам создает в декабре 1933 и январе 1934 года (III, 80–82), – продолжение его работы над итальянскими поэтами Средневековья и Возрождения, но также и раздумья о связях, соединяющих лирику, любовь и смерть. В этом увлечении Петраркой и обожествленной им Лаурой сказалась, конечно, недолгая – и безответная – влюбленность Мандельштама в двадцатипятилетнюю поэтессу и переводчицу Марию Петровых – с ней Мандельштамов познакомила Ахматова. Петровых жила со своей сестрой в Гранатном переулке возле Никитских ворот, куда любил наведываться Мандельштам. Строгая Ахматова с похвалой отзывалась о ее стихах и естественной открытой манере поведения. Мария Петровых с ее девическим обаянием производила впечатление грациозной женщины, но в ней угадывалась сильная личность. Она не была ослепительной красавицей, как Ольга Арбенина, о которой Мандельштам грезил осенью 1920 года, или как Ольга Ваксель, чье появление в 1925 году привело к тяжелейшему кризису в семье Мандельштамов, однако современники описывают ее теплый и нежный взгляд и очарование, которым лучилась эта женщина. Во всяком случае, 13 февраля 1934 года Мандельштам написал для Марии Петровых то самое стихотворение, о котором Ахматова скажет: «…Лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение XX века» [306]306
Там же С. 29.
[Закрыть]:
Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница встреч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми. […]
Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь (III, 85–86).

«Мастерица виноватых взоров»
Мария Петровых (начало 1930-х годов)

«Я с тобой в глухой мешок зашьюсь»
Автограф «лучшего любовного стихотворения XX века» (Ахматова), написанного Мандельштамом в 1934 году для Марии Петровых
Лирический герой мечтает утонуть вместе с возлюбленной, и никто не знает, где разыгрывается это эротическое действо: в постели или в аквариуме. Нежно упомянуты в стихотворении конкретные признаки женской красоты – взоры, блеск зрачков, брови, губы; однако – всюду подстерегает смерть. Мечта о совместном сне, погружении и смерти заканчивается тремя императивами:
Ты, Мария, – гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь! (III, 334)
Мария Петровых была частой гостьей в Нащокинском переулке. Мандельштамам доставляло удовольствие принимать друзей и знакомых: после неустроенной кочевой жизни они могли угостить их на свои жалкие средства. Вскоре выяснится, что среди посетителей были и осведомители. Современникам запомнилась необычная пустота в двухкомнатной квартире Мандельштамов; они пишут про непременный матрац, лежавший на полу, простой стол, на котором стоял телефон, про потертый чемодан и пару корзин.
Обстановка квартиры, так непросто доставшейся Мандельштаму, – еще одно свидетельство того равнодушия, с каким он всю жизнь относился к собственности.
Все же Мандельштам мог теперь приобретать у букинистов старые книги, тогда как в эпоху кочевий по чужим кухням все его имущество умещалось в одной плетеной корзине. На его книжной полке выстроились в ряд любимые итальянские поэты Средневековья и Возрождения, старофранцузские эпические поэмы, латинские и немецкие авторы, русские писатели XIX века, а также – памятники древнерусской словесности. Особенно любил Мандельштам «Слово о полку Игореве» – это произведение конца XII века придаст ему сил и в воронежской ссылке: «Как Слово о Полку, струна моя туга, / И в голосе моем после удушья / Звучит земля – последнее оружье» (III, 96). Мандельштам высоко ценил и жизнеописание мученика-старовера Аввакума (1621–1682), сожженного за свои убеждения на костре. Протопоп Аввакум служил для него образцом неповиновения и несгибаемой воли. Таковы были скромные сокровища поэта-скитальца, который никогда не мог похвастаться большим собранием книг, да и в своем новом жилье по-прежнему оставался бесприютным. Не говоря уже о том, что его пребывание в Нащокинском переулке продлилось всего пару месяцев; на этом доме, по словам Ахматовой, с самого начала лежала «тень неблагополучия и обреченности» [307]307
Там же. С. 40.
[Закрыть].
Ахматова посетила Мандельштамов уже в ноябре 1933 года; ее двадцатидвухлетний сын Лева Гумилев жил у них несколько недель. Между прочим, он тоже пытался ухаживать за Марией Петровых, что вдохновило Мандельштама на шутливый «библейский» сонет «Мне вспомнился старинный апокриф…», в котором сквозь шаловливое дурачество проглядывают Мариины прелести: «А между тем Мария так нежна, / Ее любовь так, боже мой, блажна, / Ее пустыня так бедна песками, / Что с рыжими смешались волосками / Янтарные, а кожа – мягче льна» и т. д. (III, 152). Влюбленность Мандельштама (безответная, как и у Льва Гумилева) волнующе напоминала ему об осени 1920 года, когда в Петрограде вместе с Левиным отцом он добивался любви привлекательной артистки Ольги Арбениной; через несколько месяцев Николая Гумилева расстреляют. Хрупкое девическое очарование Марии Петровых означало для рано состарившегося Мандельштама, который в цитированном выше сонете изобразил себя в образе комического патриарха, еще и мечту об ушедшей юности. Впрочем, несмотря на «изменнические стихи», его любовь к Надежде не подвергалась на этот раз серьезной угрозе. Их союз был крепок, супружеского кризиса – подобного тому, что разразился в 1925 году, – не предвиделось. Но как и тогда, когда он был влюблен в Ольгу Ваксель, он вынашивал в себе «неслыханное» стихотворение, которое требовало воплощения. И ради такого стихотворения поэт мысленно позволял себе миг измены.
Шутливых стихов удостоился тогда и бездомный поэт Владимир Пяст, недавно вернувшийся из ссылки; Мандельштамы подкармливали его и пускали ночевать. Это были недели, наполненные встречами и дружеским общением, но омраченные в то же время мыслями о смерти. 8 января 1934 года умер Андрей Белый, последний представитель Серебряного века русской литературы. Именно этому поэту-символисту, о котором он так резко отзывался в своих статьях 1922–1923 года и с которым близко познакомился летом 1933 года в Крыму, Мандельштам посвятил большой семичастный реквием, обладающий совершенно особой интонацией: между поклонением и кажущейся непочтительностью:
Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость. […]
На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак! […]
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте… (III, 82–83).

«Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак»:
Ольга Форш. Синтетический портрет Андрея Белого (1933/1934)
Своей жене Мандельштам сказал: «Это и мойреквием». Позднее самоотождествление с Белым? Надежда нашла этому объяснение: «Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: “Чего ты себя сам хоронишь?” – а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит» [308]308
Мандельштам Н.Вторая книга. С. 400.
[Закрыть].
Словно он тогда уже знал, что у негоне будет ни гроба, ни реквиема, что его безымянным опустят в землю, закопают в общей могиле, в самой дальней точке Дальнего Востока, под Владивостоком, вдали от его любимого Средиземноморья, – так, словно все это произойдет на другой планете.
В феврале 1934 года Мандельштам при встрече с Ахматовой сказал: «Я к смерти готов» [309]309
Ахматова А.Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 40.
[Закрыть]. Эпиграмма на Сталина была уже создана, хотя еще и не записана. Мандельштам предчувствовал, что этим он подписал себе смертный приговор. В конце марта 1934 года он встретил на Тверском бульваре Бориса Пастернака и прочитал ему свое антисталинское стихотворение. Пастернак насмерть испугался. По воспоминаниям Ольги Ивинской, его последней спутницы жизни, он якобы сказал Мандельштаму: «Я этого не слыхал, вы этого мне не читали. […] Потому что знаете, сейчас начались странные, страшные явления, людей начали хватать; я боюсь, что стены имеют уши, может быть, скамейки бульварные тоже имеют возможность слушать и разговаривать, так что будем считать, что я ничего не слыхал». А на вопрос, что побудило его написать это стихотворение, Мандельштам ответил, что более всего ненавидит фашизм во всех его проявлениях [310]310
Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. [Paris,] 1978. С. 76.
[Закрыть].
До ареста Мандельштама оставались считанные недели. Весной 1934 года ему еще раз пришлось столкнуться с советской литературой – ее официальными учреждениями и представителями. В. Д. Бонч-Бруевич, старый большевик и друг Ленина, директор основанного в 1933 году Центрального музея художественной литературы (позднее – Государственный Литературный музей), обращался тогда к разным писателям с предложением: продать их литературный архив Музею, иначе – государству. Постоянно страдавший от денежной нужды Мандельштам решил не упускать такой возможности. Он жил в долг, пользуясь подаянием добрых людей и продавая от случая к случаю свое и без того жалкое имущество.
Согласно протоколу от 16 марта 1934 года, экспертная комиссия Литературного музея собиралась приобрести мандельштамовский архив за унизительно смехотворную цену в 500 рублей. Для сравнения: Михаил Кузмин продал в декабре 1933 года свой архив за двадцать пять тысяч рублей [311]311
См: Видгоф Л.Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. С. 242–244.
[Закрыть]. Мандельштам был вынужден забрать свои бумаги назад; 21 марта после трудного телефонного разговора с Бонч-Бруевичем он пишет ему гневное письмо:
«…Вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку Вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива Вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. […] Мне как писателю, конечно, неприятно, что ошибки, подобные этой, могут подорвать авторитет Литературного музея Наркомпроса, но Ваш способ заставлять выслушивать Вами же приглашенное лицо совершенно ненужные ему домыслы и откровенности – вызывает во мне справедливое негодование» (IV, 156).
Это все тот же поэт, который снова – как и в письме Всероссийскому союзу писателей в 1923 году или в «Открытом письме советским писателям» 1929 года – отстаивает свое достоинство человека, художника и современника: весьма не советское поведение! Кроме того, он пишет издевательское стихотворение о народе «архивян», не столько покупающих, сколько продающих писательские архивы. В варианте этого стихотворения содержится намек на то, что власть имущие, приобретая через музей писательские архивы, могут использовать их как им заблагорассудится, даже уничтожить; музей превращается таким образом в алчного и продажного посредника («Паршивый промысел его: / Начальству продавать архивы» – III, 154) [312]312
Подробнее см: Шумихин С. Судьба архива О. Э. Мандельштама // Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 275–280.
[Закрыть].
Подозрение не покажется надуманным, если вспомнить, сколько произведений художественного творчества действительно было уничтожено советским государством в XX столетии. Правда, случалось, что НКВД или КГБ выступали, скорее, в роли хранителей – так произошло, например, с дневником Михаила Булгакова (в 1990 году он обнаружился в недрах КГБ, при том, что сам Михаил Булгаков якобы сжег его еще в 1929-м). Однако такие случаи были, к сожалению, исключением из правила. Оптимистическая фраза «рукописи не горят», которую в романе «Мастер и Маргарита» произносит дьявольский Воланд, конечно, великолепна, но не всегда справедлива. Печи Лубянки поглотили великое множество рукописей, в том числе и сорок восемь листков, изъятых у Мандельштама при аресте. Впрочем, сотрудники секретного ведомства не учли одного обстоятельства: Надежда Мандельштам многое сохранит в своей памяти. Выходит, в конечном итоге Булгаков был все же прав.
В середине апреля 1934 года Мандельштам с Надеждой приезжает в Ленинград. Здесь 6 мая в Доме печати происходит тот самый инцидент, который вдова Мандельштама сочтет настолько существенным для его судьбы, что начнет свою мемуарную книгу с изложения именно этой истории: «…Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву…» Алексей Толстой председательствовал в товарищеском суде по делу Саргиджана, вынесшем 13 сентября 1932 года осуждающий вердикт Мандельштаму. Поэт ждал случая, чтобы посчитаться с «красным графом» и официальным советским писателем. И вот после собрания в Ленинграде он быстро подошел к Толстому, нанес ему пощечину и воскликнул: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». Толстой схватил Мандельштама за руку и прошипел: «Разве вы не понимаете, что я могу вас уничтожить». Задыхаясь от ярости, Толстой бросился к Горькому, который якобы сказал: «Мы ему покажем, как бить русских писателей!» [313]313
См. об этом: Волькенштейн Ф. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама // Сохрани мою речь. Мандельштамовский сб. М., 1991. С. 53–57. (Записки Мандельштамовского общества); Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ… С. 224.
[Закрыть].
Очевидно, это стало последней каплей, переполнившей чашу, но во всяком случае, далеко не единственной причиной ареста Мандельштама. Агентурные сообщения о «контрреволюционных» стихах Мандельштама давно уже поступали в ОГПУ. Свое антисталинское стихотворение про «душегубца» и «мужикоборца» Мандельштам не мог или не хотел держать в секрете, как того требовала осторожность. Он не был опытным заговорщиком – он был поэтом, желающим, чтобы его слушали. Тщетно пытались близкие люди, например, жена Шкловского Василиса, указать ему на опасность. «Я говорила: “Что вы делаете?! Зачем? Вы затягиваете петлю у себя на шее”. Но он: “Не могу иначе…” И было несколько человек, и тут же донесли» [314]314
Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 109.
[Закрыть]. Не только в присутствии одного собеседника – Мандельштам не мог сдержаться и перед несколькими людьми. Даже спустя десятилетия, в октябре 1970 года, его друг Борис Кузин с ужасом вспоминает: «Я в полном смысле умолял О. Э. обещать, что Н. Я. и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О. Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными […] Нет, не сдержит он своего обещания […] Буквально дня через два или три О. Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О. Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное – мне стало ясно, что за эти несколько дней О. Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно» [315]315
Кузин Б.Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.192 письма к Б. С. Кузину. С. 176–177.
[Закрыть].

«А стены проклятые тонки, / И некуда больше бежать» Слева направо: Александр Мандельштам, Мария Петровых, Эмиль Мандельштам, Надежда и Осип Мандельштамы, Анна Ахматова (в Нащокинском переулке, 1934)
В ночь с 16 на 17 мая 1934 года, около часа, в дверь Мандельштама постучали три сотрудника ОГПУ; начался обыск, продолжавшийся до самого утра. Искали вполне определенные «провокационные» тексты: анти-сталинское стихотворение (не существовавшее в письменной форме), стихи о «веке-волкодаве», стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…» – о жертвах голода и принудительной коллективизации, стихи, проклинающие московское «жилье», и другие политические стихотворения. Гепеушники обшарили все углы, рылись в ящиках письменного стола и просмотрели, надрезая переплет, каждую книгу. Сомнительные рукописи они складывали на стул, остальные швыряли на пол и топтали их сапогами. Их подозрение вызвал даже короткий шутливый стишок про Себастьяна и «баха», где под видом повествования о грубом управдоме, разрушителе органа, иносказательно обличалось официально санкционированное изничтожение культуры. Надежда Мандельштам опишет впоследствии тягостные подробности той роковой ночи в двух первых главах своей мемуарной книги: «Майская ночь» и «Выемка». Гавайская гитара Кирсанова, непрерывно звучащая в соседней квартире, молодой сотрудник ОГПУ, который во время обыска умиленно разглядывает книги и постоянно предлагает своим жертвам сладкие леденцы из жестяной коробочки… Призрачные сладости, призванные скрасить грубое вторжение в жизнь поэта.








