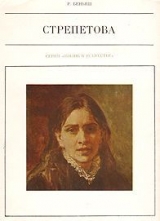
Текст книги "Пелагея Стрепетова"
Автор книги: Раиса Беньяш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Да, было это подчинение опытных и бывалых актеров власти одной исполнительницы. Было потрясение, уже не зависевшее от симпатии или вражды. Был столбняк, нарушавший все представления о профессиональной выдержке. Но стоило опомниться от этого столбняка, вернуться к действительности, чтобы многие из товарищей критиковали актрису как раз за то, чем она отличалась от них.
В какой-то степени была виновата зависть. Совсем не легко снести чужой успех, когда он выливается так явно и бурно. Но чаще критиковали искренне, с убежденностью в своей правоте, критиковали как раз за то, что всегда отличает истинный талант от среднего дарования: за необычность, за нарушение правил, за вызов общепринятым нормам.
Стрепетова бросала этот вызов каждым своим появлением на сцене.
Отношения между ней и труппой тоже не способствовали идиллии.
Особенно резко обозначился разлад с Марьей Гавриловной Савиной.
Они познакомились в Казани, когда каждая из них только начинала и каждая нуждалась в сочувствии. В их положении было много сходного. Почти ровесницы, они обе успели пройти сквозь «горести и скитания». (Так потом была названа автобиография Савиной.) И та и другая были бедны, талантливы и не избалованы дружеской лаской. Их отношения начались с взаимного сочувствия.
Савина переживала в это время конфликт со своим первым мужем, актером, фамилию которого она носила. Бесталанный, чванливый, капризный, он делал жизнь жены невыносимой.
Стрепетова была накануне разрыва со своим фактическим мужем. К общим бедам у нее прибавилось рождение ребенка.
Они были одинаково несчастливы, и Шуберт, к которой они всегда обращались за помощью, старалась содействовать их сближению. Но дружба распалась бесследно, как только Стрепетова смогла вернуться в театр.
Для Савиной театр был огромным и счастливым трудом. Для Стрепетовой ежедневным жизненным подвигом. Одна готовилась к будущему и с первых лет на сцене стремилась совершенствовать свой дар. Другая тратила себя без остатка, сжигая на ежедневном костре творчества все, что отпустила ей природа.
Они и жили по-разному.
Стрепетова чаще всего уходила в себя. Савина была общительна и жизнелюбива. Она стремилась быть светской дамой и легко акклиматизировалась в модных салонах. Стрепетова чуждалась светских связей и в обществе не могла найти себе места.
Савина была остроумна, находчива, тактична и легко ориентировалась в любой обстановке. В аристократических гостиных она вела себя так непринужденно, как будто родилась во дворце.
Стрепетову считали мрачной и плебейски прямолинейной. Каждая была склонна преувеличить недостатки другой.
На сцене они могли бы дополнить друг друга. Их сферы почти не соприкасались. Но каждая видела в другой соперницу.
Особенную активность проявляла Савина. Даже сочувствующий ей Давыдов признавал, что она интриговала против Стрепетовой. Но и та не молчала. Между молодыми премьершами медведевской труппы началась глухая вражда.
На стороне Стрепетовой была огромная правда искусства. Савина побеждала природным обаянием, изяществом, прелестью сверкающей и кокетливой молодости.
Она приносила на сцену радость. Горький крик Стрепетовой колоколом будил совесть. Через десять лет, когда они встретились на казенной сцене, их силы уже были неравными. Но здесь, где Савина еще только искала себя, Стрепетова успела сказать свое слово. Ее искусство определилось. Определилась и ее аудитория.
Именно этого ей не могли простить.
Стена непонимания между актрисой и большей частью труппы росла.
Разрыв со Стрельским надвигался неминуемо. Первое беспощадное крушение любви и доверия оставило глубокую душевную трещину. Личная неустроенность углубляла пропасть, отделяющую от товарищей. Как нуждалась Стрепетова в человечности, чуткой деликатности окружающих! Но сама она не была ни тонкой, ни деликатной.
Ее обычная нетерпимость росла, а дипломатическую осторожность она презирала. Она хотела бережного внимания, но сама легко могла обидеть человека, оскорбить его высказанным вслух и не всегда справедливым мнением. Она была резка со всеми, чьи поступки казались ей неискренними или недостойными. Начальство само по себе не внушало ей ни малейшего уважения. С сильными она была еще более откровенна и говорила о них все, что думала, с простонародной грубоватой честностью. Конечно, это не могло нравиться.
Медведева Стрепетова не раз обвиняла в искательстве и лицемерии. Считая, что антрепренер пренебрегает высокими целями искусства и подлаживается под вкусы орловских богатеев, она набрасывалась на него с упреками. То, что легкий репертуар с пением в Орле стал преобладать над серьезными пьесами, актриса считала преступлением Медведева и выкладывала ему свое возмущение в самый неподходящий момент, в обидной форме, преувеличивая действительное положение вещей.
Обычно сдержанный и благодушный, Медведев постепенно терял терпение. Актеры растравляли его вовремя кинутой негодующей репликой, насмешкой, жалобой на несносный характер Стрепетовой. Оппозиция против нее росла.
Малейшую неудачу актрисы противники готовы были подхватить и раздуть. Неудач, впрочем, хватало.
Медведев не зря говорил, что «если она проваливала роль, то проваливала фундаментально». Технику лицедейства Стрепетова не смогла освоить за всю свою жизнь. Профессия существовала для нее только как результат прожитого чувства. Копирование, повторение того, что было открыто раньше, виртуозное владение суммой приобретенных навыков, умелое распределение средств – все это Стрепетовой никогда не давалось. Она умела только тогда, когда искренне чувствовала. Переживала, только когда жила всеми обстоятельствами роли.
Лепить характер она не умела. Чтобы изобразить человека, она должна была стать им. В кругу доступных ей чувств она была беспредельно щедра и богата. За пределами этого четко очерченного круга ее мастерство оказывалось наивно беспомощным и бессильным.
На этом основании возникла легенда о непрофессиональности Стрепетовой, об ограниченности ее таланта. Молва шла вдогонку за растущей славой актрисы, не отставая от нее ни на шаг.
Но росла и слава. За два года начинающая актриса превратилась в звезду. Правда, пока еще провинциальную. Но уже в столичной печати стали появляться вести об ее необыкновенном даровании. Слухи о невиданном драматическом таланте проникли и в Петербург и в Москву. Стрепетова делалась знаменитой.
Как многие русские художники, она шла в своем искусстве гораздо дальше того, что могла подсказать ее жизненная философия. То, что для передовой русской интеллигенции стало сознательным подвигом, намеренным и программным «хождением в народ», для Стрепетовой явилось естественным и единственно возможным направлением творчества. Она не примыкала к передовым идеям времени, а была их видимым выражением, их наглядным свершением.
Легко представить, что она могла бы уехать в деревню, лечить заболевших баб, учить грамоте крестьянских детей, выступать на сходках против урядников. Но у нее был талант актрисы, и всю свою любовь к народу, всю боль за него она высказывала со сцены.
Она часто шла ощупью, но не отступала от того, что казалось ей правдой. Она нуждалась в учителях и в дружеской умной поддержке. Провинциальный театр отказывал и в том и в другом. Даже передовая труппа Медведева была опутана множеством устойчивых предубеждений. Репертуарная пестрота, творческая разноголосица, неистребимая закулисная борьба разъедали провинциальный театр России, в том числе и лучший из них. Стрепетову душили противоречия, с которыми она воевала в одиночку. Она интуитивно рвалась к тому, чтобы расширить аудиторию. Провинциальный театр стал тесен.
К тому времени истекли сроки контракта с Медведевым. Да и сам Медведев пока не возобновил аренду театра.
Стрепетова считала себя свободной.
Она стремилась в Москву.
Обстоятельства впервые шли ей навстречу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Гастроли в Москве стали сенсацией.
Сразу же. С первого кратковременного приезда. Она сыграла в Народном театре на Политехнической выставке несколько спектаклей. Посмотреть их успели немногие. Но восторженные слухи долго еще расходились кругами.
За полгода, которые прошли до второго приезда, имя Стрепетовой обросло легендами. Ее ждали нетерпеливо, но и настороженно.
Она приехала в самое неудачное время.
Была масленица. На улицах пахло слегка подгоревшим маслом. Несмотря на февральскую оттепель, стремительно неслись по городу тройки. В мокрых местах полозья с трудом поспевали за бегом коней.
Москвичи торопились в гости. Кажется, все жители успели перебывать друг у друга. Витрины ресторанов наискось перерезали крикливые рекламы блинов. У Егорова, в Охотном ряду, на прославленные «воронинские» блины, названные по имени их создателя, съезжались гурманы из Петербурга.
Старался не отставать и Тестов. В его трактире на Воскресенской площади мальчики в белоснежных рубашках и поварских колпаках развозили на мягких шинах тележки. В никелированных углублениях лежали блины и закуски. От блинов шел пар. Икра и сметана подавались со льда.
А в Большом Московском, едва ли не самом фешенебельном ресторане Москвы, в больших серебряных или позолоченных жбанах подкатывали к столам классический русский квас.
Квасом, конечно, не ограничивались. За блинами пили коньяк, шампанское, ликеры. Пили «турку», причудливую смесь из коньяка, мараскина и сырых яиц. Пили «медведя», соединение водки с портером. Пили и чистую водку, «казенку».
Всего за одну масленую неделю было выпито спиртных напитков больше, чем за целые полгода до этого.
Время для театров считалось плохое. Сокращалось число представлений. О полных сборах никто и не помышлял. А на спектакли со Стрепетовой билеты расхватывались молниеносно. Ее успеху не помешала даже блинная лихорадка.
Драматург Антропов не спал всю ночь. После «Семейных расчетов» он бродил по улицам до рассвета. Спектакль что-то переломил в нем. Его обычная жизнь, с подсчетом гонораров от популярной пьесы, летней дачей в пригороде, вечерами, просиженными за расстегаями и заливным поросенком в только что входившем в моду ресторане Филиппова, открылась в ином свете.
Антропов ходил и ходил по скользким под водой арбатским переулкам, пока не продрог насквозь.
Придя домой и выпив крепкого чаю, он сел за свой письменный стол и набросал взволнованный этюд об Аннете – Стрепетовой.
Этюд он собирался напечатать отдельной брошюрой. Что-то этому помешало, и впечатления драматурга, так горячо и непосредственно вылитые на бумагу, исчезли. Осталось только упоминание о них в дневнике Антропова-сына.
У Антропова нашлось много единомышленников. В среде передовой художественной интеллигенции Стрепетову превозносили как актрису нового, народного типа. Широкая публика валила валом. Молодежь толпами ждала у подъезда театра и устраивала овации.
Среди студентов, которые через несколько месяцев, сменив форменные тужурки на армяк и поддевку, отправились «в народ» по селам Тамбовщины и Курской земли, было немало зрителей Стрепетовой. Некоторые из них признавались потом, что «Горькая судьбина» ускорила их поворотное жизненное решение.
Московские критики, выходя за рамки обычных рецензий, пишут, что Стрепетова «совесть будила», что «многим в зале не по себе становилось». Выступления актрисы даже в официальной прессе называют большим событием. Из художественного события они перерастают в явление общественное.
Сама Стрепетова еще долго не может привыкнуть к тому, что произошло. Слава пришла внезапно и слишком быстро для того, чтобы показаться реальностью.
Еще накануне все в жизни не ладилось. Все пугало непрочностью, несуразицей, душевным разладом. Все, буквально все в ее положении оставалось непрочным, зависело от случайности, от расчетов или прихотей антрепренера. Даже когда ее успех стал очевидным, а признание публики несомненным, она продолжала жить беспокойно, не зная благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Ответственность за близких, которая целиком лежала на ней, постоянная неустойчивость, резкие колебания жизненного уровня – все развивало природную мнительность, усиливало внутреннюю тревогу. Причин для этого хватало с избытком.
Ее отношения с Медведевым обострялись и грозили перейти в открытый конфликт. Каждый раз перед очередным продлением контракта наступала пора унизительных волнений. В конце концов контракт возобновлялся, но ожидание предложения выматывало силы.
Переход в другую провинциальную труппу, неизбежно худшую, означал сдачу творческих позиций. Столичный театр пока казался недосягаемым. Приходилось ждать и терпеть. Как раз то, чего Стрепетова совсем не умела.
Нервное напряжение не отпускало. Трудности подкарауливали со всех сторон.
Жалованье, как будто крупное, даже при экономии, воспитанной с детства, растекалось под руками бесследно. Кроме обычных расходов и неизбежных затрат на сценический гардероб, приходилось регулярно пересылать в Нижний Новгород большие суммы.
В Нижнем у няни воспитывалась дочь. Естественно, что нянины заработки прекратились, все ее время забирал ребенок. Тетка, Надежда Ивановна, жила вместе с ними, так как не ладила со своей сестрой. По этой же причине Елизавета Ивановна снимала квартиру отдельно. Единственным источником ее существования была помощь приемной дочери. Деньги ежемесячно отправлялись в один город, но в два адреса.
У матери было тесно и неудобно. Ворчливый характер тетки стал совершенно невыносим. Стрепетова не могла провести с ней и одного дня. Приезжая в Нижний, она чувствовала себя бездомной. Все в родном городе казалось неприветливым, ощущение временности и неприютности отравляло свидание с близкими.
В дополнение ко всему, совсем уж некстати, как раз к тому времени, когда произошел окончательный разрыв со Стрельским, выяснилось, что должен появиться второй ребенок. Кое-как доиграв орловский сезон, скрывая от всех свое положение, Стрепетова уехала рожать в Нижний.
Выбора не было. Пришлось поселиться в меблированных комнатах. Отдельно и от матери, и от дочки.
Оттуда она писала Александре Ивановне Шуберт, единственному человеку, которому во всем доверяла:
«Большое спасибо вам, Александра Ивановна, что, как обещали, так и исполнили… здесь такая тоска, что ужас. Хорошего я сделала только то, что родила прежде времени… Родилась опять дочь, зовут Лидией, маленькая, худенькая, и пока жива…»
Попытка скрыть тягостное чувство за шутливой интонацией явно не удается. Шутка звучит горестно. Ребенок, который «пока живет» и которому суждено прожить всего два месяца, поглощает все силы. А сил и без того мало.
Ощущение неприкаянности не оставляет ни на один день. Еще не оправившись после родов, Стрепетова начинает тревожиться о будущем. Что бы ни случилось, а кормить три семьи надо ежедневно. И платежи за три квартиры тоже нельзя ни прекратить, ни отсрочить. А «все на одной остается забота… одна-одинехонька, расправляйся как знаешь…» – жалуется она своему адресату.
И расправляется, – что делать? Добывает врача для старшей. Выясняет условия летней работы в Либаве, куда ее зовет товарищество. Пытается узнать, кто там главный, и сколько спектаклей дадут ей сыграть, и заплатят ли за них столько, «чтобы прожить можно было не в долг».
Денег действительно нужно много. Всегда больше, чем есть. Только выкарабкаешься из одного осложнения, подступает другое.
Жизнь в меблированных комнатах с новорожденным, да еще и больным ребенком обходится дорого. За каждый пустяк надо расплачиваться. А пустяков ежедневно набираются десятки. Даже теплая вода для купания малышки вырастает в проблему. Решить ее могут только деньги. Все те же деньги.
Как нарочно, все не клеится, все расползается по швам. Новорожденная угасает, сама Стрепетова едва держится на ногах, Либава горит из-за того, что уходят сроки. Предложение из Москвы приходит в самый напряженный момент.
События нагромождаются в сознании одно на другое. Сумбурная и отчаянная борьба за жизнь ребенка обрывается его смертью. Еще не придя в себя от похорон, Стрепетова мчится в Москву. В эти первые свои гастроли она играет подряд, без передышки, в каком-то чаду. Еще не утихшая боль и перенесенная душевная мука проникают в сценические создания актрисы. Ее успех нарастает.
Не пережив его как следует, не использовав для будущих планов, не сделав ни одного шага для того, чтобы остаться в Москве или хотя бы продлить гастроли, Стрепетова несется обратно в Нижний Новгород. Ей надо наладить лечение Маши, снабдить деньгами оба дома, собрать свои повсюду раскиданные вещи.
До начала сезона остаются считанные дни. Медведев зовет в Орел. Там обступают старые и новые роли. В калейдоскопе дел, потерь, тревог и болезней не остается времени на душевный анализ. Ошеломляющий успех, который недавно промелькнул в Москве, понемногу теряет свои реальные очертания, начинает казаться далеким миражем.
Вторичный приезд в Москву опровергает это странное ощущение.
Небывалый успех, который приходит во время зимних гастролей, Стрепетова воспринимает как неожиданный и счастливый дар.
Каждый новый спектакль подтверждает его реальность.
Она играет в деревянном здании на Варварской площади.
Здесь 4 июня 1872 года открылся первый в России официально дозволенный народный театр.
Он получил название Народного театра на Политехнической выставке и появился на свет в связи с ее открытием.
Выставку затеяли крупнейшие русские биржевики, дельцы нового типа. Она должна была продемонстрировать всему миру завоевания отечественного капитала. Поэтому на выставку не жалели средств, и рекламный дух царствовал во всех ее начинаниях, включая и сложную систему развлечений. При этом всячески подчеркивалась широта размаха, демократичность и общедоступность мероприятий.
Среди множества специально созданных выставочных комитетов и комиссий появилась и «Комиссия отдела попечения о рабочих». Главной ее заботой была демонстрация мер по «улучшению нравственного быта рабочих и ремесленников». Особо оговаривалось, что все организационные действия комиссии «касаются отнюдь не будничной рабочей жизни простолюдина, но тех часов и того времени, когда за прекращением работы наступает для рабочего период отдыха».
Как и другие мероприятия, предназначенные для «не будничной жизни простолюдина», театр должен войти в число необходимых «общеполезных и дозволенных нравственных развлечений».
У непосредственных инициаторов театра были, впрочем, иные задачи.
Его рождение было результатом долгой и упорной борьбы.
Идея Народного театра вынашивалась в мечтах уже несколько лет. Драматург Островский, актер Малого театра Пров Садовский и режиссер этого театра Федотов принимали в рождении театра самое близкое участие. Непосредственным его руководителем, душой всего дела стал актер и режиссер Александр Филиппович Федотов.
То, что Народный театр на выставке был открыт, считалось великим завоеванием. Впервые монополия императорских театров, которая, по выражению Островского, давно стала «наказанием божеским», была наконец подорвана. Увы, как выяснилось вскоре, ненадолго.
Конфликт между устроителями театра и его попечителями обозначился сразу.
Еще накануне открытия «Московские ведомости» написали, что «комиссия по устройству Народного театра… руководствовалась целями чисто художественными». Действительно, Федотов, поддерживаемый своими единомышленниками, настаивал на том, чтобы репертуар, состав труппы и обстановка спектаклей отличались высокой художественностью. Главным пунктом выработанной программы была общественная значимость любого театрального представления.
В докладной записке, адресованной «Его высокопревосходительству, Господину председателю Политехнической выставки 1872 года, Генерал-Адъютанту Исакову», программа театра прочитывается ясно, несмотря на множество дипломатических оговорок. Там, например, сказано:
«Предполагаемый театр – есть не более как опыт, имеющий целью: во 1-х, вызвать серьезную критику такого рода учреждений, во 2-х, ознакомить публику с народным репертуаром, существующим в настоящее время, и дать возможность появиться новым драматическим сочинениям для народа, и в 3-х, указать обществу действительное значение театра, как учреждения, могущего стать наряду с другими общественными учреждениями, польза и значение которых уже признаны всеми».
Репертуарные планы составлялись в соответствии с изложенными задачами.
Федотов, вместе с другими идеологами создаваемого театра, мечтал о лучших произведениях русской мировой литературы. Начальство предпочитало смесь из трескучих, псевдопатриотических пьес Кукольника и Полевого и веселеньких водевилей. Одни должны были оглушать победным громом, другие – вызывать смех. Но и те и другие в равной мере – отвлекать от всяких раздумий о жизни.
Начальник секретного отделения канцелярии московского генерал-губернатора, он же известный переводчик пьес и автор фарсов, Родиславский, назначенный одним из руководителей театра, старался исполнить свою миссию как можно лучше.
Он со всем пылом отстаивал репертуарный список, рекомендованный свыше.
Федотов и его сторонники защищались упорно.
Федотов убеждал, что после нескольких спектаклей, составленных из нравоучительных лженародных драм и пустеньких пьесок, театр перестанет существовать, так как «зрителей и калачом не заманишь в театр». В то же время, настаивал он, нет сомнения, что «народ легко поймет и „Ревизора“, и „Гамлета“, и Писемского, и Островского».
На все доводы Федотова Родиславский отвечал, что «едва ли с этим согласится князь Владимир Андреевич…»
Князь Владимир Андреевич Долгорукий был генерал-губернатором Москвы. Туманную ссылку на его точку зрения противники прогресса, видимо, считали самой надежной и убедительной аргументацией.
Борьба была бы проиграна, если бы не стойкость защитников серьезной драматургии. Отвергая игру в намеки, они требовали прямых решений. Подтекст, который звучал в доводах охранителей покоя, организаторы Народного театра как бы не слышали. Они задавали вслух недвусмысленные вопросы там, где от них ждали дипломатической догадки. Начальство сердилось, но вынуждено было уступить.
На прямое запрещение Гоголя не решился ни Родиславский, ни даже сам князь Владимир Андреевич. В результате Народный театр на Политехнической выставке открылся «Ревизором».
«Прения сторон», предшествующие этому знаменательному событию, в какой-то степени проникли в печать. Через два дня после открытия театра «Русские ведомости» писали:
«Когда в Москве разнесся слух, что Народный театр открывается „Ревизором“, многие осудили выбор для первого представления этого театра комедии, в которой чиновники представлены в таком виде. И при этом задавали тот самый вопрос, который Гоголь вложил в уста одного из действующих лиц своего „Разъезда“: „А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают такие злоупотребления“».
Первое же представление «Ревизора» показало с непререкаемой очевидностью, кто осудил выбор театра и кто его приветствовал.
Как сообщалось в газетах, великий князь и сопровождающие его лица уехали с середины спектакля. Сохраняя тактичный тон, в котором выдержана вся информация о данном событии, газета высказывает предположение, что причиной этого был усилившийся дождь.
Народу дождь нисколько не помешал.
«На площади перед театром или, лучше сказать, на дворе театра толпилась целая масса народа. Все они очень хорошо знали, что билетов давно нет, однако же не расходились… народ стоял целыми массами, стоял, облепивши фонтан, лез на барьер народной кухни и теснился даже за оградою двора… спектакль приходил уже к концу, дождь полил сильнее, а народ все стоял и не хотел расходиться… одна мысль, что театр народный, что он построен для него, для народа, удерживала его, несмотря на эту погоду».
Новые зрители оценили и пьесу Гоголя, и уважение к себе, и стойкость театральных руководителей. Оценили они и высокий уровень исполнения.
Действительно, выполняя свое намерение, Федотов пригласил в труппу известнейших провинциальных артистов: К. Берг, М. Писарева, А. Стрелкову, В. Макшеева. Был среди них и колосс русской провинциальной сцены, знаменитый трагик Николай Хрисанфович Рыбаков.
Публику не обманули. Исполнение ведущих ролей было первоклассным. Но и артисты испытывали редкое удовлетворение от горячей и чуткой реакции зала.
Спустя несколько лет Федотов вспоминал:
«Народная публика сразу почувствовала, что ее понимают, что за ее трудовые деньги продают хороший, настоящий товар, что в этом наскоро сколоченном общими усилиями тесовом балагане живет неподдельное к ней уважение, – и публика валила в театр. В четыре, в пять дней со дня открытия между ней и театром установилась та взаимная нравственная связь, которая и была главной причиной процветания дела».
Для процветания дела руководство Народного театра на Политехнической выставке считало полезным, чтобы «некоторые из провинциальных знаменитостей участвовали в спектаклях вольного театра в качестве гостей».
Гостьей была и Стрепетова.
Нравственная связь между нею и залом возникла уже на первом спектакле. Стрепетова не только вписывалась в программу Народного театра, она и дописывала ее. Общественные ноты, которые искал театр, с приездом Стрепетовой поднялись до революционного протеста. Даже на фоне высокого исполнительского уровня ее игра показалась необъяснимым художественным чудом. Ее участие в спектаклях Народного театра, для которого, как будто нарочно, был создан ее талант, еще больше подняло авторитет труппы. Но сам театр уже был обречен.
Его направление, почти демонстративно подчеркнутое гастролями Стрепетовой, привлекало зрителей, но отнюдь не входило в планы попечителей «трезвых и нравственных» народных развлечений. То, что руководители театра считают своим достижением, настораживает начальство. Интересы тех и других расходятся все более явно.
«Народный театр уважал свою публику. Уважение это выразилось не в одной лишь вежливости капельдинеров, не в одном отсутствии заманивающих реклам и рецензий, а в том почтении, в том доверии, с каким он относился к своим посетителям, в доверии к здравому смыслу, к уму и чуткости народа, для которого был создан театр. Для народа играли только хорошие, умные вещи и играли их добросовестно, внимательно, как для самых больших господ».
Так вспоминал о театре один из его участников.
Но даже это элементарное уважение к своей публике раздражало тех, кто считал себя истинными господами. Когда же к уважению и доверию прибавились откровенно оппозиционные мотивы, «господа» поспешили напомнить о своих правах.
Начальство все откровеннее вторгается в каждодневную внутритеатральную жизнь. Благотворительное попечительство сменяется насильственной опекой. Кратковременное благополучие театра подтачивают какие-то неизвестные силы извне. Вскоре они начинают действовать открыто.
Едва закрывается выставка, как начальство перестает стесняться. Нажим на театр усиливается. Создается прямая угроза его существованию.
Двадцатое представление «Ревизора» не состоялось в связи с тем, что министр внутренних дел Тимашев прислал категорический протест. В телеграмме, адресованной московскому генерал-губернатору из Петербурга, сообщалось, что комедия Гоголя производит «слишком сильное впечатление на публику и при том не то, какое желательно правительству».
Нужно совсем немного времени, чтобы понять, что и вся деятельность Народного театра была «нежелательна правительству».
Ограничения, которые ставятся перед театром, фактически ведут его к смерти.
Едва почувствовав, что запретительные меры находят поддержку, раболепные чиновники удваивают свои усилия. Отмена спектаклей уже кажется им недостаточной предупредительной мерой. С их легкой руки, и уж во всяком случае при их содействии, по городу расползаются зловещие слухи о том, что здание театра слишком шатко и может в любой вечер обвалиться. Слух отпугивает часть зрителей.
И эта нелепая сплетня, и хорошо организованная газетная оппозиция, и изъятие самых заманчивых названий из афиши – все сказывается на финансовой жизни театра.
Благотворительные пайщики, не на шутку встревоженные оппозиционным характером деятельности своего первенца, остаются глухи к настойчивым предупреждениям руководителей театра. Есть еще время помочь. Нужна самая незначительная поддержка, чтобы уберечь дело от долгов. Но и в этой поддержке покровители искусства отказывают.
Больше того. В самый критический момент, когда помощь нужна как воздух, они предъявляют к оплате векселя. Катастрофа нависает все очевиднее. Ходатайство об отсрочке векселей отклоняется без обсуждения. Судьба Народного театра на Политехнической выставке решается сама собой.
Так погибает единственный театр, в котором Стрепетова могла бы найти для себя твердую почву. Распадается первый коллектив, программа которого в основных пунктах совпадает с природой стрепетовского таланта.
Проверить свои беглые впечатления актриса уже не может. Руководство Народного театра больше не властно предоставить ей подмостки. Повторным гастролям, о которых мечтают обе стороны, осуществиться не суждено. Предсмертные судороги Народного театра наступают раньше, чем могли предвидеть пессимистически настроенные предсказатели.
Прощальный обед, который устроила в гостинице «Англия» Комиссия улучшения нравственного быта рабочих, был грустным. Обилие яств и напитков должно было свидетельствовать о щедрости устроителей. Но деятели театра, приглашенные на обед в качестве почетных гостей, помнили, что именно эти тароватые организаторы празднества не согласились отсрочить платежи за аренду театрального здания.
Для многих присутствующих торжественный обед превратился в поминки.
О сидевшем в углу Федотове никто не вспомнил. Он чувствовал себя посторонним. Ему не посвятили ни одного тоста. Ни один бокал не был поднят открыто за его здоровье.
Молчал и он. Он-то знал, что все имущество созданного им театра продано с торгов. Цена главного его жизненного замысла оказалась не такой и высокой. Всего – 22 598 рублей да еще 40 копеек! Не много!
Но ни у самого Федотова, ни у его труппы такой суммы не было. Зато она нашлась у двух претендентов на театральную антрепризу, чиновников канцелярии московского генерал-губернатора.
Оба, и личный адъютант губернатора князь Ф. М. Урусов, и ярый театрал и критик С. В. Танеев, были известны как самые рьяные поклонники Народного театра на Политехнической выставке. Это нисколько не помешало им стать его покупателями.
Театральное имущество они приобрели с торгов одновременно с арендой здания. Новые владельцы публично заявили, что их задача продолжить начинание своих предшественников. Они хотели сохранить все, как было, вплоть до названия. Им это не разрешили. Начальство сочло предосудительным само слово «народный». И оно с театральной афиши исчезло.








