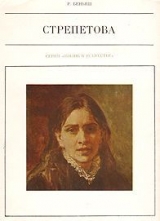
Текст книги "Пелагея Стрепетова"
Автор книги: Раиса Беньяш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Во всяком случае, к нему он примыкал ближе, чем к любому из частных театров. И Россиев отметил, что «близость и влияние Островского решали выбор пьес для сцены». По свидетельству того же Россиева, «„старик“ (так он называет Островского. – Р. Б.)не скрывал своего нерасположения к иностранным драматургам, доказывал, что и Шекспир и Шиллер – роскошь, которую надо позволять себе пореже, и старался всеми силами содействовать успеху отечественных писателей для сцены, в особенности – молодых».
К приходу Стрепетовой эта программа сохранилась. Сохранились и связи с писателями. Недаром в числе почетных членов кружка были Тургенев, Салтыков-Щедрин и, конечно, Островский. В остальном же театр мало чем отличался от профессионального. Разве что некоторой камерностью.
Но как раз это и тяготило иногда Стрепетову.
Ее привлекала относительная культура труппы. Общее направление. Репертуар. Сравнительная интеллигентность ведения дела. Но актриса чувствовала и узость аудитории, ее замкнутость. Даже в самой избранности отзывчивого и понимающего состава зрителей было для Стрепетовой что-то чужое. Иногда ей просто становилось нечем дышать. Ее тянуло к простору.
Она играла по три спектакля в неделю. От двенадцати до пятнадцати раз в месяц. Это была ее договорная норма, и она ее выполняла. Но этих спектаклей ей было мало. Она старалась сгруппировать несколько выступлений подряд, чтобы таким образом накопить дни на гастроли.
Она выступала в разных городах и везде с колоссальным успехом. Иногда она приезжала в Казань.
Встречи с Писаревым будоражили наново. Но и Писарев не мог от нее освободиться. Он проносил ее за все рубежи своих увлечений. И стоило даже не пройти, а чуть охладеть увлечению, как он понимал, что оно было случайным.
Стрепетова понимала это даже больше, чем он. Она тоже порой искала освобождения. Ей все казалось, что жизнь уходит, а главное упущено, и безжалостное время мчится вперед. И она писала правдиво, превозмогая боль души:
«Все я чего-то боюсь, страшно тороплюсь жить, взять у жизни все, что можно…»
И она берет, как всегда, не экономя на своих силах и не заслоняясь ладонью от истины. Она знает, что никто не может ей заменить Писарева. И даже в изменах ему она сохраняет верность.
К тому же он остается для нее лучшим партнером. После него все другие на сцене производят впечатление натянутости, откровенной демонстративности, грубоватого нажима. Стрепетова не выносит ни актерствования, ни сухости. Она привыкла к тому, что вырывается на сцене из всей массы исполнителей. Но она и научилась видеть, насколько выигрывает спектакль, если рядом с ней оказываются не статисты и не упоенные собой премьеры-декламаторы, а умные, равноправные партнеры.
Из них Писарев кажется ей лучшим.
Ни с кем другим она не достигает такого творческого покоя, такой абсолютной слитности и музыкальной слаженности. Причем не заученной и повторенной многократно, а импровизационно свободной.
Только он один, самый преданный и самый неверный ее друг, идет на сцене с ней в паре. Конечно, не забегая вперед – это пока никому и не удавалось, – но и не труся где-то на почтительном расстоянии, отчего вокруг образуется пустота.
Да и для Писарева сыгранные вместе спектакли не могут пройти бесследно. Возвращение к обычным партнершам для них слишком разоблачительно. Переход от творческих праздников к нормальным провинциальным будням театра – разителен. То, что накануне казалось верным и вполне приличным, при сравнении с игрой Стрепетовой удручает своей серостью и ремесленным штампом.
Его сознание занозило то новое, что он, больше чем все другие, мог разглядеть в исполнении Стрепетовой. И эту не свойственную ей раньше мягкость, на фоне которой выигрывают порывы сильного чувства. И разработанность, даже отцеженность средств, которыми она теперь пользуется. И общую мысль, которая, не умеряя вдохновения, делает его целесообразным. И внутреннюю раскрепощенность – то, к чему стремится актер и что удается так редко.
Писарева пугает, что он может отстать. Что ему грозит опасность застрять на среднем уровне хорошей провинциальной труппы. Он слишком умен и образован, чтоб не уловить растущего расстояния. Он с ужасом ловит себя на штампах и понимает, что отсрочка решения может стать роковой для его творческой судьбы. Он страшится упустить время. И он знает, что Стрепетова по-прежнему ждет. Они необходимы друг другу.
Выпутавшись из всех своих случайных привязанностей, Писарев уезжает в Москву. В тот самый Артистический кружок, где служит и Стрепетова.
В письме к Тургеневу Писемский сообщает, что «приглашен провинциальный драматический актер Писарев, молодой еще человек, обладающий прекрасной наружностью и довольно сильным внутренним огнем».
Естественно, что этот «сильный внутренний огонь» Стрепетова ощущает больше других. Они снова играют вместе, и их идеальный творческий союз на какое-то время обновляет старые спектакли Артистического кружка. Интерес к ним опять повышается.
Но Стрепетова все больше чувствует, что на камерной сцене кружка ей тесно. Ее влечет даль неизведанных городов, большая сцена, новая публика. Писарев готов разделить это естественное стремление.
В августе 1877 года, после долгих метаний, они сходятся окончательно. Их связь получает формальное завершение.
У незаконнорожденной Маши Стрельской появляется отчество и фамилия Писарева, а также отец, усыновивший ее по всем правилам. У самой Стрепетовой – муж, законный и долгожданный.
Но главное для нее в том, что они вместе. И, как думает Стрепетова, для того, чтобы больше не разлучаться. Будущее покажет шаткость ее оптимистического прогноза.
Восстановленное с таким трудом счастье окажется ненадежным. Но пока они об этом не знают.
Их гастроли проходят триумфально.
Они переезжают из города в город, везде оставляя неизгладимый след, отовсюду увозя память о потрясенных зрителях.
Волжские города встречают их как родных. Залы Харькова и Киева сотрясают южные грозы аплодисментов. Гастролеров обливают дождями цветов. Но самый горячий прием оказывает чинный и пасмурный Петербург.
Впервые Стрепетова приехала туда осенью 1876 года.
16 октября она выступила в «Собрании художников» на Мойке (в доме Кононова), и ее Лизавета произвела впечатление нежданного чуда. Переполненный зал рыдал, выкрикивал бессвязные слова благодарности, вызывал исполнительницу снова и снова и, несмотря на призывы администрации, не хотел расходиться.
Тогда на авансцену вышел старшина клуба господин Губарев и объявил, что Стрепетова согласилась уступить просьбам распорядителей и ее выступление повторится в следующую субботу.
Гром аплодисментов усилился. Публика вызвала на сцену организатора гастролей, артиста Сазонова, и устроила овацию уже ему. Пока гасили огни в зале, у кассы выстроилась очередь за билетами на следующее число. В тот же вечер почти все билеты были раскуплены. Газеты отметили этот случай как «небывалый в собрании».
Все первые приезды Стрепетовой проходят в атмосфере единодушного признания. Петербург, покоренный актрисой, так не похожей на все, что может предъявить столичная сцена, рвется попасть на гастроли. Ажиотаж создают не только демократические «верхи» зрителей, но и чопорная публика первых рядов. На фоне спектаклей Александринского театра, о которых современник сказал, что «мило, приятно, но хочется скорей дождаться антракта и выйти курить», гастроли Стрепетовой обрушиваются как шквал. Ему, может быть, можно сопротивляться, но устоять против него нельзя.
Известная издательница детского журнала А. Н. Пешкова-Толиверова, позднее ставшая другом Стрепетовой, рассказывала о своей встрече с Тургеневым в Кононовском зале на представлении «Горькой судьбины».
«В этот памятный для меня день… совершенно случайно мое место было рядом с местом Ивана Сергеевича Тургенева», – пишет Пешкова-Толиверова. Он спросил не без скепсиса:
– Вы, верно, пришли поплакать? Женщины всегда плачут в театре.
– А вы видели Стрепетову? – спросила вместо ответа соседка.
– Нет, Стрепетову не видел, а «Горькую судьбину» знаю, тяжелая вещь…
Пешкова-Толиверова, которая видела Стрепетову уже прежде, не стала продолжать разговора. Она решила подождать до конца спектакля, чтобы потом справиться о впечатлении писателя. Но уже в первом антракте она увидела, что «у Тургенева лились слезы ручьями и он не вытирал их».
– Это сама действительность, действительность, – повторял Тургенев сквозь слезы. И уже до конца спектакля не разговаривал. А потом только и сказал взволнованно:
– Да, все говорят о школе. Какая это такая школа может дать то, что нам сегодня показали. Выучиться так играть нельзя. Так можно только переживать, имея в сердце искру божию…
Знал ли Тургенев, от какого костра загоралась «божия искра» актрисы?
Едва ли.
Но он хорошо знал и любил повторять, что « правдиво и просторассказать, как, например, пьяный мужик забил свою жену, – не в пример мудренее, чем составить целый трактат о „женском вопросе“».
Пожалуй, с такой простотой, правдивостью, но и могучей обличающей силой не мог рассказать о забитой русской женщине никто, кроме Стрепетовой. И никому, кроме нее, не удавалось в этот наивно бесхитростный рассказ вложить такое глубокое обобщение, такую страстную защиту бесправного человека.
Поэтому спектакли Стрепетовой могли заменить и трактаты о женском вопросе, и лекции, и политические сходки. Или вызвать их.
Нет, конечно же, не она была причиной того, что 6 декабря, сразу после вторых гастролей актрисы, в центре Невского проспекта, у колоннады Казанского собора, состоялась первая в Петербурге политическая демонстрация. Но лозунг, написанный на знаменах, – «Земля и воля» мог бы стать эпиграфом к спектаклям Стрепетовой. И она, вероятно, во время жестокого избиения демонстрантов полицией вела бы себя как женщина, которую били головой об тумбу и которая так и не попросила пощады. Ведь так вела себя избитая пьяным мужиком Лизавета. Или Катерина, ринувшаяся головой вниз с обрыва.
В нараставшем с каждым приездом успехе актрисы виноват был далеко не только сенсационный шум. И даже не художественная новизна, особенно заметная на фоне столичного бюрократически заведенного порядка.
Привлекали и они, конечно. И вызывали особое, восторженное уважение к эстетической независимости актрисы. Но еще больше привлекало то, что в ее искусстве был отчетливо слышен призыв к пересмотру жизни. То, по чему тосковали петербургские «новые люди». И особенно петербургская молодежь.
Стрепетову приняли и признали своей все левые круги столицы. Но и справа пока не спешили открыть огонь. А издатель «Нового времени» Суворин поспешил зачислить актрису в число своих протеже. Его газета с первого спектакля стала засыпать похвалами все выступления Стрепетовой.
Хотел ли он выслужиться у прогрессивно настроенных зрителей? Или, умный и дальновидный политик, привыкший из всего извлекать для себя пользу, он счел выгодным не заметить главного содержания искусства актрисы? Или уже тогда начал осуществлять свой хитроумный план завоевания Стрепетовой? Трудно сказать. Но пока даже его поддержка не могла помешать общественной репутации актрисы.
Огромная человеческая правда, которую открывала Стрепетова, ее обнаженная совесть и нетерпимость к несправедливости находили живой и активный отклик зала. Молодежь угадывала в созданиях актрисы активный героический порыв. А это было как раз то, чего искали и к чему стремились, рискуя головой и свободой, смельчаки, готовые выступить против реакции.
Реакция их не щадила. Малейшая попытка общественного протеста вызывала жесточайшее преследование. Передовая интеллигенция подвергалась гонениям. Стремление защитить справедливость осмеивалось, выдавалось за акцию, направленную против интересов народа.
В те дни Салтыков-Щедрин написал в письме к Анненкову:
«Политические процессы следуют один за другим, не возбуждая уже ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою».
Автору письма каторга как будто не грозит. Но его ближайших сотрудников по журналу разгоняют и высылают в даль от столицы. Да и самому редактору приходится туго. Кажется, ни один номер «Отечественных записок», во главе которых стоит знаменитый сатирик, не обходится без ножниц цензуры. Иногда аресту подлежат целые номера. О цензорах Салтыков-Щедрин с гневным отчаянием пишет, что «они за последнее время точно белены объелись». А они вырезают то рассказ самого Щедрина, показавшийся неблагонадежным. То «Пир на весь мир», одну из частей поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Нужно ли удивляться, что умирающий от мучительной болезни поэт, еще и оскорбленный смертельно в канун своей гибели, пишет трагические строчки стихов:
Черный день! Как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба…
Эти стихи любимейшего своего поэта Стрепетова не раз вспомнит, когда она сама будет приговорена к смерти тяжелой болезнью.
Но сейчас небо к ней еще сравнительно милостиво. И даже свирепая цензура не может придраться к пьесам, которые она играет. Потому что ее гражданская позиция, раздражающая начальствующих лиц, заключена не в тексте, произносимом со сцены, а в самой личности актрисы.
Враждебная сторона еще ничем не проявляет себя. И двусмысленность положения актрисы сказывается разве в том только, что город, который ее боготворит и ревниво отстаивает свои права на нее, не может ей дать постоянной работы.
Она уезжает и приезжает гостьей.
Ее спектакли имеют сумасшедший успех, но обставлены кое-как, небрежно. Ее окружают доморощенные исполнители, собранные наспех организаторами гастролей. Даже участие Писарева облегчает задачу, но не решает коренных сложностей, связанных с гастрольной системой жизни. Как бы ни любил артистку Петербург, ничего, кроме неприспособленных клубных помещений, он для ее спектаклей предоставить не может. И она вынуждена играть в жалком окружении полулюбителей-полуремесленников. И довольствоваться допотопными, балаганного уровня, сценическими эффектами, вроде орехов, пересыпаемых из мешка в мешок и заменяющих гром.
А после таких спектаклей разламывается от боли голова, нервы приходят в негодность. И самое страшное: надо опять уезжать.
Правда, теперь ей есть куда возвращаться.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
У нее появился дом. Но ее домом он так и не стал.
Квартира в Штатном переулке, почти на углу Остоженки, была удобна и достаточно велика. Благословенную тишину нарушал только бой старинных часов. Звук шагов поглощали ковры. И вещи не надо было упаковывать каждый раз заново и таскать с места на место. Отбиралось только то, что могло понадобиться в поездке. И книги стояли в больших шкафах, и можно было снять любую без затруднения, а потом водворить обратно на полку. А покоя все-таки не было.
Писарев прожил здесь с перерывами чуть ли не всю жизнь. Когда, возвратись откуда-нибудь, он снимал выходной костюм и надевал, по примеру Островского, мягкие сапоги, поддевку и шаровары, он чувствовал себя уютно и прочно.
Тут стоял его письменный стол, его удобно продавленное кресло, его шкафы с книгами. А за стеной бесшумно руководила хозяйством его мать.
К Стрепетовой она относилась настороженно и слегка свысока.
Она была достаточно воспитанна, чтобы не устраивать сцен, не доводить до скандалов, не вмешиваться гласно в отношения сына с женой. Но ее сдержанное неодобрение Стрепетова ощущала ежеминутно. А ее высокомерная, чуть видимая улыбка могла довести до бешенства.
Даже если ее и не было рядом, она сидела на другой стороне дома в своей комнате или занималась с прислугой, Стрепетова не ощущала свободы. Она и здесь жила гостьей, и иногда ей казалось, что она слишком засиделась и давно пора уходить.
Очевидно, она и сама была виновата, что так получилось.
Она не искала путей сближения. Едва почувствовав недоброжелательство, она ответила агрессивным уходом в себя. Ее нервность, уже переходившая в истерию, нередко выливалась на Писарева. Его матери это не могло быть безразлично.
К славе Стрепетовой она относилась с невольной ревностью. Ей казалось несправедливым, что эта слава затмевает успех сына. А коль скоро он уже стал, наперекор желанию ее и покойного отца, артистом, мать хотела видеть его везде первым.
В глубине души она считала, что Стрепетова придерживает его за поводок, чтобы не пропустить вперед. И в том, что всеми любимый и почитаемый Писарев в спектаклях Стрепетовой как бы аккомпанирует ей, а главную мелодию ведет она, мать видела проявление злой воли, а не соотношение талантов. Поэтому она склонна была недооценить и самый талант. И хотя она не позволяла себе высказывать вслух то, что думала, Стрепетова, с ее обостренной чувствительностью, об этом знала. И уж за скрытое и корректное неодобрение платила прямой неприязнью.
Зная, что никакой подлости она совершить не может, Стрепетова и не могла признать себя неправой. Про себя она чувствовала, что только отвечает на чужую несправедливость, а, значит, верила и в свою правоту. Формы же выражения своих ощущений она всегда считала второстепенными. В благовоспитанном дворянском доме им придавалось большое значение.
Стоило Писареву заметить ее бестактность, деликатно вступиться за мать, как Стрепетова адресовала упреки ему. В сравнении с подтянутой внешне и внутренне матерью Стрепетова проигрывала. Ей не хватало ни тонкости манер, ни тонкости дипломатической. Если иногда, скорее уловив кожей, чем услышав обиду, ей удавалось промолчать, она в следующий раз схватывалась уже с удвоенным накалом протеста.
Видя огорчение Писарева, она расстраивалась. Давала слово и ему и себе. Старалась быть вежливой и внимательной. Но все равно срывалась, потому что вообще ничего не умела таить в себе. Малейшая обида клокотала в ней и подбиралась к самому горлу до тех пор, пока она не выкладывала ее в лицо обидчику.
Но и первоначальная сдержанность Писаревой тоже сменилась раздражением. Оставив величавую снисходительность, она по каждому поводу отпускала ядовитое замечание. Ее уколы были менее явны, но глубже вонзались. Давая понять, что брак сына, потомственного дворянина и аристократа, с плебейкой Стрепетовой – мезальянс, свекровь всячески подчеркивала духовное неравенство между ними. Стрепетову это доводило до исступления.
Домашнюю рознь усиливали братья Писарева. Они, разумеется, во всех случаях были на стороне матери и упрекали Писарева в недостатке заботы о ней.
Кажется, он готов был прислушаться.
Жизнь в доме для всех становилась невыносимой. Стрепетова мечтала отделиться. Пожить, как она писала, «своей квартирой». Писарев не соглашался переехать от матери.
Мира в доме не получалось.
Еще когда большая часть времени проходила в гастролях, все было проще. Они часто оставались вдвоем. Смена мест и отсутствие домашнего гнета шли на пользу. Даже возвращаться в Москву, зная, что скоро опять предстоит дорога, было легче. Но когда перед рождением сына и первое время после него пришлось прочно-засесть в Москве, домашняя рознь обострилась до крайности.
Сын, Виссарион, названный так по имени любимого критика, притягивал к дому. Атмосфера в семье, доведенная до кипения, гнала вон. Куда угодно, но вон.
Кроме всего, Стрепетова стосковалась по работе. Ей так хотелось играть, что она не дождалась выздоровления. Она уехала в Петербург для всех неожиданно, обрадовавшись первому приглашению.
Вероятно, этот поступок был безрассуден. Вернувшись из очередной поездки, Писарев не застал жены. Он знал, что она перед тем очень серьезно болела, и не понимал, почему она его не дождалась. Могла ли она объяснить то, что чувствовала?
Дома ей становилось страшно. Однажды, во время болезни, она услышала, как в другой комнате молится мать. Среди общих слов молитвы она различила обращение к богу, у которого Писарева просила послать смерть жене сына.
Вполне возможно, что это случилось не на самом деле, а в бреду. Может быть, никогда мать Модеста Писарева, религиозная и порядочная женщина, не решилась бы на такое кощунство. Может быть, все это и померещилось в плохом сне, – никто бы не мог узнать правду. Не знала ее и Стрепетова. Но так как она не чувствовала ни тени любви к себе, она легко поверила в ненависть. Жить с этим изо дня в день было пыткой.
Ее терзало и то, что Писарев где-то там на гастролях играет с другими. И что он, возможно, даже рад избавлению. И то, что она сейчас не нужна ребенку, которого за время ее болезни приручила опытная умелая няня. И больше всего мучило то, что она долго не выступала и тянулась к сцене, но и впервые в жизни боялась ее.
Она работала в Озерках, популярном пригороде столицы.
Ее прекрасно встретила публика. Летом в Озерках давно уже установилась традиция частных спектаклей, объединявших разных артистов. Инициатива принадлежала кому-нибудь из деловых александринцев. Но играли и провинциальные знаменитости, и молодежь. Для некоторых Озерки были трамплином к казенной сцене. Поэтому исполнители старались и в меру сил играли серьезно.
В это лето зачастили дожди. В Озерках было сыро. В антрактах Стрепетова зябко куталась в теплый платок, как будто вместо июля шел октябрь. Она уставала и от спектаклей, и от ежедневных переездов из города в Озерки и обратно. Она и работала больше обыкновенного.
Иногда ей казалось, что она не дотянет представления. Но подходил помощник режиссера, звал на выход, и силы откуда-то являлись сами.
Тяжело было еще то, что приходилось много готовиться к спектаклям. Она либо не могла уснуть от усталости, либо боролась со сном, не успевая выучить роль. Она писала Писареву ночью, зная, что никто не может помочь ее безысходному одиночеству.
«Пью черный кофе, чтобы не спать, и учу к завтрашнему спектаклю „Шейлока“ („Венецианский купец“ Шекспира. – Р. Б.) – переписываю всю роль… потому что буду играть в переводе Вейнберга и вклеиваю уже готовые прежде монологи по Григорьеву…»
Но стоило ли столько лет бороться за свою любовь, мириться с изменами и с горя изменять самой, терпеть жизнь в чужом неприветливом доме, чтобы теперь снова бороться в одиночку и не ждать помощи, как бы тебе ни было плохо? И совсем как когда-то, когда она действительно была одна и жаловалась Шуберт на одиночество, она пишет из Петербурга мужу:
«Замучилась я страшно все это время – каждый день в Озерках, или репетиция, или спектакли, всюду одна должна быть(выделено мною. – Р. Б.),хлопотать обо всем, замаешься так, что теперь у меня каждый кусочек кожи болит, а по ночам учиться нужно, иначе времени не хватает…»
И опять, как когда-то, жалуется, что «денег выходит масса на разъезды, на костюмы…»
Но больше всего волнует, что идет время и опять она может упустить что-то самое важное.
Самое важное для нее – театр. Потерянный год вырастает в ее глазах чуть не в целую жизнь. Ей кажется, что все научились чему-то, чего она не знает. Что остальные ушли вперед, а она осталась на месте. И все это видят.
Успех помогает ей, но не успокаивает. Ни остановки, ни отдыха она себе не дает. И, по ее выражению, «учится» по ночам, потому что «как ни тяжело, а необходимо – очень уж я отстала от всего…»
И она несется в своей упряжке дальше, не переводя дыхания, иногда падая от изнеможения, чтобы только не быть позади. А преграды вырастают сами собой. Со всех сторон. Иногда совсем неожиданно.
Одной из главных преград становится дом и любимые люди.
Домашний узел развязать уже невозможно. Его можно только рубить.
И Стрепетова рубит. Как всегда, сгоряча и уже безвозвратно. Так же сгоряча она соглашается на предложение Писарева купить землю. По каким-то сложным соображениям братья Писарева поддерживают, а может быть, и внушают ему идею выкупа принадлежащей им всем собственности.
Стрепетова готова на все, чего хочет Писарев и что снимет необходимость возвращения на Остоженку. Один из главных аргументов покупки – свежий воздух, в котором нуждаются она и сын. В результате она становится совладелицей небольшого подмосковного имения в Кипелове.
Но свежий воздух не идет ей на пользу.
Имение стоит в сыром месте. От запаха торфяных болот некуда скрыться. Хозяйство с протекающим домом, огородами, лошадьми и кормами нуждается в непрерывных заботах, а главное, в деньгах. Кипелово «съедает» все заработки, но не сулит никаких доходов. Оставлять там надолго сына с чужими людьми страшно. Слишком далеко от города, от врачей, от всего, что может понадобиться, если он захворает. Пугает и нездоровая кипеловская влажность, дурнопахнущие и вредные испарения торфа. Они могут повредить мальчику. А брать его с собой – некуда. Значит, надо опять переселять его в ненавистную квартиру в Штатном переулке.
Все эти вопросы встают каждый день. Вместо облегчения, имение ложится на плечи дополнительным грузом. Не зря Стрепетова считает, что она взяла на себя еще один тяжкий крест.
Опять забота – «хоть бы расплатиться с долгами, которые сидят на душе, и подумать о будущем сына».
Два лета, проведенные в имении, нисколько не спасли положения. Хозяйство разваливается, рассыпается по кускам. Зимние гонорары, достаточно крупные, целиком пожирает Кипелово, а убытки все равно не покрыты. Какой-то заколдованный круг. Едва перервешь его в одном месте, он замыкается снова.
Единственные реальные результаты помещичьей жизни – безденежье и резкое ухудшение здоровья.
Диагноз, который поставил один из верных друзей Стрепетовой, выдающийся русский врач и общественный деятель Сергей Петрович Боткин, не слишком определенен. «Снова острое воспаление кишок… вероятно, от простуды или тряски…» Или от того и другого вместе. Суть от этого не меняется, и боли не стихают.
Она лежит одна. Опять в каких-то меблированных комнатах. Высокая стена напротив косо срезает кусок недоброго петербургского неба. Тусклый день не похож на весенний. Ветер гулко и: мерно расшатывает высокий фонарь за окном. Безлюдье обычно забирается в комнату к ночи.
Уже потерян счет дням. Она лежит больше месяца. Спектакли сорваны. Кончаются деньги. Она просит у Писарева: «Пришли мне денег 100 р., у меня нет ничего…»
Лежа трудно писать. От слабости слова остаются недоконченными. Карандаш нечеток, и буквы косят в разные стороны. На дела обступают и, хочешь – не хочешь, надо в них разобраться. Она советует Писареву:
«Лишних лошадей не держи, продай серого и другого малиника, для чего они стоят и корм тратится, да еще там лишняя лошадь, без меня купленная… все хорошо при тебе, но помни, целый год ты не будешь в Кипелове, все перепортят без тебя…»
Потом она вспоминает о долгах и спрашивает тревожно: «нельзя ли весной продать торфу…»
Но беда все-таки не в лошадях и не в торфе, и даже не в долгах, которых она боится. Стрепетову гнетет бессмыслица сделанного, нелепость, на которую ушло столько сил, еще одна несуразица, навредившая и ей, и ее отношениям с Писаревым. Она опять и опять убеждает его в своей правоте.
«Пока я жива, нужен летом полный отдых, хотя и в двух комнатах, а не опять заботы, работа, хозяйство…»
Непостижимо, что он не понимает этого сам даже теперь, когда она так длительно и серьезно больна. И она снова приводит факты, убийственные и неопровержимые.
«Вот и напрасно было заводить большое хозяйство, лошадей, сады и огороды. Только дыры постоянные, жить нам нельзя в деревне, пока я жива… Мужик и тот зиму хотя отдыхает, а мы что за прокаженные, весь год, как водовозные лошади…»
И, исчерпав все доводы рассудка, она почти кричит со страниц письма:
«В Кипелове я найду гроб только!.. Жить по-прошлогоднему не буду!..»
Она вообще не уверена, что будет жить. Недаром она так часто и не для того, чтобы напугать, а потому что уверена в этом, говорит «пока я жива», «если буду жить», «хоть и живу еще».
Она так убеждена в непродолжительности своего существования, что печально и искренне обещает:
«Понянчайся еще годок, авось какой-нибудь конец да будет».
Но все-таки, «пока жива», она не может допустить «прошлогоднешнего». А как, где, каким образом жить иначе, она тоже не знает. Она смертельно тоскует без сына и потому думает о Москве. Но деться ей фактически и там некуда.
«Остановиться я не могу у твоей матери, первое: я дала слово, для сохранения здоровья, не жить в чужом доме».
Она уже и вслух называет его чужим!
«Второе – вид один Л. Н. для меня неприятен». И Стрепетова с ужасом напоминает: «эта женщина молилась о моей смерти, а я почти умирающая действительно…» И дальше с содроганием уточняет: «…ее точенье целый день, поддразнивание, хвастовство – все невыносимо…»
У нее никогда не было такой уймы свободного времени, как во время болезни. Ей некуда деться от своих тревог и раздумий. Ее преследуют все те же вопросы. Плохое разрастается внутри, как опухоль. И давит физически даже во сне. Давит больше, чем боль в желудке. Стрепетовой хочется разобраться спокойно, без истерики и плавящего мозг гнева.
«Согласись, Модест, – увещевает, а не грозит она, – что нельзя же нам жить все время – я в одном месте, ты – в другом… Эта… разрозненная жизнь для меня тяжела, лучше жить отдельно! Хочешь быть настоящим мужем и женой, будем жить вместе, поддерживая и успокаивая друг друга. А то я и одна умру!..»
Совсем просто! Даже беззлобно! Как будто и слепое, беспробудное одиночество и смерть – будничные обстоятельства, не больше! Как будто она уже примирилась с тем, что «должно, явилась в жизнь одинокой, так и жизнь покончить» надо бы!
По существу, она не так далека от истины. Что другое, а одиночество разделит с ней жизнь до конца. Но конец наступит нескоро. И только тогда, когда у нее отнимут театр. Сейчас, как бы ей ни было плохо, театр сохраняет и веру, и смысл существования.
« Да, главное, я хочу жить для сцены» (разрядка моя. – Р. Б.), – пишет она.
И потому, что хочет, находит в себе силы жить.
Как это ни трудно. Как иногда даже ни оскорбительно. Потому-то она и констатирует без всякого гнева, с покойной и оттого еще более страшной обреченностью:
«Стало быть, я уже вполовину мертвая, ты играешь „Горькую судьбину“ и с чужой женщиной…»
«Чужая женщина» – известная провинциальная актриса А. Я. Глама-Мещерская. Стрепетова чутьем угадывает, что для Писарева эта женщина уже не только партнерша. Но то, что он играет с чужой артисткой именно эту, ее, стрепетовскую пьесу, ужасает ее даже больше, чем возможный роман с другой женщиной.
И если Стрепетова «вполовину мертва», то другая ее половина живет предчувствием и потребностью в сцене.
Театр, и только театр – в который уж раз! – опять возвратит ее к жизни.
Она еще не победила болезнь. Не решила, где будет жить. Не выяснила, как сложатся ее отношения с Писаревым. Не смогла примириться с собой, и ее терзали сомнения. Она писала в то время:








