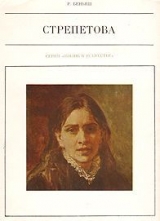
Текст книги "Пелагея Стрепетова"
Автор книги: Раиса Беньяш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Последние слова роли Стрепетова произносила тусклым, по-лубредовым шепотом. Детски нетронутый ум изнемог под тяжестью жизненного прозрения. Еще секунду назад был живой, страдающий человек, пытавшийся воевать с миром лжи и нелепой жестокости. Сейчас на сцене стояло существо, отделенное гибельной чертой от жизни. Волю, которую не удалось сломить грубыми истязаниями, победил непосильный подвиг.
В зрительный зал смотрели недвижные глаза сумасшедшей. Ровным стеклянным голосом она снова и снова твердила одну и ту же фразу:
– Маменька, что вы со мной сделали?..
И в бесплотном, уже неживом голосе слышалось прямое обвинение миру, где можно за дверьми приличного дома уничтожить человека. И никто за него не вступится. Никто не предотвратит непоправимое нравственное убийство.
«Если вы еще не видели госпожу Стрепетову, – идите и смотрите. Я не знаю, бывала ли когда-нибудь наша сцена счастливее, чем стала теперь, с приездом этой в полном смысле артистки-художницы…» Так писала «Камско-Волжская газета» после первого выступления Стрепетовой в Казани. Признанный центр русской театральной провинции объявил Стрепетову великой актрисой. Ее имя сразу выдвинулось за границы обычных театральных оценок.
Она не украсила труппу Медведева и не вошла в нее составной частью. Ее появление взорвало мирный пейзаж театральной жизни. Стрепетова внесла в него беспокойство, мятежность, страстный призыв к общественным переменам.
В Казани к этому не привыкли.
Театр в городе очень любили. Им даже по праву гордились.
«Театр был каменный, уютный, светлый, вместительный. Освещался он керосином. На занавесе был изображен памятник Державину с видом Казани со стороны Волги, а в окружении летали амуры в соблазнительных позах – одним словом, чтобы зрителям было и поучительно, и приятно. Начальство к театру относилось со вниманием и даже предупредительно. Начальник губернии, Николай Яковлевич Скарятин, был большой театрал, а за ним и предводитель дворянства, и городской голова, и полицмейстер, и ректор университета, милейший Николай Александрович Кремлев, – все они были постоянными посетителями театра и кулис… Медведев любил, чтобы театралы бывали за кулисами, для чего было устроено особое фойе за сценой, где и сходились артисты и их поклонники.
– Во-первых, вы услышите компетентное суждение людей образованных и со вкусом, – говорил Медведев актерам, – а во-вторых, привыкнете держать себя просто с людьми и не нашего круга, позаимствуете хороший тон и просто отдохнете от сальных анекдотов и однообразия кулис».
Очевидно, не эти посетители кулис, представители «высшего» круга, так естественно вписанные в идиллическую картину театрального быта, воссозданную современником Стрепетовой актером Давыдовым, определяли сокрушительный успех актрисы. Кроме начальства, постоянного посетителя кулис, в Казани, университетском городе, было много интеллигенции и учащейся молодежи. Для них «амуры в соблазнительных позах» не были ни «поучительны», ни «приятны». Они восставали против засилья оперетты и фарсов, излюбленных богатыми завсегдатаями кресел. Балансировать между той и другой публикой антрепризе было совсем нелегко.
Осенью того года, когда в Казань приехала Стрепетова, фельетонист «Казанского биржевого листка» высмеивал зрителей, ради которых Медведев терпел опереточные представления «с разными приправами, действующими сильнейшим образом на наших старичков и вызывающими у них неподдельный восторг».
В несколько более скромных выражениях позволяла себе критиковать театр и ведущая «Камско-Волжская газета». Ее рецензент прозрачно намекал на то, что вкусы богатой публики слишком явно дают себя знать в художественной политике театра и отнюдь не служат ее украшению.
Правда, уже через несколько дней газета печатает полемическую статью другого автора. Анонимный противник уверенно и развязно доказывает, что именно оперетка является «камертоном современного вкуса и жизни». Но недаром пламенный защитник развлекательного репертуара стесняется назвать свое имя. Видимо, и он, и его сторонники понимают, что признание оперетки «камертоном современной жизни» не делает им чести.
И что существует иной камертон современности, и более звучный, и более достойный.
Были в Казани зрители, которые не искали в искусстве успокоительной приятности. Эти зрители жили в тревожном предчувствии перемен и чутко прислушивались к общественному пульсу своего времени.
А пульс был неровным, судорожным, настораживающим.
Уже с апреля 1866 года, после выстрела Каракозова, неудачно покушавшегося на жизнь Александра II, реакция перешла в наступление. Скрытая какое-то время под маской либерализма, она открыто ринулась на борьбу с вольнодумством.
Вольнодумство мерещилось всюду: в городе и в деревне; в закрытых учебных заведениях и в армии; в частных газетах и в государственных департаментах; и больше всего, как обычно, оно чудилось в искусстве и в литературе.
Самодержавие отказалось от застенчивого прикрытия охранительных тенденций. Временная игра в свободу была прервана резко и откровенно. Действия правительства словно стремились доказать, что никакие общественные реформы не могут изменить коренные отношения общества, установленные в Российском государстве.
Через три года после опрометчивого выстрела в Летнем саду А. В. Никитенко, отнюдь не склонный к чрезмерному свободолюбию, отмечает в своем дневнике: «…Одной рукою мы производим или стараемся произвести улучшения, а другою их подрываем: одною даем, а другою отнимаем. Мы установляем новые порядки и тотчас же спешим сделать их недействительными… Нам хотелось бы нового в частностях, с тем чтобы все главное осталось по-старому».
А так как насильственное возвращение к старому рождает протест, так как неминуемая жажда обновления жизни вызывает брожение в умах, хозяева положения торопятся принять свои меры. Политика ограничительной свободы человека сменяется жестким ограничением всех человеческих прав. Делается это с топорной прямолинейностью и угодливой старательностью.
В 1870 году тот же Никитенко фиксирует в своем дневнике, что шеф жандармов Шувалов «работает неутомимо. Он беспрерывно высылает то того, то другого в отдаленные губернии, забирает людей и сажает их в кутузку – все это секретно. Все в страхе: шпионов несть числа… Сочиняются заговоры по всем правилам полицейского искусства или ничтожным обстоятельствам придаются размеры и характер заговоров».
Как всегда, чтобы отвлечь народ от истинных бедствий страны, вызываются к жизни самые темные человеческие инстинкты, и нехитрые дипломаты пускают их по ложному следу.
Впрочем, кое-какие полицейские мероприятия из «совершенно секретных» с воспитательной целью объявляются гласными.
В 1871 году, том самом, когда Пелагея Стрепетова выступает в Казани, полиция назначает первый в России публичный процесс политического характера. Перед судом предстает тайная организация, называемая «Народная расправа». Фактически суду подлежит свобода воли и мысли.
При всех противоречиях «Народной расправы», при всех опасных заблуждениях ее руководителей, их смелость, их самоотверженная попытка облегчить жизнь обездоленного народа вызывает сочувствие прогрессивной России. Жестокий и несправедливый суд свидетельствует о полной незащищенности человека, о пренебрежении к его достоинству и правам. На трусливых произвол действует устрашающе. В честных вызывает активное противодействие.
Открытая демонстрация жандармского режима возрождает и открытую ненависть к существующей системе жизни. Подавление мысли заставляет мыслящих людей задуматься о причинах репрессий. Свобода, которой намертво затыкают рот, мучительно ищет выхода. Особенно среди молодежи, всегда склонной опровергать затверженные правила и установленные насильно нравственные заграждения.
Размышляя наедине с собой, Никитенко записывает в дневнике:
«…Говоря о причинах наших печальных волнений, нельзя не сказать того, что в юношах невольно зарождается ненависть и презрение к такому порядку вещей. И что тут действует не одна нравственная распущенность, но и кое-какие благородные побуждения».
Искусство Стрепетовой непосредственно отвечает этим благородным побуждениям. Сценические создания актрисы поражают своей жизненной силой, душевной цельностью, могучей любовью к поруганному и обездоленному человеку.
Стрепетова раскрывает судьбу русской женщины без прикрас, во всех ее противоречиях и волнующей правде. Оскорбленная и униженная женская душа находит в искусстве нового, пылкого и самоотверженного защитника. Все творчество актрисы, весь ее художнический и гражданский пафос пронизаны глубочайшим сочувствием к народу, страстным стремлением доказать его жизненные и духовные права.
Об этих правах Некрасов пишет с лаконичной и исчерпывающей точностью.
Мужчинам три дороженьки:
Кабак, острог да каторга,
А бабам на Руси
Три петли: шелку белого,
Вторая – шелку красного,
А третья шелку черного,
Любую выбирай!..
Почти все героини Стрепетовой кончают петлей в прямом или переносном смысле. Чаще – в прямом. Актриса приводит с собой на сцену почти всегда человека страдающего, сломленного, гибнущего. Именно эти черты наиболее близки ее трагическому таланту. Но ее притягивает к героям не искательство муки, не опустошенность или безверие, а верность реальности, соответствие театральной правды драматической правде жизни.
Сострадание к человеку, раздавленному жестокой действительностью, уже и в ту пору одерживает верх над темой страданий. Проповедь смирения и покорности, с которой выступает Достоевский и которая захватывает широкую сферу влияния, для Стрепетовой невозможна и к ней неприменима.
Большую половину жизни актриса выступает с открытым бунтом против подавления и унижения человека. Бунтарство проникает в любой ее сценический образ.
Катерина, которую Стрепетова постигает и совершенствует постепенно, уходя из мира, обвиняет его в уничтожении человека. Аннета бередит совесть, зовет к борьбе, напоминает о долге человечества перед человеком. Лизавета судит мир за бесчеловечность его законов.
Протестующие, революционные ноты, которые притягивают к Стрепетовой прогрессивно настроенных зрителей, настораживают любителей тишины и общественного порядка. И мера, вернее безмерность ее успеха, и его неприкрытый обличительный пафос вызывают противодействие. Вместе с ростом влияния укрепляется и фронт противников.
С первых же казанских триумфов и уже на долгие годы искусство Пелагеи Стрепетовой становится ареной ожесточенной общественной борьбы. Даже обычное закулисное соперничество, внутритеатральные обиды и претензии обострены скрытым, но непримиримым столкновением жизненных позиций.
Далеко не всегда враждующие стороны отдают себе отчет в истинных причинах их разногласий.
В казанской труппе у Медведева жили сравнительно мирно.
Культура и любовь антрепренера к своему делу проявлялись во всем.
Спектакли обставлялись продуманно, тщательно, с заботой о соответствии всех элементов. Декорации писались специально к пьесе или подбирались старательно, по возможности достоверно. Медведев неустанно следил за слаженностью спектаклей и репетиции из простой считки пьесы по ролям превращал в творческий процесс.
Превосходный артист, он обладал природным режиссерским чутьем и не только понимал исполнителей, но и умел воодушевить их, зажечь, направить интуицию по верному следу. Поэтому даже средние артисты, не говоря уже о талантах, существовали на сцене осмысленно, понимали, что делают, выполняли какую-то общую задачу.
В ту пору это было редкостью не только в провинции, но даже в столице. Недаром служба у Медведева уже сама по себе означала для актера переход в более высокую категорию и нередко становилась пропуском на сцены императорских театров.
И по уровню жизни актеры медведевской труппы резко отличались от своих провинциальных коллег. В отличие от всех почти антрепренеров, Медведев работал не для наживы. Театр был для него главным содержанием жизни, а не доходным предприятием. Актеры знали, что, независимо от состояния кассы, они получат все, что им причитается, и это давало ощущение надежности, пусть временного, но прочного покоя.
Медведев не скаредничал, не создавал капитал за счет своей труппы и платил жалованье щедро, не скупясь на ставки, а иногда и превышая их. Уже за два первых месяца работы Стрепетовой Медведев заплатил ей семьсот рублей, на двести рублей больше назначенной суммы. И без всяких просьб с ее стороны. Случай не только редкий, но в другом театре решительно невозможный.
Конечно, вознаграждение было заслуженным. Появление Стрепетовой на казанской сцене привлекло всеобщее внимание. В театр хлынула вся местная интеллигенция и особенно молодежь. Сборы поднялись внезапно и резко. Успех актрисы стал успехом всей труппы и принес явную пользу антрепренеру.
И все-таки, какой другой антрепренер проявил бы при этом такую широту и щедрость!
Общая культура Медведева сказывалась и в его отношениях с артистами, и в умелом подборе труппы, разносторонней и богатой дарованиями.
Стрепетова застала здесь самарских своих партнеров, Ленского и Писарева. За короткое время они стали неузнаваемы. Вероятно, их образованность, человеческая глубина и воспитанный вкус сыграли немалую роль в формировании их актерского мастерства.
Медведев внимательно следил за раскрытием талантов Давыдова и только что расцветавшей Савиной. Будущие премьеры Александринской сцены, они пока набирали силы и пробовали вкус первых успехов. Медведев относился к ним бережно, поощряя своеобразие таланта и предчувствуя его масштабы.
Особое положение в труппе занимала актриса на роли пожилых героинь Александра Ивановна Шуберт. Ее влияние было значительным и облагораживающим.
Сменив Александринский, а затем и Малый театр на провинцию по личным мотивам, Шуберт чувствовала свою независимость. Она получала довольно большую пенсию, на которую могла бы прожить безбедно. Но она любила театр, была тонкой актрисой, и театр не мог ее не ценить. Таким образом, сами обстоятельства ее жизни создавали какую-то привилегированность, выделявшую Шуберт из других. Но больше всего ее выделяли интеллигентность, изящный и чуткий ум, знание сценических законов и врожденный педагогический дар.
Гостеприимная, обставленная со строгим вкусом квартира Шуберт была притягательным центром для всей казанской художественной интеллигенции. Особенно она привлекала молодых актеров.
Шуберт не только владела сценическим мастерством. Она умела передавать его другим. И делала это с любовью, с полной душевной отдачей, с чудесным доброжелательством и совсем ненавязчиво. Она и помогать людям в беде умела почти незаметно, делая хорошее так, будто человек, принимавший ее помощь, ей же оказывал благодеяние.
Молодым премьершам ее советы заменяли театральный университет. Опыт, которым она делилась с неограниченной щедростью, был для них школой высшего актерского мастерства. И Савина, и Стрепетова запомнили эти уроки на всю жизнь. Шуберт стала для них не только неоценимым педагогом, но и нравственным критерием. С ней сверяли они свои поступки, планы и жизненные решения. В соответствии со своими характерами, каждая искала у Шуберт то, в чем больше всего нуждалась.
К сожалению, ревнуя порой Шуберт к Савиной, которую та действительно любила с материнской нежностью, Стрепетова выполняла далеко не все из того, что советовал ей опытный и бескорыстный друг.
Не то чтобы Стрепетова не доверяла в чем-нибудь Шуберт или считала ее несправедливой. Но, по своей экзальтации и склонности к преувеличениям, она готова была увидеть пристрастие там, где действовала объективность. Достаточно было Шуберт высказаться о какой-то роли в пользу Савиной, чтобы Стрепетова в свойственной ей резкой манере отвергла все доводы. Любое замечание, берущее под защиту интересы другой актрисы, пока еще даже и не враждебной, Стрепетова все равно воспринимает как покушение на свои права. Она так долго мечтала об этих правах, что не хочет ни делить их с другими, ни умерить ради себя самой.
После нескольких лет скитаний по глухим городам провинции, после вынужденного бездействия Стрепетова набрасывается на работу. Общая культура спектаклей и накопленный опыт не проходят даром. Творческий уровень растет вместе с успехом. Успех диктует и положение в труппе.
На спектакли с участием Стрепетовой почти невозможно попасть. Ее имя с молниеносной быстротой завоевывает почитателей. После каждого выступления ей устраивают бешеные овации. Многие даже очень талантливые актеры оказываются в тени. Их заслоняет для зала новая и волнующая индивидуальность Стрепетовой. Самая репертуарная актриса, она, естественно, увлекается своим преимуществом любимицы публики.
Она играет так много, что ей некогда думать ни о ребенке, ни о своем неверном муже. Его громкие романы и маленькие интрижки перестают ее занимать. Девочка целиком предоставлена няне, и бывают дни, когда мать просто не вспоминает о ней. Она вся, головой, чувствами и нервами, уходит в театр.
Ей хочется наверстать все, что она потеряла. Она расходует силы за десятерых. Успевает за месяц больше, чем другим удается за целые годы. Она отдает себя искусству с такой страстью, будто хочет в ограниченный срок сделать все, что положено на целую жизнь. Она играет все, что хочет, и порой берется за роли, ей глубоко чуждые. На отбор у нее не хватает ни времени, ни мудрости.
Ее обличительному народному таланту решительно не удаются роли современного светского репертуара. Но она не отказывается от них, а иногда и настаивает на том, чтобы играть. Ей явно противопоказаны только что входящие в моду прихотливые, изысканно женственные характеры. Натуры утонченно-капризные, сотканные, по удачному выражению столичного критика, «из нервов и насморка», ей откровенно чужды. Но эти роли нравятся публике, а публика любит Стрепетову. За вспышку неуемного темперамента или две-три минуты драматического вдохновения она готова простить актрисе ее очевидное несовпадение с характером героини. И Стрепетова, которая в глубине души ощущает чужеродность материала, несмотря ни на что, берется за роли кокетливо-изломанных дам, героинь многочисленных «Светских ширм» и «Фру-Фру».
В ее исполнении они только в короткие мгновенья бывают достоверны и трогательны, а чаще всего смешны. Актриса закрывает глаза на это и, отгораживаясь от критики искренних доброжелателей, упорно продолжает играть роли, в которых она бывает невыносима.
Глеб Успенский захотел посмотреть наконец «эту знаменитую Стрепетову», о которой он со всех сторон слышал «просто чудеса». Как раз в те дни, когда известный писатель попал в город, Стрепетова выступила в пьесе «Кошка-мышка». Роль обольстительной кокетки Лауретты была скроена по шаблону средней переводной комедии. Успенский пришел посмотреть выдающийся талант, а увидел неопытную и некрасивую актрису, которая старалась выглядеть светской дамой и у которой это явно не получалось. Писатель прохохотал весь спектакль и уехал в полной уверенности, что над ним кто-то зло подшутил.
Через три года в Москве Успенский никак не хотел поверить, что актриса, перевернувшая все его представления о театре, и казанская исполнительница Лауретты – одно и то же лицо.
То, что увидел в Лауретте Успенский, видели и актеры медведевской труппы. Не удивительно, если многие из них готовы были преувеличить недостатки или рассматривать сквозь них все, что делала Стрепетова. Ее возникавшая на глазах слава в большей или меньшей степени мешала их собственному успеху или, во всяком случае, отодвигала его на второй план.
Стрепетова мешала не только прямым своим соперницам. Даже в актерах мужчинах, никак не заинтересованных в ее ролях, она порой вызывала неприязнь. Ее прямота была неудобна, а резкость и беспощадность взглядов вызывали раздражение. Что-то раздражающее было и в ее жгучем, требовательном искусстве. Даже умному, наблюдательному Давыдову творчество Стрепетовой было не по душе. Он писал потом:
«…Слухи о Стрепетовой и ее необыкновенном даровании были очень преувеличены. В Казани она появлялась впервые и ждали ее со страшным нетерпением. В такой обстановке актеру появляться и трудно, и рискованно! Всегда ждут чуда и бывают разочарованы, так как является смертный талантливый человек. Вышла Стрепетова в драме Куликова „Семейные расчеты“ в своей боевой роли Аннеты и публику покорила».
Давыдов уже не помнил того, что коронной роль Аннеты стала как раз после сезона в Казани. Но справедливости ради он заметил, что последующие роли актриса сыграла с возрастающим успехом. Объяснение этому Давыдов находит в том, что «публика соскучилась без настоящей драматической актрисы, как ни старалась Савина занять это положение».
И говоря о Стрепетовой дальше, Давыдов признается, что «никогда не был поклонником своеобразного дарования артистки».
Не удивительно, что она представлялась ему «маленькой, некрасивой, немного кривобокой, сутуловатой и жалкой во всей фигуре».
Правда, Давыдов видел, что, при всех этих качествах, «Стрепетова обладала умным лицом, глазами, дышавшими жизнью, и голосом, глубоко западавшим в сердце… Порой захватывала даже актеров, с ней игравших… В бенефис свой Стрепетова поставила „Горькую судьбину“, подкупив студенческую молодежь Писемским, но партеру и театралам она в роли Лизаветы не понравилась. Говорили, что очень вульгарна».
Но как раз то, что казалось партеру, а заодно с ним и будущему первому актеру императорской сцены, вульгарностью, – и составляло главное отличие актрисы. И именно реализм ее искусства, жизненность ее героинь, народность и натуральность ее исполнительской манеры казались противникам недостатком меры и вкуса.
В этом ее обвиняли чаще всего и не всегда напрасно.
За пределами своей сферы Стрепетова действительно страдала и излишествами и наивной прямолинейностью. Но самая сфера еще совсем не была такой замкнутой, как в позднюю пору жизни актрисы.
Она играла в Казани «Бедную невесту» и «Марию Стюарт», «Грозу» и «Коварство и любовь», «Горькую судьбину» и «Горе от ума». За Софью ее похвалил Давыдов. Людмила в «Поздней любви», где Стрепетова подчеркнула обычную свою тему самозабвенной борьбы за счастье, единодушно считалась удачей. Луиза была, быть может, недостаточно легка и грациозна, но зато захватывала силой любви.
Казанские знатоки, мнением которых дорожил Медведев, находили, что Луиза у Стрепетовой излишне угловата и порывиста. Они сетовали особенно на то, что в ее Луизе маловато пленительного изящества и что костюмы ее слишком бедны и мешковаты.
Едва ли эти ценители прекрасного знали о том, что такие же упреки, почти в тех же самых выражениях, сыпались за три десятилетия до того в Москве просвещенными театралами. Это было, когда на Московской казенной сцене так неожиданно возник в своем мешковатом мундире обычного армейского поручика Фердинанд великого русского трагика Павла Мочалова. Не случайно через несколько лет Писемский сказал про актрису: «Мочалов в юбке».
Стрепетова, как раньше Мочалов, увидела в шиллеровских героях прежде всего людей, израненных несправедливостью. Ее Луиза боролась не с коварством президента, а с беспощадным миром условностей и предрассудков. Актриса играла женщину, которая шла на все ради того, чтобы защитить свою любовь. И даже смерть Луизы звучала не как уход из жизни тихого и безвинного существа, а как сознательный вызов, брошенный людям, насильно оторвавшим от нее Фердинанда.
Все ли было хорошо в ее Луизе? Едва ли. Она и в самом деле разрушала в чем-то стилистику Шиллера. Какие-то детали оставались небрежными. Порой произношение шиллеровского текста резало слух своей вольностью. И условно-театральный костюм тоже был подобран случайно, без заботы о верности стране и эпохе.
Но то, что Луиза Стрепетовой из «голубой», почти бесплотной жертвы превратилась в женщину, способную даже в предсмертные минуты отстаивать свою любовь, вносило в спектакль героическую ноту. Некоторое несовпадение с шиллеровской эстетикой перекрывалось совпадением с настроениями зала.
Луизу Шиллера жалели. Луизой Стрепетовой восхищались. Ее подвигу хотелось подражать. Из ее стоической верности выводили нравственные уроки.
Исповедническое начало искусства актрисы пробивалось почти в каждой ее роли. Одних это свойство ее таланта магнетически притягивало. Других предубеждало. В Казани победили первые. В Орле, куда Стрепетова вместе с основной труппой Медведева переехала на следующий сезон, соотношение сил изменилось.
На реконструкцию театрального здания Медведев истратил огромную сумму. Те, кто раньше бывал в Орле, просто не узнавали театра, так он изменился и похорошел.
Все было новым: обивка кресел, мебель в фойе, театральный занавес. Декорации антрепренер выписал из Москвы и залил их ярким светом. Когда его упрекали в расточительстве, он отвечал, что хлопоты его и труды служат искусству, а деньги нужны только для того, чтобы кормить семью и «вот эту ораву». Под оравой он подразумевал труппу и говорил о ней ласково и даже горделиво.
Студенческой молодежи в Орле не было. Интеллигенция тоже не походила на казанскую. Орловская публика была другой и, по мнению многих, – прекрасной. Давыдов писал, что «окрестные орловские помещики составляли как бы ее ядро. Они не пропускали ни одного представления, бывали за кулисами.
Многие из них живали за границей, видели лучших европейских артистов. Беседовать с ними было одно наслаждение. Всех артистов Медведев посылал в фойе:
– Ступайте, ступайте! – говорил он. – Послушайте критику, которую нигде не прочтете!..»
Давыдов вполне разделял мнение своего антрепренера.
«…Только здесь, за кулисами, мы и слышали настоящую критику… критика была мягкая, доброжелательная, тонкая».
Нужно ли удивляться, что она не жаловала актрису, так явно не совпадавшую с ее идеалом? Давыдов был объективен, когда писал, что «орловские театралы боготворили Савину. Она постоянно получала цветы, конфеты. Стрепетова, с ее некоторой вульгарностью, не пользовалась большими симпатиями».
Причины этого Давыдов тоже объяснил совсем не двусмысленно. «Один из видных помещиков, проживший чуть не половину жизни в Париже, выразился о Стрепетовой так: „Это деревенский хлеб и притом дурно выпеченный. Мой желудок не сварит…“»
К оценке европеизированного гурмана из домовладельцев сам Давыдов относится сочувственно. Честность заставляет его добавить, что «Стрепетова, не особенно любимая требовательными театралами, пользовалась громадным успехом у более демократической публики». Той, которая шла в театр не за приятным развлечением, а за хлебом насущным. Эта, по мнению Давыдова, нетребовательная и невзыскательная часть публики слышала в творчестве Стрепетовой отзвуки передовой общественной мысли.
В Орле общественные интересы волновали не многих. Большинство было к ним равнодушно, а некоторых они отпугивали.
В городе «общественной жизни почти не было. Здесь жители ценили домашний уют, тепло семейного очага и деревню…
Некоторое оживление в провинциальную жизнь внесли начавшаяся тогда усиленная стройка железных дорог и введение гласного судопроизводства… Но все это не могло изменить старого провинциального быта, устоявшегося с незапамятных времен… По домам играли в картишки, занимались разведением тирольских канареек, по вечерам любители ходили друг к другу слушать их пение… Все жили за ставнями, жили тепло, сытно и уютно…»
Удивительно ли, что любители тирольских канареек и сытного уюта отнеслись к искусству Стрепетовой настороженно?
В конце концов, их трудно винить. Творчество актрисы разрушало патриархальный быт, за который они так цепко держались. Оно угрожало так тщательно охраняемой ими старой системе жизни.
Эти зрители морщились от черного хлеба. Стрепетова не признавала в искусстве ничего другого.
Они искали в театре прибежища от реальных и опасных для них новых жизненных коллизий. Стрепетова в любой своей роли говорила о противоречиях современной жизни. Они больше всего хотели устоявшейся тишины. Стрепетова каждым словом звала к перестройке действительности.
Могли ли они понять друг друга?
К сожалению, и почти все актеры, и сам Медведев в этой непрерывной, хотя и необъявленной еще войне чаще всего принимали сторону орловских законодателей вкусов. Они предпочитали искусство более уравновешенное и выверенное.
Стрепетова «играла… нервами, тратила столько сил, столько физического напряжения, что иногда расходовала себя на втором, на третьем акте и уже совсем разбитая доканчивала пьесу. На другой же день она вновь отдавалась делу с таким же самопожертвованием».
Свидетельство современника было честным. Но едва ли он знал, чего на самом деле стоило самопожертвование актрисе.
Впрочем, самопожертвование или, вернее, жертвенность Стрепетовой была ее естественной потребностью, органичной необходимостью, невозможностью жить иначе. Она отдавала всю себя сцене не потому, что не жалела сил, а потому, что иначе не могла бы существовать. Она боролась с природой и побеждала физическое недомогание яростным творческим темпераментом.
Она не была способна заботиться о своем здоровье, рассчитывать внутренние запасы, сберегать силы на завтра. Она на каждом спектакле опустошала себя и на каждом следующем возвращалась к жизни. Театр беспощадно сжигал ее, но был единственным источником жизненного топлива, целью и смыслом существования, дыханием.
Иногда, после того как кончался спектакль, казалось, что уже навсегда иссякли силы. Обморочное оцепенение отделяло от окружающего непроницаемой пеленой. Бешено учащенный пульс замирал, бился неровно и медленно. Переход к обыденному давался трудно, как выздоровление после тяжелой болезни. Перед ним надо было пройти через острый и обессиливающий кризис.
Но ночью, как всегда после спектакля бессонной, заливало вновь пережитое счастье. Ночью возникал в памяти зрительный зал, и лица, залитые слезами, и нестройные взволнованные благодарные выкрики, и буря аплодисментов, и особая, самая из всего дорогая, длительная тишина в зале.
Что бы ни говорили, но эта тишина действовала на самых отъявленных скептиков. Даже Медведев, вспоминая об игре Стрепетовой, напишет потом, что «…это было что-то ошеломляющее по силе и по впечатлению не только на публику, но и на партнеров… По вспышкам темперамента, по силе чувства и драматическому подъему это была единственная в своем роде актриса».
И видевший за свою жизнь все лучшее, что было на русской и европейской сцене, Медведев не мог найти объяснения тому колдовству, которое он наблюдал из спектакля в спектакль.
А в «Горькой судьбине», – подумать только! – после третьего акта наступало вдруг «гробовое молчание» и на сцене и в зале. И встревоженный антрепренер сам видел, что «актеры все стоят возбужденные, но неподвижные, как перед фотографом… Публика не шелохнется, все сидят, уставившись глазами на сцену… Какой нужен был страшный внутренний подъем, чтобы довести до столбняка не только публику, но и своих товарищей на сцене…»








