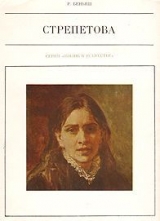
Текст книги "Пелагея Стрепетова"
Автор книги: Раиса Беньяш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
В Матрене нет ни жалости, ни раскаяния, ни сомнений. Есть помеха, которую нужно убрать, и, чтобы добиться этого, она то угрожает сыну, то униженно просит его. Материнская ласка в ее голосе, когда она уговаривает:
– Там в уголку выкопай ямку, землица мягкая-то, тогда опять заровняешь…
Ее слова скользят мягко и неслышно, как будто обволакивают Никиту привычным материнским теплом. Но в глазах, не отрывающихся от смутных очертаний дома, откуда вот сейчас, в эту минуту, кто-нибудь может выйти, – плохо скрытое беспокойство.
Легонько подтолкнув Никиту к погребу, где он должен закопать ребенка, Матрена выпрямляется. Улыбка сходит с ее сурового, потемневшего от ужаса лица. В эту минуту, когда ей не нужно притворяться и уговаривать, она поддается собственному страху. Она делает шаг и останавливается, словно не может оторваться от земли. В свете мерцающего тусклого фонаря ее лицо кажется ужасным. Но надо найти силы, чтобы довести до конца задуманное, чтобы увидеть Никиту богатым. Матрена опускает фонарь и, скрывая смятение, вновь успокаивает сына:
– Иди, иди, ягодка, а уж я потружусь, полезу сама, закопаю…
С поразительным трагизмом играла актриса последний акт.
Разгульная песня доносится из избы. Чуть подтягивая песне, перебирая в такт утомленными старческими ногами, Матрена, слегка навеселе, выходит на крыльцо, отыскивая пропавшего Никиту. Исчезновение сына грозит скандалом. И это все больше беспокоит ее. Судорожная тревога пробегает по лицу. Терпеливо и вкрадчиво, чтобы не рассердить сыночка, она умоляет его вернуться. Ее испуганные глаза опасливо шарят вокруг – не услышал бы кто-нибудь их разговора.
Как только Никита сдается на уговоры, Матрена пружинистым движением поворачивает к двери, громко подхватывает песню и ударом кулака раскрывает дверь в избу, хитро выдавая себя за пьяную.
Но когда она понимает, что все старания были напрасны, что Никита не выдержит, не совладает с охватившим его раскаянием, озноб ужаса пробегает по ее узким плечам. Сразу сникает голова в цветастом праздничном платке, и на дрогнувшем старом лице отражается бессмысленность совершенного злодейства.
В Матрене – Стрепетовой, при всей ее хитрости, при всей преступности, была какая-то вековая забитость, мешавшая ей понять разницу между добром и злом.
О Матрене Толстой сказал: «Матрену вовсе не надо играть злодейкой, какой-то леди Макбет… это – обыкновенная старуха, умная, желающая по-своему добра сыну. Ее поступки не есть результат каких-нибудь особенных злодейских свойств ее характера, а просто выражение ее миросозерцания. Она искренне думает, что все то, что удобно и незазорно перед другими людьми устраивает жизненное благополучие, вполне возможно и позволительно. Темные дела делаются, по ее мнению, всеми – без этого невозможна жизнь, и она их не боится».
По сравнению с этой характеристикой Стрепетова сгустила образ Матрены. Она рисовала власть тьмы, власть темного царства с жестокой беспощадностью. Актриса не обвиняла Матрену и не оправдывала ее. Она обвиняла жизнь, способную довести человека до границы, за которой уже нет разницы между хорошим и дурным. И хотя сила созданного ею образа была отрицательной, даже как-то давящей, общественная значимость его оставалась прогрессивной.
Изображение власти тьмы не уступает по силе воздействия лучу света в темном царстве. И в том, и в другом Стрепетова заставляет думать о главном: о законах мира, губившего Катерин и Лизавет русской действительности; о причинах, превращавших обыкновенных деревенских Матрен в преступниц.
Успех Стрепетовой в пьесе Толстого был признан почти единодушно.
Правда, и тут находились апологеты умеренного искусства. Они считали, что актриса чрезмерно натуралистична, что ее Матрена вызывает излишнее беспокойство, что она могла бы быть более добродушной и менее отталкивающей.
Но умеренность никогда не была свойственна искусству Стрепетовой – тревожному и защищающему или обвиняющему до конца. Роль Матрены еще раз подтвердила это, как подтвердила и то, что артистические силы Стрепетовой далеко не исчерпаны. Увы, применить их актрисе больше уже не пришлось.
Об успехе Стрепетовой Суворин написал в своей газете большую статью. Казалось, теперь, когда он, так много кричавший о ее погибающем даровании, имел свой театр, ему бы и можно было предоставить свободу таланту. Но Суворин был слишком тонким политиком, чтобы не понять, что эпоха Стрепетовой прошла, что ее общественная роль сыграна, какие бы новые возможности ни таились в ее художественной натуре. Поэтому актриса утратила для него интерес. Кроме того, она была слишком больна и слишком нервозна. Ее пребывание в театре причиняло бесчисленные неприятности, которых Суворин старательно избегал.
Формально он сделал для Стрепетовой все, что мог. Он поставил для нее «Около денег» и «Грозу», после которой, поморщившись, сказал Карпову: «Смотришь, – и жалко не Катерину, а актрису Стрепетову…»
– Для всех ваших актрис ставятся пьесы в этом театре, – возмутилась Стрепетова, – а для меня и пьесы нет… Что я, обсевок в поле, что ли…
Суворин, чтобы избавиться от упреков, предложил поставить для нее «Равеннского бойца», хотя больше всех других понимал, насколько далека эта пьеса от того, что может и должна сейчас играть актриса. К тому же, спектакль был поставлен небрежно, наспех. Кто-то из злых насмешников бросил в сетку театральной люстры собачонку. Стрепетова металась среди захламленных декораций, а собачонка лаяла, не понимая того, что она стала нечаянной героиней трагического фарса.
Она лаяла, публика смеялась, а Полина Антиповна «…с пеной у рта каталась в истерике…»
Этим спектаклем закончилась недолгая служба актрисы у Суворина, которого она публично, со свойственной ей беспощадной прямолинейностью, отчитала перед своим уходом. На этом же кончилась его лицемерная дружба.
Так снова Стрепетова оказалась без сцены. А работать хотелось, как прежде. Больше, чем прежде, потому что безжалостно уходило время, а актрисе казалось, что она так и не совершила того, что было ей предназначено. Примириться с бездеятельностью, с жизнью на процентах у прошлого было для нее невозможно.
В одном из писем этого периода из Ялты, где она проводила каждое лето, Стрепетова писала: «Я одна, и все отдыхаю, и никак не могу отдохнуть как следует. Так меня загоняла жизнь. Работы надо, вот что».
И актриса цепляется за любую возможность продления своей сценической жизни.
В 1897 году она вновь приезжает в Москву и выступает в театре с претенциозным названием «Чикаго». Жалкая полулюбительская труппа не заботилась ни о качестве пьесы, ни о соответствии исполнителей. Актеры не давали себе труда не только выучить текст роли, но даже своевременно поспеть на выход. Здесь вместе с капитальными пьесами шли «на закуску» водевили с сальными отсебятинами, канканом и двусмысленными куплетами.
В журнале «Театрал» была напечатана заметка, сообщавшая между строк, что «одна из гастролей г-жи Стрепетовой дала сбору сорок рублей. Комментарии излишни».
Действительно, комментарии были излишни.
Но даже этот трагический и нелепый итог большой творческой жизни не отвратил от сцены. Запах кулис оставался для Стрепетовой единственным запахом жизни.
На предложение нового директора Александрийского театра Волконского Стрепетова не колеблясь ответила согласием. 28 сентября 1899 года она подписала контракт на амплуа драматических старух. 17 ноября Стрепетова вышла на образцовую сцену в той же роли, в какой ровно девять лет назад, на этой сцене прощалась с театром.
В статье старого доброжелателя актрисы П. Засодимского, напечатанной в «Сыне отечества», было написано:
«Встретили Стрепетову так же, как и провожали, – громом рукоплесканий, долго не смолкавших и не дававших артистке возможности играть… Мы смотрели и недоумевали. Мы видели перед собою то Стрепетову, то как будто не Стрепетову. То мы узнавали в ней нашу прежнюю любимую даровитую артистку, ее выразительное лицо, ее глаза, ее движения, полные благородства и достоинства; порой у нее вырывались глубоко драматические ноты, выдавались потрясающие сцены… и в такие моменты публика, словно завороженная, притаив дыхание, безмолвствовала… То словно какой-то кудесник тут же у нас перед глазами вдруг подменял Стрепетову и выдавал вместо Стрепетовой какую-то неопытную провинциальную актрису… мы видели, мы чувствовали, что артистке что-то мешает, что-то „извне“ не дает ей возможности воспользоваться всеми ее богатыми средствами и развернуть все ее силы».
За этим неуловимым «что-то» скрывались вполне конкретные факты. Партнер Стрепетовой Мамонт Дальский запил и не пришел на спектакль. Никто за этим не проследил, но, чтобы не отменять представление, нашли впопыхах замену. Перед началом публике объявили, что Дальский по болезни играть не будет и роль Незнамова экспромтом исполнит другой исполнитель.
Стрепетова об этом узнала за две минуты до публики. Настроение было сбито. Нервы, и без того напряженные до крайнего предела, грозили припадком. Но самое мучительное произошло, когда начался спектакль.
В последнюю минуту Дальский, явно нетрезвый, приехал в театр и, никому не сказав ни слова, отправился в кулисы на выход. Он появился на сцене в то самое мгновение, когда из смежной кулисы показался его заместитель. Перед глазами Кручининой оказались два Григория Незнамовых.
Дублер отступил, и спектакль доигрывал Дальский. Доигрывал запинаясь, путаясь в тексте, ломая ритм. Но это уже и не имело значения.
«Таким образом, – написал очевидец, – в то время как перед нами разыгрывалась на сцене пьеса Островского, за сценой, должно думать, шла другая пьеса, имевшая некоторые черты сходства с пьесой Островского, но более ее драматичная…»
Что правда, то правда. Драма Кручининой отступала перед драмой актрисы Стрепетовой. Случившееся было непоправимо.
Был ли чудовищный фарс результатом преступной небрежности? Или этой враждебной обструкцией встретили прежние недруги ни для кого не опасную, присмиревшую и истерзанную вконец актрису? – Все равно. Последствия были те же. Творческая смерть наступила тут же, на сцене.
Теперь и борьба и защита были одинаково бесполезны.
Стрепетова уже не боролась, защитников тоже не стало. В театре она оказалась лишней. Но она получала жалованье, и начальство считало, что она обязана его отработать.
Когда девять лет назад ее вышвырнули, она страдала, что ей не дают играть. Теперь, когда она уже не могла играть, ее занимали в ролях, словно нарочно выставляющих напоказ все ее слабости.
Она выступает в комедийной роли Кауровой в «Завтраке у предводителя» Тургенева, играет гротескную роль Валуновой в «Закате» Южина. И делает это с гнетущей, уже абсолютно бесплодной старательностью. Кому-то приходит нелепая мысль возобновить игранную когда-то с успехом «Вторую молодость». Но эта очень немолодая, нетворческая пьеса Невежина теперь никому не нужна. И меньше всех она нужна самой Стрепетовой.
Она осталась позади времени. Ей нечего было сказать залу. И зал, всегда жестокий к искусству, которое исчерпало себя, не верил, что перед ним выступает великая русская трагическая актриса. Она уже не существовала. Но умереть в театре ей все-таки помешали.
17 марта 1900 года, через полгода после вторичного поступления в Александринский театр, временно управляющий конторой дирекции вручил ей распоряжение:
«Артистке П. А. Погодиной, по театру Стрепетовой. Санкт-Петербургская контора императорских театров, по приказанию его сиятельства в должности директора, имеет честь уведомить, что с окончанием первого октября 1900 года, срока контракта, дальнейший ангажемент Ваш не входит в предположения дирекции, а потому Вы можете считать себя свободным от службы».
Так и написано, в мужском роде, «свободным»!
Пренебрежение начальства сказалось даже и в этом последнем из семидесяти трех листов «дела о службе артистки драматических театров Пелагеи Стрепетовой».
На этом закончились творческие скитания знаменитой рус-кой артистки.
На этом фактически закончилась и ее жизнь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Впервые ей нечем было заполнить время.
Раньше она всегда куда-нибудь торопилась. К поезду. К началу спектакля. К ранней утренней репетиции.
Приходилось обедать наспех, чтобы хоть полчаса отдохнуть. Что-то надо было приладить в костюмах. Заглянуть в комнату сына и проверить, как записаны лекции. Разобраться в домашних делах и выдать деньги прислуге.
По ночам она засиживалась, чтобы дочитать новую книгу и ответить на письма. Принимала каких-то студентов, просивших выступить на их вечере в пользу нуждающихся. В промежутках с трудом поспевала к портнихе – нужны были платья для роли – и боялась признаться врачу, что опять пропустила прием назначенного лекарства и не успела прилечь, как он настаивал, после еды.
Даже когда она подолгу болела, она была занята. Составляла маршрут гастролей. Переписывалась по поводу сорванного спектакля. Волновалась, спешила понравиться. Вскакивала с постели, прежде чем ей разрешали, потому что страшилась опять не успеть что-то сделать.
И только теперь времени стало гораздо больше, чем нужно.
Иногда казалось, что оно просто перестало двигаться. Скопилось в этой пустынной квартире и никуда не уходит.
В той прежней квартире, на Пушкинской, ощущалась жизнь улицы. Но оставаться там после смерти Погодина было нельзя. Стрепетова и сама не могла бы спать в комнате, у порога которой – поперек, с простреленным виском упал Погодин. Но по памятнику она тосковала часто.
Здесь, на Клинском проспекте, почему-то всегда было тихо. Как нарочно, за домом отгородили пустырь для застройки. Но строительство так и не начали. И забор охранял пустоту. Пустота заполняла квартиру.
Иногда приходил посыльный с пакетом. Большей частью от Боткина. С фруктами или лекарством. Возвращалась с покупками горничная. Очень редко являлся смущенный своим поручением делегат от каких-нибудь курсов. Уговаривал ехать на уже начинавшийся благотворительный вечер. Стрепетова знала причину его смущения. Ей предлагали заменить заболевшего модного тенора или не пожелавшую выступить капризную примадонну.
И все-таки она соглашалась. Больная. Через час после приступа рвоты, – а рвало ее уже давно желчью. И читала с эстрады Некрасова. Или «Песню о Соколе» Горького. И в эти часы забывала о боли.
Даже если она выступала в концерте случайно, нежданно, молодежь, не видавшая ее на сцене и знавшая ее имя только понаслышке, вверялась ей, как когда-то вверялся зрительный зал. Но потом о ней опять забывали.
Она уставала от тишины. Никогда ей не приходилось так много думать. Она жила чувствами, почти не сверяясь с рассудком. Она наживала врагов с такой быстротой, что было неясно, как многие (вернее, совсем немногие, но уж зато настоящие) друзья сохранили ей верность. Она часто отталкивала людей даже близких своей нетерпимостью. Ее вспыльчивость не знала границ. В ярости она могла оскорбить человека смертельно.
Не потому ли она осталась одна?
В Петербурге жил Писарев. У него была другая жена. Анненкова-Бернар, писательница и актриса. Стрепетова к ее профессии относилась скептически. Она знала, что все равно Писарев был ей по-своему предан. Но хотя они пять лет после его переезда в Петербург работали одновременно в Александринском театре, она не допускала его забот и отвергала дружбу. Она не могла перейти через рубеж, проложенный той давней его изменой. Ее непримиримость была тяжела и ей, и Писареву, и сыну. Маша, очень привязанная к отчиму, переписывалась с ним тайно. И только когда Писарев тяжело заболел, Стрепетова поехала к нему. С тех пор их отношения как-то наладились.
Теперь в ней не было к нему неприязни, но и не было близости. И Маша не была ей близка. То, что дочь уехала в другой город, не огорчало Стрепетову. А мешало только чувство своей неправоты и несправедливости. Она знала, что Маша несчастлива, и знала свою вину перед ней.
Но и Виссарион, самый любимый из всех, тоже ведь не был счастлив, хотя все у него шло как будто отлично. Учился он легко. Везде получал отличия. И в гимназии, и когда кончал университет, и на специальных дипломатических курсах. Кончил их с блеском и стал дипломатом. Сейчас он работал в русском посольстве в Константинополе и звал мать к себе, как она говорила, в «туретчину». Но счастлив он все-таки не был.
Еще когда он учился в университете, он влюбился. Глубоко. Сильно. И очень хотел жениться. Стрепетова восстала. Она боялась, что рухнет все будущее ее сына. Что женитьба свяжет его, помешает учиться. Он сначала протестовал, но сдался. Он слишком любил мать и во всем привык подчиняться ей. Она успокоилась.
Но перед отъездом он узнал, что девушка вышла замуж. И его лица в тот день Стрепетова не забыла. Эта погасшая боль и отрешенный безжизненный взгляд напоминают о себе с ее фотографии в «Бедной невесте». Это сходство пугало. Неужели потеря досталась ему так дорого?
Хорошо, что она не узнает, как дорого заплатит сын за эту потерю! Всем своим будущим, за которое она воевала!
Но и сейчас она понимала ошибку. Одно из своих заблуждений.
Как странно! Пуще всего ненавидеть насилие. Возмущаться и криком кричать, что один человек притесняет другого. Бунтовать от того, что бесправие губит людей. Весь талант и все силы души отдавать обездоленным, попранным. И самой угнетать и насиловать близких! Что могло быть нелепее?
Но так было. И утаивать от себя эту поздно открывшуюся ей правду Стрепетова не стала. Вот уж в этом она не могла бы себя обвинить. Все ошибки, несправедливости шли у нее не от выгоды, не от корысти, не от умысла. Оттого, что она захлебывалась порой в нахлынувших чувствах. Не справлялась со слепящей мозг яростью. Не умела обуздывать страсти.
Не случайно несколько лет назад в Нижнем Новгороде, на гастролях в Большом ярмарочном театре, она задумалась о странной своей жизни и о том, как сложился ее характер.
Успех в ее родном городе был невероятный. И она обошла все места детства, – близких людей уже не было. На приеме, устроенном в ее честь, представитель ученой архивной комиссии попросил об автографе. И она написала в толстенном альбоме с застежками то, что думалось, и совсем не то, чего от нее ждали.
А написала она действительно несообразные обстоятельствам строчки:
«Живя в детстве и ранней юности у бедных людей, вращаясь между мелким мещанством и небогатым купечеством, я видела один грубый эгоизм и бессердечие…»
И потом, чтобы сгладить резкость, прибавила, что город стал чище и лучше. И спросила в конце:
«…Неужели люди не сделались лучше и мягче?» Но и сама она не была мягкой. А была сумасбродной и заходилась от гнева. Но обидеть обиженных – на это она не была способна.
И стоило об этом подумать, как обжигало воспоминание. Из всех – самое тяжкое. Но она не имела права утопить его в ворохе прошлого. И не потому, что оно было недавнее. А потому, что перед собой она за него отвечала.
Она часто теперь перечитывала и воскрешала свои прежние роли. Особенно те, где, как ей казалось, чего-то не досказала.
Например, в «Иванове». Что так волновало ее в Анне Петровне? Почему ей хотелось играть ее снова и снова? И она играла ее с успехом в Тифлисе, и Харькове, и Казани, и, кажется, где-то еще. Потому что судьба этой Анны Петровны, или Сарры, как было ее настоящее имя, была чудовищно несправедливой, кощунственной, и Стрепетова на каждом спектакле готова была драться с раздирающей сердце несправедливостью. И когда она вновь перечитывала страницы чеховской пьесы, вспарывало душу это реальное воспоминание.
На всероссийском съезде артистов она весь день нервничала. Были страшные боли под ложечкой и все ее раздражало. Она собиралась сказать о правах женщин-актрис, о неравенстве, о том, что артистам-мужчинам дают почетное гражданство, а женщинам – нет. Но Суворин ее взвинтил, убедил, что один выступавший, а он был еврей, оскорбил Стрепетову. Ей тут же показалось, что так и было. Суворин распалил ее ярость, довел до исступления. И она, сразу за тем получив слово, набросилась на этого выступавшего и вообще на евреев.
Потом она поняла, что была в полном беспамятстве. И Писарев чуть не плакал и всем говорил, что Стрепетова сама не знала, что говорит, и что во всем виноват один Суворин.
А на следующий день в «Новом времени» было написано:
«На возвышении появилась известная артистка г-жа Стрепетова и, не в пример господам кавалерам, явно, смело и определенно… высказывает свое мнение…» А мнение сводилось к тому, что «нельзя дозволять евреям, носящим звание артиста, жить повсюду… Ходатайствовать надо о талантливых актерах-евреях, а не о самозванцах…»
Стрепетова после своего выступления каталась в истерике. Рвоту, подступавшую еще на трибуне, не мог унять вызванный врач. Суворина при свидетелях она отхлестала словами. Ему она не простила до смерти, даже когда прощала злейших своих врагов. Но выжечь из памяти того, что произошло, все равно не могла.
Так случилось, что она замахнулась публично на Анну Петровну. Ту самую, за которую воевала своим искусством. Значит, предала как раз то, что было всего дороже. Изменила себе. Своему творчеству. И все из-за очередной политической аферы Суворина. А он небось переварил ее гневную отповедь, подвел итог сложным их отношениям и счел, что за ним остался только надгробный венок, который он и пошлет ей в день похорон.
Как ни странно, ей стало значительно лучше.
Сделались более редкими приступы боли. Меньше мучила тошнота. Появилась какая-то легкость, вернулась подвижность. Были силы трудиться, и она писала свои «записки», посвятив их, конечно, сыну.
Он настойчиво звал ее. И она уж совсем решилась. Говорила знакомым, что едет в туретчину. Раздарила сценические костюмы. Продала почти всю свою мебель.
Теперь квартира казалась совсем нежилой. В ней осталось необходимое. Только кровать, бюро, за которым она писала, кресло, несколько стульев. Кое-что из театральных трофеев.
Но из них уцелела ничтожная малость.
Смешно! Ей приписывали какую-то страшную жадность. Об ее скупости ходили легенды. Она не старалась их опровергнуть.
У нее, правда, бывали чудачества. Непонятные, дикие и, наверно, вредившие ей. Кто-то видел, как эта актриса, получавшая очень весомые гонорары, подправляла прическу на кухне простым утюгом. На покупку щипцов для завивки Стрепетова поскупилась. Но она никогда не жалела денег на книги.
Вечно ее преследовал страх нищеты, и она экономила на вещах, которые были бы незаметны в ее бюджете. Но она отдала все деньги и потом платила долги за покупку Кипелова, потому что этого хотел Писарев. А позже швырнула свои сбережения на покупку нелепой виллы в Крыму – так хотелось Погодину. А жила она летом, как и раньше, у Витмаров в Ялте, потому что привыкла и было удобнее. И платила за это по-прежнему сколько положено.
Из боязни, что кто-то ее заподозрит в искательстве, она, выступая в спектакле, устроенном в пользу неимущих литераторов, потребовала выплаты гонорара. И всех возмутила ужасно. Но полученную сумму целиком переслала в кассу взаимопомощи литераторов, не подписавшись.
Приезжая в какой-нибудь город, она точно подсчитывала, сколько должна получить за спектакль. И была при расчетах строга и внимательна. Но в Саратове, в дни гастролей, встретив товарищество артистов, сидевших в отчаянном положении, она без раздумья спасла их. Заплатила долги, выкупила их арестованное имущество. Всем приобрела железнодорожные билеты и еще дала на расходы. Сумма была солидной, но она истратила ее, предупредив, что возврата не ждет.
А когда в 1891 году Поволжье было охвачено голодом, Стрепетова собрала все ценности, полученные ею за жизнь. Броши, кольца, серебряные и золотые венки, кубки, вазы, бювары с серебряной верхней крышкой. Оставила только не имевшие ценности адреса и муаровую ленту с портретами в лучших ролях, подаренную в бенефис Репиным.
Деньги, полученные за продажу, были отправлены голодающим. Их вез сын. Он в пути простудился – ехал на розвальнях в непогоду. Стрепетовой хотелось, чтоб деньги пришли без задержки и прямо туда, где в них больше всего нуждались.
Виссарион рассказал обо всем этом по секрету. Мать велела ему сохранить эпизод в тайне.
Теперь даже лучше. Не надо было делить трофеи. Волноваться о том, кому что достанется. Все эти дорогие ей вещи растеклись в Петербурге по ювелирным лавчонкам. Кто-то, должно быть, нажил на них барыши. А кто-то неизвестный приобрел для подарка, поручив вытравить прежнюю надпись. И гравер нанес на дощечке с ее именем чье-то чужое, ей незнакомое имя. Наверняка не такое, как у нее длинное, – все-таки меньше работы граверу.
И она вспоминала, что долгое время на афишах писали ее имя – «Полина». Театральным дельцам показалось, что это эффектней, звучнее. А потом, когда имя уже не имело значения – так она была знаменита, – она возвратила свое настоящее имя – Пелагея.
К простоволосым бабам, которых она играла, это имя подходило гораздо больше. Да и к ней тоже. Ну какая она Полина!
И еще вспоминала, как часто ее дразнили горбатой. За кулисами Савина будто кричала, чтоб убрали скорей из театра «горбатую дуру». А один из актеров, Трофимов, нацарапал карикатуру: на горбе что-то вроде лукошка с грибами. Карикатуру подбросили ей перед самым началом «Грозы».
Сколько раз попрекали ее этим мнимым горбом и уродством!
Но, пожалуй, и это, как многое, было несправедливо. И горбатой была не она, а скорей ее жизнь – нескладная, в трещинах, вся углами.
Но горбатой была и ее Россия. Не эта за окнами, петербургская, великолепная, заледеневшая, чопорная. И не та, что в Москве, – с рысаками, блинами, поддевками охотнорядцев. А нищая, серая, с дымными избами и проселочной пылью. С недородами, пьянством, дремучестью, битыми бабами. И с огромной, открытой, ничем не подкупной, незаживающей совестью. И с чудесной и близкой ей молодежью, хотевшей улучшить ее Россию.
От России была эта совесть и в ней. В безрадостных серых буднях провинции она подсмотрела любовь к человеку. И всегда, в каждой роли о ней говорила со сцены.
Она любила Россию и этого русского совестливого человека всем своим существом. До физической боли. До спазмов. И другого в жизни понять и обнять никогда не могла. В этой цельности было ее могущество. Но в ней, вероятно, лежала и трагедия «пройденности».
Были годы – она это знала, – когда стрепетовское, ее скорбь и ее протест оказались нужны не театру, – России. И для этого стоило жить. Даже если она зажилась на свете. От этой России она собиралась теперь уехать куда-то в чужую туретчину! Неужели же все в ней перегорело, сломалось?
И она терзалась опять и опять. И в конце концов все же решилась. Собралась убежать от невыносимого ей одиночества. А когда все уже было готово к отъезду и она сложила в дорогу почти все свои вещи, ей вдруг сделалось плохо. Хуже, чем было когда-нибудь.
Ночью прорезала грубая, резкая боль. Стало душно, как в трюме. (В трюме когда-то, палубной пассажиркой, она пряталась от поднявшейся бури.) Она задохнулась. Но потом все прошло.
Она только хотела позвать на помощь, как прохладный разреженный воздух сменил удушье. Захотелось закрыть глаза. И она опустилась в кровать, как в прорубь.
И тогда поняла, что уже никуда не уедет.
Утром Боткин, один из вернейших друзей, настоял, чтоб ее положили в больницу.
Стрепетова попрощалась с безлюдной квартирой. С опустевшими стенами, со своим любимым портретом. Он висел над бюро, как всегда.
Когда делалось грустно, она зажигала висячую лампу с зеленым большим абажуром. Зеркало рядом погружалось в белесую тьму. И она узнавала себя не больной, постаревшей, с пергаментной кожей, а такой, как ее написал Репин.
Он писал ее много. Но этот – был лучший, самый верный из всех.
До сих пор совершенно непостижимо, как художнику удалось написать его за один сеанс. Это было почти накануне Двенадцатой выставки передвижников, и портрет произвел там фурор.
Говорили, и, кажется, даже сказал Крамской, что портрет у Репина самый удачный у него по живописи. Но ей он был близок этой особой, так хорошо ей знакомой, перечувствованностью всего, до корней волос.
Никто другой, даже и милый, талантливый Ярошенко, не постиг так, как Репин на этом портрете, ее затаенную страстность. Разве Писарев. Тот говорил, что она могла бы послужить натурой Сурикову, когда он писал свою боярыню Морозову.
А Репин увидел этот суровый, подвижнический трагизм – недаром ее называли, сердясь, сектанткой. Но и то, что в ней было художнического, светлого, вылилось в портрете.
Он писался в широкой, свободной, непринужденно стихийной манере. Из грубых, почти хаотически смятых мазков возникало лицо. Некрасивое, темное, ни в чем не прикрашенное. Но оно насильно приковывало. Сосредоточенной внутренней силой. И нервностью. И вибрацией мысли. И вопросом полуоткрытых губ. И пронзительно ищущим взглядом. И прямыми, несвязными прядями тусклых волос.
А сквозь все проникал неизвестно откуда, невидимый, но вселявший надежду и веру сноп света.
И этот сноп света актриса сейчас увидала впервые.
И тогда, тоже впервые, поняла, откуда возникло особое, бесконечно ей важное, сказанное о ней портретом. Это был удивительный победоносный трагизм всего выражения. Вероятно, то самое, что вносило дух веры в безысходно печальные судьбы ее Катерин, Лизавет, Аннет и Марий.
И когда поняла, ей совсем перестало быть страшно. Отошли все ошибки, обиды, гонения и терзавшие часто, порой не напрасно, уколы отзывчивой совести. А осталось сознание главной, великой, несмотря ни на что, своей правоты.
И еще стало ясно, почему свой этюд художник назвал так длинно: «Портрет трагической актрисы Стрепетовой».
Портрет был последним живым существом, проводившим из дому актрису.
Вместо Константинополя ее привезли на Фонтанку.
Ее поместили в больницу Крестовоздвиженской общины у Калинкина моста.
Ей сделали две тяжелейшие операции. И обе безрезультатно. Установленный рак оказался неизлечим.
Страдания она сносила без жалоб. Примирилась в последние дни со всеми своими врагами. Даже с Савиной, приезжавшей в больницу прощаться.
Но когда дежурившая в палате Пешкова-Толиверова, пытаясь утешить, сказала, что Стрепетова должна быть довольна, что она хорошо послужила театру, та ответила сухо и гордо:
– Театру Савины служат. Я служила народу…
Она умерла 4 октября 1903 года. В день, который считала днем своего рождения.
Часовня, где ее отпевали, не могла вместить всех желающих.
За ее гробом шли толпы людей. Тех самых, кого ей так не хватало в пустынном безлюдье последних и трудных лет.
Был пронзительный ветер и мокрый осенний снег, и все-таки провожать ее шли от Калинкина моста до Лавры.








