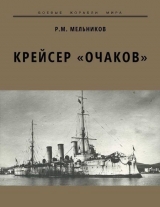
Текст книги "Крейсер «Очаков»"
Автор книги: Рафаил Мельников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)

Фотокопия верхней части страницы вахтенного журнала эскадренного броненосца „Синоп” с записью событий в день 15 ноября 1905 г.

Учебное судно „Прут” – плавучая тюрьма, из которой 15 ноября восставшие освободили заключенных „потемкинцев”.
И все же на каждом из них еще оставалось немало смельчаков, которые, не взирая на угрозы офицеров, с приближением „Свирепого” поднимали на мачте красный флаг. Поднимись в тот момент на борт каждого из этих кораблей заранее подготовленный внушительный караул восставших из команд и революционных матросов дивизии, – положение могло бы сложиться по– иному. Даже на флагманском „Ростиславе”, команду которого обрабатывали с особой тщательностью, нашлись поистине бесстрашные матросы, криками „Ура!” отвечавшие на призыв П. П. Шмидта (ни одного из них команда, несмотря на офицерские дознания не выдала!).
Но П. П. Шмидт на „Свирепом” уходил дальше, торопясь обойти всю эскадру, – и только что поднятые красные флаги (это были обычные красные с косицами флаги „Наш” свода сигналов) тотчас же спускались руками офицеров и кондукторов. Вдогонку уходившему миноносцу неслись ругань и проклятия „верноподданных”. Командир георгиевского крейсера „Память Меркурия” в упор крикнул П. П. Шмидту: „Мы служим царю и отечеству, а ты, разбойник, заставляешь себе служить”.
Были и другие примеры. С задержанного утром при входе на рейд парохода РОПиТ „Пушкин” (подозревалась доставка карательных войск) добровольно остались на „Очакове” два студента Новороссийского университета Петр Моишеев и Александр Пятин. Переодетые матросами, они активно участвовали в восстании.
Вернувшись на „Очаков”, П. П. Шмидт обратился к Команде со словами, что он, рассчитывая путем мирной манифестации присоединить флот к восставшим/не ожидал такого поражения. Он не мог и думать, что вокруг окажутся такие „жалкие, темные рабы”, не способные бороться с несправедливостью. П. П. Шмидт призвал „очаковцев” продолжать борьбу, не взирая на одиночество на поле боя, а в случае неудачи уйти в другие города – в Одессу или Феодосию, чтобы там способствовать народному восстанию и вместе с народом продолжить борьбу. Горькими словами проклятия городу, где господствуют одни предатели, шпионы, опричники, где для свободных людей нет места, где всюду царит рабство, окончил он свою речь.
Но расчеты на уход из Севастополя едва ли могли быть оправданными – „очаковцы” не согласились бы покинуть своих восставших товарищей на берегу, в дивизии, да и угля на корабле было мало – лишь немногим больше 100 т.
Только тогда, наконец, П. П. Шмидт принимает предложенный матросами план захвата ближайшего к крейсеру броненосца „Пантелеймон”. Недавний „Князь Потемкин-Таврический” сохранил, несмотря на переукомплектование команды, прежние революционные традиции. С помощью сохранившихся в составе команды броненосца сторонников восстания корабль в 11 час. 40 мин. был беспрепятственно захвачен боевой ротой с „Очакова”, предводительствуемой минным квартирмейстером броненосца Захарием Циомой. Арестовав командира корабля, офицеров и кондукторов, при полном, как сказано в вахтенном журнале броненосца, их пассивном состоянии, восставшие отправили их на „Очаков”, а на мачте „Пантелеймона” подняли красный флаг и расставили у главнейших боевых постов свои караулы. Ускользнул из офицеров один мичман В. А. Яновский, который по концу спустился в воду и спрятался на подобравшем его катере броненосца. Заявив, что у него слишком много пара, который надо отработать, старшина катера Антон Сирченко, несмотря на направленные на него винтовки, отвалил, обошел для обмана вокруг корабля и полным ходом удрал к „Ростиславу” (предателя потом хорошо наградили).
К команде броненосца обратился с речью прибывший с „Очакова” П. П. Шмидт. Слушавший его речь арестованный командир „Пантелеймона” капитан 1 ранга Н. Е. Матюхин докладывал позднее, что П. П. Шмидт объявил о своем намерении наследующий день (?) перейти с сыном на борт „Пантелеймона” и поднять на нем вице-адмиральский флаг. Но и это решение, которое могло бы усилить позиции восставших, осталось неосуществленным. Запоздало и распоряжение П. П. Шмидта о доставке из порта замков и снарядов для „Пантелеймона”, – он так и остался полностью в небоеспособном состоянии.
Попыток захвата других кораблей на рейде не предпринималось, хотя в распоряжении восставших имелся целый ряд малых кораблей, вооруженных грозным оружием ближнего боя – торпедами; в их руках, наконец, были склады и арсеналы порта, они могли бы рассчитывать на полное содействие помогавших им во всем рабочих, а главное – на сотни готовых к бою матросов дивизии. Нужна была только ясность мысли и решимость руководителей. При поддержке миноносцев, „Очакова” и „Пантелеймона” абордажные партии восставших моряков еще могли бы захватить поодиночке большую часть, если не все стоявшие на бочках корабли эскадры. Ведь удавалось же это Чухнину даже с помощью барж с солдатами. А здесь на каждом корабле революционных матросов с нетерпением ожидали их товарищи; наверняка, как и при захвате броненосца „Пантелеймон”, пускать в ход оружие не пришлось бы! Но, повторяя роковую ошибку декабристов, П. П. Шмидт медлил, давая противнику время завершить последние приготовления к расправе.
После полудня, в 12 час. 30 мин., на кораблях правительственной эскадры в знак верности царю были подняты стеньговые флаги и состоялись новые „патриотические” манифестации. Они сопровождались выносом портретов царя и икон, клятвами, молебнами, пением „народного гимна” и обменами на непрерывно сновавших по рейду катерах „патриотическими” делегациями. „Ура!”, „Постоим за царя!”, – кричали с катеров. Особенно отличился георгиевский крейсер „Память Меркурия”, отбивший накануне все попытки рабочих порта склонить экипаж к мятежу и спешно вышедший из дока на рейд. Здесь, „очистившись от крамолы”, команда под диктовку офицеров уже вполне по-черносотенному – с выносом наверх подлинного рескрипта, дарованного парусному бригу „Меркурий” императором Николаем I, – благословила „патриотическую” делегацию с „Двенадцати апостолов”, возвращавшуюся на свой броненосец. „Долой Шмидта! Долой изменников с флота!” – ревели в ответ „патриоты”.
При пении молитвы „Спаси, господи, люди твоя” на мостиках этих кораблей на виду всей эскадры были „торжественно” разорваны в клочья и выброшены за борт все флаги „Наш” из комплектов сигнального свода. (На „Ростиславе”, как об этом записано в вахтенном журнале, таким путем было истреблено семь безвинных красных флагов.) По почину минного крейсера „Капитан Сакен” с 12.35 до 12.50 корабли правительственной эскадры обменивались сигналами „Долой изменника Шмидта”.
И в этой черносотенной обстановке на исходе первого часа дня с гордо поднятым красным флагом мимо оторопевших „патриотов” с „Терца” выходит из Южной бухты и становится на якорь у борта „Очакова” минный крейсер „Гридень”. Криками „Ура!”, размахивая фуражкой, провожает его с борта штабного судна „Эриклик” строевой квартирмейстер Иван Суржиков: ему не удалось поднять на восстание свою команду, но он, не думая об ожидающей его каре, открыто приветствует смельчаков.
Тотчас же на „Терец” является лейтенант Кедров с приказанием из „главной квартиры” (т. е., видимо, от генерала Меллера-Закомельского) – открывать огонь по каждому кораблю, выходящему из Южной бухты. В 14 час. 35 мин. с „Ростислава” поступает подтверждение: исполнять приказание „главной квартиры”. Следом команде зачитывается приказ главного командира флота: „прекратить всякие переговоры с мятежниками, принять решительные меры с применением огня для подавления мятежников”. Восторженные биографы Г. П. Чухнина писали, что именно его настояниям обязано отечество скорым подавлением мятежа 15 ноября. А. Н. Меллер-Закомельский, чтобы полностью освоиться на позициях, рассчитывал начать дело лишь 16 ноября. Похоже, что Г. П. Чухнин, действительно, не мог успокоиться, пока не убедил генерала скорее использовать момент ненадолго поднятого „патриотического” накала. С этим накалом связано, видимо, и решение командующего вернуть на корабли эскадры снятые ранее обтюрирующие кольца, плитки и другие приспособления для стрельбы из орудий. Об этом, со слезами на глазах убеждая генерала в верноподданических чувствах матросов, просил его лейтенант с „Ростислава” В. Ф. Волькенау. Успокоенный поручительством Г. П. Чухнина и недавнего командира броненосца капитана 1 ранга Е. П. Рогули (с 3 ноября ставшего севастопольским градоначальником), генерал согласился.
Откладывать усмирение в самом деле уже не стоило: на Северной стороне крепостная артиллерия, одолев брожение умов среди канониров 2-го батальона, прекратив начатый было для его разоружения вывоз за ворота вытяжных трубок, теперь спешно разворачивала пушки на „Очаков”. С напутствиями покарать изменников и спасти родину от смуты отправлялись на эскадру „патриотические” депутации из верных царю офицеров и солдат.
Восставшие не мешали и им. И, как без малого сто лет назад на Сенатской площади в Петербурге, так и теперь на Большом рейде в Севастополе, усмирители, деловито закончив приготовления к бойне, обратились к обреченным на смерть с последним увещеванием. Они могли себе это позволить: Графская пристань была занята солдатами. Исторический бульвар чернел от собранных на нем пушек, пулеметов, солдат и даже кавалерии, в казармах Брестского полка теснились новые прибывшие батальоны. Эскадра, получив ударники, была готова „послужить за веру, царя и отечество”, крепостные пушки и полевые батареи на Северной стороне взяли „Очаков” на прицел.
§ 31. „Очаков” в огне
Согласно донесению главного распорядителя „усмирения морских команд” генерала Меллера– Закомельского ультиматум о сдаче восставшим предъявили в 14 час. 15 мин.
„По истечении часового срока, – как докладывал генерал Николаю II, – канонерская лодка „Терец” открыла огонь по портовому катеру, перевозившему мятежников на крейсер „Очаков””. (По некоторым данным, на катере доставляли ударники от орудий „Пантелеймона”, захваченные восставшими в порту.)
Записи в вахтенном журнале „Терца” опровергают генерала: огонь был открыт раньше назначенного ультиматумом срока. И катер был не один – он сопровождал выходивший из Южной бухты под красным флагом заградитель „Буг”. Следом за ним и также под красными флагами (революционные матросы все– таки овладели кораблями!), исполняя приказ Матросской комиссии, отдавали швартовы и готовились перейти к „Очакову” учебное судно „Днестр”, канонерская лодка „Уралец”, миноносец „Зоркий”. Этого каратели допустить не могли и, следуя инструкции „главной квартиры”, „Терец” без промедления открыл огонь по катеру из орудий и винтовок.
Стрельба, начатая в 15 час. 5 мин., продолжалась, по записям того же „Терца”, примерно 15 минут. Катер был подбит, а „Буг”, видя невозможность прорыва и имея на борту 300 боевых мин, отдал якорь вблизи „Терца” и открыл кингстоны затопления. Одновременно, как докладывал генерал, батарея на Историческом бульваре открыла огонь по „Днестру” и стоявшему рядом с ним миноносцу (по-видимому, речь шла все-таки об „Уральце”). Вслед за этим беглый огонь из пулеметов и пачками из винтовок (солдаты и боевые роты матросов были расставлены чуть ли не по всему западному берегу) был открыт по всем кораблям в Южной бухте.
После спуска красных флагов на этих кораблях огонь перенесли на казармы дивизии. Брестский полк, поклявшийся искупить свою дружбу с мятежниками, готовился к их штурму.
По-видимому в то же самое время у входа в Южную бухту и появился миноносец „Свирепый”, который, как рассказывал командовавший им Ф. Г. Мартыненко, отошел от „Очакова” за 15–20 минут до боя на рейде и был послан П. П. Шмидтом в порт за баржей со снарядами (возможно, опять-таки за снарядами для „Пантелеймона”).
Около 15 час. 35 мин. миноносец, как отмечалось во флагманском журнале, „почти весь закрылся Павловским мыском от эскадры”, но был встречен огнем „Терца” (по его записям – в 15 час. 55 мин.). Миноносец маневрировал, давая попеременно задний и передний хода, а затем, имея торпедные аппараты развернутыми на правый борт, задним ходом вышел из бухты. Правительственные донесения в один голос утверждают, что миноносец хотел атаковать „Эриклик” и „Терец”, а когда это не удалось, пытался, выйдя на Большой рейд, торпедировать ближайшие за Павловским мыском „Ростислав” и „Память Меркурия”. Ф. Г. Мартыненко в своих записках о торпедных атаках даже не упоминает. При входе в бухту он встретил катер, матросы которого предупредили, что „Терец” сторожит подходы и баржу со снарядами захватить не позволит. Действительно, не успели они дать задний ход, как „Терец” открыл огонь. Огнем артиллерии „Терца”, а затем „Ростислава”, „Памяти Меркурия” и „Капитана Сакена” на миноносце были сметены надстройки, он потерял управление, его начало сносить к „Ростиславу”. Страшившиеся его торпед и продолжавшего развеваться красного флага, каратели не переставали бить по беспомощному кораблю и бросавшимся за борт матросам. В оправдание этой жестокости (один из поднявшихся на борт офицеров хотел застрелить на месте безоружного Ф. Г. Мартыненко) и появился, очевидно, тезис об угрожавших эскадре торпедных атаках. В действительности, не имея приказа П. П. Шмидта об атаке и зная о его нежелании проливать кровь матросов, Ф. Г. Мартыненко, по-видимому, хотел лишь прорваться обратно к „Очакову”, но миноносец был расстрелян, не дойдя до него [59]
[Закрыть].
Так разворачивались в значительной мере решившие судьбу восстания события в Южной бухте. Силы революции в ней были блокированы, а затем – подавлены.
„Очаков” и „Пантелеймон” все это время по-прежнему оставались на своих местах – крейсер на якоре против Артиллерийской бухты (в вершине равностороннего треугольника с мысами Нахимовской и Михайловской батарей по углам), броненосец – на девиационной бочке, немного далее в глубь Большой бухты. Угроза уничтожения нависла над этими кораблями и стоявшими вблизи „Очакова” на якорях минным крейсером „Гридень”, миноносцами № 265, 268, 270, катерами „Смелый” и „Водолей-2” (у борта „Пантелеймона”). Но и в эти последние часы, несмотря на сохранявшуюся до 15 час. связь с дивизией, восставшие, кроме запоздалых попыток доставить на корабли снаряды, уголь и продовольствие, не предприняли абсолютно ничего для перелома обстановки в свою пользу.
Трудно судить о событиях минувшего, не зная в точности всех определяющих обстоятельств, и все же становится до боли обидно при мысли, что восставшие практически вовсе не использовали имевшиеся у них боевые средства. А ведь эффективность этих боевых средств была бы многократно умножена огромным революционным энтузиазмом восставших матросов на кораблях и в дивизии. И если П. П. Шмидт, принципиально отвергая кровопролитие, не решился применить оружие для насильственного захвата эскадры, то он, безусловно, должен был сделать это ради спасения матросов, которое он им обещал, идя 14 ноября на „Очаков”. „Самый мирный человек, видя неминуемое массовое убийство людей, не может не кинуться в защиту их”, – говорил он. Но ведь теперь он знал, что такое массовое убийство подготовлено, он должен был, обязан был применить всю мощь имевшихся на его кораблях боевых средств.
Эффективным оружием были торпеда и таран. Практически неприменимые в открытом море, в классических условиях сражения на дальних дистанциях, они как нельзя лучше подходили для боя на рейде против стоявших на бочках – неподвижных кораблей. Это был, наверное, единственный в истории русского флота случай, когда длительное время культивировавшаяся таранная тактика могла найти действительное применение. Но восставшими практически так и не было сделано попыток ни перенести штаб восстания под защиту могучей брони „Пантелеймона”, ни усилить его экипаж за счет преданных делу восстания специалистов – комендоров и машинной прислуги, а затем ввести в действие его орудия (путем передачи для них недостающих деталей с „Очакова”) или, наконец, дать ему ход, чтобы в упор, наверняка, поражать корабли противника торпедами и отправлять их на дно самым мощным на эскадре тараном неуязвимого для врагов новейшего броненосца. Немало вреда мог бы принести и „Очаков”. Без промаха можно было бы торпедировать стоявшие на бочках и якорях корабли с миноносцев (их число, без сомнения, при энергичных действиях могло быть увеличено).
Мы никогда не узнаем, почему П. П. Шмидт и его сподвижники не решились на единственно обещавшие успех решительные меры. Можно лишь догадываться, что П. П. Шмидт, будучи убежденным гуманистом и думая о том общественном резонансе, который получит Севастопольское восстание в России, не считал себя вправе омрачить святое дело борьбы за гражданские права массовым уничтожением одураченных, но, по сути, ни в чем не повинных матросов, остававшихся на стороне правительственных сил.
В то же время из следственных документов процесса явствовало, что по мере-разворачивания трагических событий его точка зрения изменялась. В своем обращении к доставленным на „Очаков” пленным офицерам П. П. Шмидт говорил о планах широких активных действий, вплоть до сооружения батарей на Перекопском перешейке, чтобы, отрезав Крым от России, требовать от царя созыва Учредительного собрания. Он заявил, что будет морить голодом офицеров-заложников, добиваясь освобождения матросов, арестованных властями на берегу; что будет вешать офицеров по очереди на „Очакове” в ответ на избиение жителей города казаками и за потопление „Терцем” шедшего к „Очакову” катера…
Так или иначе, но „Очаков” и „Пантелеймон” остались на месте, а движимый, видимо, охватившей его идеей жертвы на алтарь революции П. П. Шмидт перед истечением срока ультиматума сказал пленным офицерам: „Иду принять смерть вместе с вами”. Да, это была именно жертва. Отказаться от использования грозного броненосца и остаться под расстрелом крепостных батарей на лишенном бортовой брони легком крейсере – это было мало похоже на бой. При такой настроенности не имеют никакого смысла встречающиеся в литературе расчеты соотношения сил революционной и правительственной эскадр или рассмотрение разных, фантастических планов мирного воздействия на царизм (вроде доставки к „Очакову” минного заградителя „Буг”, опасность взрыва которого, якобы, могла бы связать руки карателям). Немногие боеспособные корабли революционной эскадры были представлены сами себе и действовали в одиночку.
Наиболее мощный из них – „Очаков”, оставаясь на рейде неподвижной мишенью, сразу утрачивал все достоинства легкого быстроходного крейсера. К тому же этот корабль, только что построенный и еще проходивший испытания, не мог считаться полноценной боевой единицей и даже не имел скомплектованных орудийных расчетов. Восставшие, избрав своих товарищей командирами основных боевых частей крейсера (артиллерией стал командовать Н. Г. Антоненко), только начинали налаживать его внутреннюю жизнь, но о боевой подготовке в условиях почти половинного некомплекта команды (на корабле вместо 555 было лишь 365 матросов) не могло быть и речи.
Пленные офицеры слышали приказ П. П. Шмидта: „Комендоры, к орудиям!”, ощущали движение пришедшей в действие системы подачи боеприпасов, а затем и слышали несколько выстрелов крейсера, сделанных в ответ на огонь, открытый крепостными батареями и канонеркой „Терец”.
Сколько же было сделано выстрелов с „Очакова”? Сопоставляя все крайне немногочисленные свидетельства, можно сделать вывод, что не более шести. Было ли это исполнением приказа, следствием спешки и необученности персонала либо еще каких-то неизвестных нам причин, но на кораблях правительственной эскадры не зарегистрировано ни одного попадания. А ведь дистанция до флагманского корабля „Ростислав” [60]
[Закрыть]не превышала 5–6 кабельтовых (т. е. 900-1100 м)! Впоследствии царские судьи, стремясь хоть как-то оправдать карателей, пытались приписать „Очакову” первые выстрелы на рейде, от которых эскадре, якобы, пришлось обороняться. Но даже свидетели обвинения и в частности – находившиеся на борту „Очакова” пленные офицеры не решились поддержать эту выдумку. Стала известна и грубая провокация, подействовавшая на незрелые умы: комендорам на кораблях правительственной эскадры и на береговых батареях внушили, что поднятый на восставших кораблях флаг „Наш”, служивший, согласно своду, сигналом начала боевой стрельбы („боевым флагом”), означает явное намерение бунтовщиков начать бомбардировку города.
Возглавил позорный расстрел мятежного крейсера броненосец „Ростислав”. В 16. 00 в его вахтенном журнале появилась бесстрастная запись: „Начали стрелять по „Очакову” и „Свирепому””. Судя по отчету, с „Ростислава” всего было выпущено 2 254-мм и 16 152-мм снарядов [61]
[Закрыть]. Именно от этих снарядов на „Очакове” появилось девять пробоин с левого борта. Но еще больше усердствовали выслуживавшиеся перед начальством, заглаживающие впечатление от своих колебаний крепостные артиллеристы. У них было страшное оружие – еще более мощные 11-дюймовые (280-мм) орудия, нанесшие самые тяжелые повреждения с правого борта корабля. Такой снаряд, взорвавшийся в запасной угольной яме на скосе броневой палубы, сорвал с заклепок и разворотил находившуюся над ней промежуточную палубу на протяжении десяти шпаций. Бившие прямой наводкой, с малых расстояний, какие невозможны в настоящем бою, крепостные орудия и орудия броненосцев промаха не имели. Мощные снаряды пронизывали борта крейсера, пробивая 85-мм броню гласисов машинных отделений и 70-мм толщину скосов броневой палубы. Грохот частых разрывов сливался с ревом пара, рвавшегося из пробитых магистралей и развороченного котла. Но всего страшнее оказался пожар. Из-за неосвоенности пожарной системы, больших ее повреждений и недостатка штатного экипажа бороться с огнем и не пытались. Горели деревянные настилы, мебель и отделка кают и кубриков. От огня изгибались стальные бимсы, вспучивались палубы. В кормовой части, где пламя свирепствовало с особенной яростью, плавились стекла иллюминаторов, начали рваться боевые заряды в погребе 152-мм боеприпасов.
Крейсер очень быстро полностью утратил боеспособность и, охваченный пламенем, превратился в огромный, почему-то еще державшийся на воде костер, в который защитники веры, царя и отечества продолжали посылать снаряд за снарядом. Они не хотели и думать, что перед ними всего лишь недостроенный корабль, давно уже прекративший ответный огонь. В животном страхе перед грозным призраком революции, озверевшие перед беззащитностью жертвы каратели не переставали расстреливать полыхающий „Очаков”, Это была кровавая месть за недавно пережитый позор „Потемкина”. Но это было и проявление ужаса, отчаяния режима, висевшего в те дни на волоске по всей России.
Корабли правительственной эскадры вели по „Очакову” интенсивный огонь в течение 25–30 минут. В 16.25 во флагманском журнале была сделана запись: „Начался пожар на „Очакове”, он прекратил бой, спустил боевой (т. е. красный – Р. М.) флаг и поднял белый”. Остается лишь уточнить, что подняли белый флаг находившиеся на борту „Очакова” пленные офицеры.
Дикую злобу карателей испытал на себе и вовсе не представлявший для них никакой угрозы устаревший миноносец № 270, на который вплавь перебрались П. П. Шмидт с сыном и еще несколько человек с „Очакова”. Красный флаг на мачте маленького (42-метрового) кораблика обратил на него огонь крепостных 11-дюймовок. Один такой снаряд буквально проломил корабль. Взрыв уничтожил переборку между котельным и машинным отделением, вывел из строя машину и котлы. Вахтенный офицер на „Ростиславе” без тени смущения занес во флагманский журнал: „Миноносец № 270 шел от „Очакова” мимо Приморского бульвара. Далеко позади него шла большая шлюпка (со спасавшимися людьми – Р. М.). В 4 ч. 30 м. расстреляли обоих”…
Досталось от карателей и кораблям, даже не участвовавшим в восстании – на стоявших в эллинге миноносцах № 256 и № 271 были повреждены корпуса, на транспорте „Пендераклия” гранатой расщепило палубу и ранило вахтенного, снаряды и осколки угодили в баржу № 25, транспорты „Казбек”, „Гонец”, миноносец „Живучий” и броненосец „Георгий Победоносец”. Все они были обильно отмечены также винтовочным и пулеметным огнем. (Ведь один „Ростислав” отчитался в расходовании 3600 ружейных патронов!) Стреляли так, что 12-дюймовый корабельный снаряд впоследствии нашли на берегу – у здания обсерватории: по счастью, он не разорвался…
Боевой счет в войне с собственным флотом открыли бравые сухопутные артиллеристы генерала Меллера-Закомельского. С гордостью докладывал он потом „государю”, как вошла на скрижали истории 1я батарея 13-й артиллерийской бригады, командир которой – герой подполковник Никитенко, открыто установив пушки на мысе 4-й батареи крепости, с расстояния 700 сажень „смело осыпал шрапнелью палубу мятежного крейсера, принуждая его к сдаче.” В Южной бухте с высот Исторического бульвара, с позиций батарей, 50 лет назад самоотверженно защищавших Севастополь, потомки славных героев обороны, одурманенные офицерством, разили „врага внутреннего”, как отныне будут им вдалбливать на занятиях по „словесности”.
Расстреливая практически безоружное судно „Днестр”, полевая артиллерия достигла четырех прямых попаданий. На совести сухопутных усмирителей и гибель минного заградителя „Буг”, по которому „пачками”, словно по „потемкинцам” в Феодосии, был открыт ружейный огонь. Жертвой этого тупого усердия оказался сам верноподданный режима командир заградителя М. И. Славочинский [62]
[Закрыть], который на ялике спешил к своему кораблю, чтобы образумить впавшую в крамолу его команду…
Тупая злобная сила реакции, не сознававшая безмерности своего преступления, отбрасывавшая Россию в ее развитии на десятилетия назад, торжествовала победу и в казармах флотской дивизии, и на водах Севастопольской бухты.
П. П. Шмидт вместе с 16-летним сыном был схвачен на подбитом миноносце № 270 и доставлен на флагманский броненосец „Ростислав”. Здесь ему предстояло пройти через все унижения, которые способны изобрести пережившие смертельный страх, озлобленные, утратившие совесть люди. „А, вот он – командующий флотом, вот она, сволочь эта! Тащите его за мной, эту сволочь!”, – кричал принимавший пленников старший офицер броненосца лейтенант Карказ. Все время пока П. П. Шмидт находился на „Ростиславе”, Карказ бесновался, размахивая кулаками перед лицом П. П. Шмидта, призывал офицеров и даже матросов полюбоваться на изменника, приказав держать его напоказ в холодном помещении с открытой дверью. Он не давал пленникам пищи, отказался дать сыну подушку, отобрал у П. П. Шмидта папиросы, полученные от начальника эскадры контр-адмирала П. П. Феодосьева, а когда П. П. Шмидт напомнил, что они получены от начальника эскадры, Карказ отнял у арестованного и спички. Любое движение, даже попытка умыться, решительно пресекались часовым и специально приставленным кондуктором; при перевозке П. П. Шмидта с сыном этот кондуктор не выпускал из рук полотенце, чтобы в соответствии с приказом Карказа немедленно завязать узникам рты, если они проронят хоть слово.
Так вели себя усвоившие чухнинскую мораль „истинно русские люди” – черносотенцы, созревшие для „Союза русского народа”.
Таким же был, как об этом сказал А. И. Куприн, „надежный сброд” из матросов „Ростислава”, „Двенадцати апостолов” и „Трех святителей, выставленных цепью на Графской пристани. Их задачей было пресечь все попытки спасения, людей с борта „Очакова”. А корабль горел, и люди на нем просили о помощи. А. И. Куприн, попавший в Севастополь к ночи, был потрясен этим жутким зрелищем, рассказ о котором напечатала в декабре 1905 г. газета „Наша жизнь”.
„Посреди бухты, – писал он – огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера – сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов „Ростислав”, „Три святителя”, Двенадцать апостолов”. Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно… Оттуда среди мрака и тишины ночи несется протяжный высокий крик: „Бра-а-тцы!”. И еще, и еще раз… И потом вдруг что-то ужасное – крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий пронзительный, сразу оборвавшийся крик…”
„Гнусными ругательствами” отвечали чухнинские стражи на все просьбы пропустить ялики, чтобы спасать людей с горящего корабля. Очевидцы происходящего свидетельствовали, что по катеру, отвалившему от „Очакова” с раненными, стреляли картечью, что бросавшихся вплавь расстреливали из пулеметов [63]
[Закрыть]. Но Чухнину, проклятому передовой Россией, всего этого было мало. Узнав, что какой-то флотский офицер, не взирая на „отборный сброд”, пытался на Графской пристани организовать на шлюпках помощь „очаковцам”, он немедленно рассылает по всем кораблям и частям флота приказ с требованием схватить его, не взирая на чин (по-видимому, этот смелый человек остался неизвестным.)
„Очаков” горел в течение двух дней [64]
[Закрыть].
Разгромленные артиллерийским огнем казармы флотской дивизии были взяты штурмом. Царизм торжествовал победу. Кровавые палачи спешили доложить царю о самоотверженности и подвигах своих войск и взятых 2000 пленных. Не было только одного – признательности „освобожденного” от бунтовщиков населения. Город открыто выражал карателям свое презрение. Офицеры и солдаты Брестского полка, предавшего матросов, боялись в одиночку появляться на улицах. Их в глаза называли „кровопийцами”, „продажными”, „15-копеечными царскими слугами”.

Обложки некоторых из судебных документов по делу о севастопольском восстании 1905 г – о „возмущении морских команд ”
Вся Россия была охвачена пожаром восстаний, во всех ее уголках гремели залпы карателей, не жалевших патронов. Но неуютно чувствовал себя самодержец всероссийский, жаловавшийся, что „не хватает войск или казаков, чтобы поспевать всюду”.
Только Г. П. Чухнин, сам себя превзойдя в лицемерии, торжественно возвещал, что „многострадальная наша родина искренно порадуется и с благодарностью узнает,” какими „неколебимо верными и честными сынами родины и царя” оказались флотские усмирители, сумевшие „столь быстро и решительно и с наименьшими жертвами прекратить мятеж, угрожавший превратиться в междоусобную кровавую войну” [65]
[Закрыть]. И с тем же лицемерием, с той же холодной жестокостью, с какой обрекал он на смерть „потемкинцев”, теперь Чухнин добивался смерти П. П. Шмидта и его товарищей. Этого требовал и сам Николай II [66]
[Закрыть]. Севастопольские морские судьи лезли из кожи вон, чтобы, отбросив в сторону совесть и законность, состряпать такое обвинительное заключение и так провести процесс, как это им предписывалось свыше.








