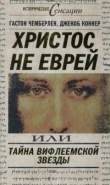Текст книги "Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий"
Автор книги: Рафаил Нудельман
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
Последняя гипотеза, по сути, вообще игнорирует роль социального фактора в происхождении и закреплении суеверий. Естественно поэтому перейти теперь к очередной гипотезе, трактующей суеверия как типичный социальный феномен. Происхождение большинства суеверий скрыто в глубоком прошлом. Тем не менее иногда их возникновение удается наблюдать. Так, в 1919 году в Папуа, на Новой Гвинее, среди туземцев вспыхнуло массовое помешательство, получившее название – «болезни Вайлала». Страдавшие ею вели себя, как одержимые, раскачивались из стороны в сторону или застывали в ступоре и произносили непонятные фразы. Их главные проклятья адресовались «нарушителям обычаев» и «белым людям»; в то же время они утверждали, что вскоре (если люди будут вести себя хорошо) на остров прибудут корабли с богатым грузом от «предков» и это позволит местному населению освободиться от власти белых и зажить богато и благополучно. Об этом им якобы сообщили «духи».
Болезнь вскоре затихла, а 20 лет спустя об «обещании духов» и прибытии «подарка от предков» уже говорили как о реальном факте. Суеверие сложилось на глазах у наблюдателей.
Социолог Уорсли, который исследовал этот и подобные феномены, считает, что их причина коренится во внезапных социальных изменениях, принесенных белыми колонизаторами. Старые ценности рушатся, люди начинают стремиться к новым (прежде всего, к материальной обеспеченности), не знают, как их достичь, и испытывают глубочайший стресс, который выливается в массовую истерию и фантастические поверья, обещающие и достижение новых целей, и восстановление старых порядков одновременно. Он отмечает как показательный факт, что болезнью Вайлала заболевали прежде всего те туземцы, которые чаще и ближе соприкасались с белыми.
Другой социолог, Ганс Тох, говоря о таких массовых движениях, которые, как правило, сопровождаются множеством суеверных фантазий («голоса», «откровения», «видения» и т. п.), утверждает: «Чудеса обещают надежду на изменение в ситуации, которая в противном случае могла бы показаться безнадежной и безвыходной, и потому играют роль средства, примиряющего с действительностью и позволяющего выжить». Иными словами, здесь на иной социологический лад говорится примерно то же, что говорил в свое время Юнг: суеверия могут играть положительную общественную роль как психологическое средство выживания в стрессовых ситуациях. Но этим их социальная роль далеко не исчерпывается.
В Сомали, например, так называемая «одержимость духами» чаще проявляется среди женщин. Исследователи выявили, что во многих случаях эти «духи» через подчиненных им женщин требуют от мужей покупки определенных вещей или подарков. В некоторых случаях такие женщины действуют даже вполне осознанно, добиваясь желаемой вещи (наряда, хозяйственной утвари и т. п.) расчетливой игрой на суевериях мужей. Суеверие очередной раз выступает здесь как средство преодоления определенной социальной ситуации и достижения желаемой цели.
Еще более видна эта их роль в таких повсеместно распространенных убеждениях, как вера в ведьмовство и колдовство. Почти очевидно, что оба эти вида суеверий возникают в результате жизненных неприятностей, несчастливых поворотов фортуны и попыток найти их виновника.
Этнограф Эванс-Причард, изучавший эти поверья среди жителей Уганды, показал, что в большинстве случаев «виновником» несчастий объявляется человек, с которым обвиняющий находится в близких отношениях, иными словами – «сосед». В первой части этой статьи мы уже рассказывали, как одинаково неуклонно действовало это правило и в случае негров племени Бвамба, и в случае жителей средневекового итальянского города Медона. В обоих случаях вслед за обвинением вступали в силу давно выработанные обществом ритуалы разоблачения, допроса и наказания «виновных», причем очевидная цель этих ритуалов – возместить ущерб, понесенный (или могущий быть понесенным) членами данного социального коллектива или всем коллективом вообще. На этом основании Эванс-Причард выдвинул предположение, что те поверья «дикарей», которые европейцы часто рассматривают как грубые суеверия, в действительности являются весьма важными для нормального функционирования общества индикаторами социальных конфликтов и напряжений (в простейшем случае – трений между соседями); тем самым соответствующие ритуалы становятся средством, которое позволяет снять эти трения и враждебность. Особое значение имеет при этом тот факт, что все эти ритуалы «освящены традицией», то есть являются общепризнанным и как бы узаконенным способом решения социальных конфликтов, который обязаны принимать все.
Таким образом, в конечном счете суеверие (в широком смысле слова) оказывается средством восстановления утраченной социальной гармонии. Мы можем добавить к этому, что в определенном смысле слова индивидуальные суеверия являются таким же средством восстановления утраченной гармонии для отдельной личности, но уже гармонии психологической. Юнг был отчасти прав, напоминая, что «дикари» воспринимают мир в единстве его материальной («реальной») и спиритуальной («иллюзорной») сторон.
Более позднее (современное) сознание в этом смысле уже «расколото». Но поскольку «иллюзорное» начало, будь оно родом из глубин подсознательного или навязано традициями окружающей среды, по-прежнему сохраняет свою власть над умом индивида, он переживает это раздвоение как «расколотость мира». Индивид испытывает неосознаваемую потребность в восстановлении утраченной мировой гармонии. И его обращение к суевериям как раз и отвечает такой потребности.
Как конкретно выглядит эта «гармония»?
Она может, например, выражаться в ощущении своей власти над событиями, в представлении о том, что мир упорядочен, осмыслен и так далее. Общим здесь повсюду является психологическое ощущение человека, что он «в ладу с миром». Но этот «лад» каждый человек в каждое время понимает иначе. Поэтому анализ этой «тоски по утраченной гармонии» неизбежно требует рассмотрения суеверий как отражения способа мышления.
В первой части статьи мы уже говорили, что такие известные английские этнографы, как Тэйлор и Фрезер, считали суеверия «ошибками наблюдения», которые свойственны первобытному мышлению. По сути, это означало, что они считали первобытных людей (и современных дикарей) неспособными к последовательному логическому мышлению. Не то чтобы они отказывали первобытному мышлению в рациональности вообще, но они полагали его как бы «недостаточно рациональным». Оспаривая эту гипотезу, знаменитый французский антрополог Люсьен Леви-Брюль выдвинул предположение, что «первобытное мышление» в действительности отличалось от современного не просто количественно, а качественно. По Леви-Брюлю, оно было не столько «недостаточно рациональным», сколько вообще не рациональным, а «мифологическим» или «дологическим».
Понять, что это такое, помогли исследования знаменитого швейцарского-психолога Жана Пиаже. Он показал, что элементы «дологического» мышления характерны для всех детей. Главными такими элементами являются неспособность четко отличить себя от внешнего мира и восприятие этого мира только в отношении к себе и своим желаниям. Мир, все предметы и люди в нем воспринимаются как продолжение своего «Я», а внешние события – как реакция на свои ощущения, поступки и желания.
Ребенок (и первобытный человек) склонны поэтому наделять вещи «душой» и «сознанием». Гирька, подвешенная на закрученной нитке, вращается, потому что «нитка чувствует, что она закручена, и хочет раскрутиться». Иголка уколола, потому что она «злая». Точно так же ребенок или дикарь склонны думать, что предметы подчиняются их воле и желанию. Кукла приближается и оказывается в руках не потому, что ребенок за ней потянулся (или получил из рук взрослого), а потому, что он этого «захотел». Отсюда уже недалеко до выработки определенной системы «магических» действий, которые «заставляют» предметы выполнять желания ребенка (так называемая «детская магия»).
Развивая свои наблюдения, Пиаже предположил, что подобный характер мышления может быть свойствен и взрослым людям, особенно в состоянии крайнего стресса или одержимости каким-либо сильнейшим желанием; в таких ситуациях вполне возможно возвращение взрослого к «детской магии». В первой части статьи мы уже вскользь касались этих вопросов. Теперь мы можем связать сразу несколько высказанных там гипотез о происхождений суеверий в общую картину.
Вспомним, что бихевиористы (Скиннер и другие) рассматривали всякое поведение (как животных, так и людей) как результат «обучения», упрочиваемого периодическими «подкреплениями» со стороны внешней среды. Если такое обучение накладывается на особый склад ума (на особое мышление), который заранее в силу своих особенностей предрасположен к суеверному толкованию действительности, и если это обучение получает «подкрепление» извне, например, в виде случайных совпадений желаемого с происходящим, то его результат, т. е. суеверные представления о мире и его законах, будет, разумеется, закрепляться.
В этой картине недостает, однако, одного важного звена. Ведь, в конце концов, случайные совпадения происходят-не так уж часто. Во многих случаях суеверное мышление сталкивается с тем, что его магические ритуалы и заклинания не производят желаемого эффекта. Чудесные средства исцеления не излечивают от болезни. Разоблачение ведьмы не устраняет несчастий. Почему бы всем этим воздействиям («отрицательным подкреплениям», или, говоря вслед за Скиннером, «наказаниям» за несоответствие представлений действительности) не привести в конце концов к отказу от суеверий? Почему-то оказывается, однако, что люди готовы удовлетвориться даже самым умеренным числом случайных «положительных» совпадений, игнорируя даже самые очевидные и многочисленные «отрицательные».
Причина этого состоит в той глубокой психологической потребности, о которой мы начали говорить выше, рассказывая о метафизике закона Мэрфи. Только с ее учетом можно всерьез говорить о «психологии суеверий». Характер этой потребности очень хорошо описал английский этнограф Хортон, долгое время изучавший особенности мышления африканских племен. Как и все «дикари», эти люди склонны к суеверному мышлению. Когда, например, дерево падает на человека и убивает его, они неизменно объясняют это прежними проступками этого человека, за которые его наказали ведьмы, колдуны или «духи предков». В результате длительных расспросов и анализа Хортон пришел к выводу, что его «подопытные» попросту исключают из своего сознания возможность какого бы то ни было иного объяснения. «Мысль о том, что это просто, случайное совпадение, – пишет он, – отвергается ими начисто, потому что она для них психологически невыносима: она заставила бы их признать, что мир непредсказуем и необъясним, тогда как их мышление (как и наше) стремится к связному и полному объяснению мира и всего в нем происходящего, только на свой, «суеверный», лад».
Здесь очень важно замечание о том, что не только «дикарское», но и «наше» мышление стремится, в сущности, к одному и тому же – к достижению успокоительного психологического ощущения, что мир упорядочен, а потому «управляем». Разница, может быть, только в том, что в одном случае эта упорядоченность имеет иллюзорный характер, а «управление» достигается с помощью суеверных формул, заклинаний и ритуалов, а в другом – с помощью рационально-научных средств. Наука оказывается в этом плане всего лишь «суеверием наизнанку»: современный человек полагается на нее точно так же, как первобытный или ребенок – на свою магию. Она играет ту же психологическую роль, позволяя восстановить ощущение гармонии, понятности, объяснимости и предсказуемости мира, которое внутренне необходимо человеку для достижения эмоциональной и психической устойчивости и чувства уверенности в окружающем.
Но и у современного человека эта потребность далеко не всегда реализуется через научное объяснение мира. Во-первых, такое объяснение для многих просто слишком сложно; во-вторых, сама наука далеко не все может объяснить (что, в частности, и порождает столь распространившуюся ныне тягу к таким «суррогатам науки», как оккультизм, мистика и т. п., примеры чего мы приводили в начале статьи). Поэтому в повседневной жизни современный человек, подобно дикарю, куда чаще остается один на один со своей психологической потребностью в гармонии и вынужден реализовать эту потребность посредством «дикарских» суеверий. Чтобы убедиться в том, что эти суеверия действительно выполняют такую психологическую роль, достаточно припомнить хотя бы, как останавливают наше внимание всевозможные случайные совпадения в нашей повседневной жизни.
Мы испытываем какое-то приятное возбуждение, когда, направляясь на автобусе в театр, замечаем, что номер автобусного билета совпадает, скажем, с номером театрального и оба, – с датой нашего рождения. Источник этого возбуждения, несомненно, коренится в том, что нам кажется, будто мы открыли некую «закономерность» в структуре мира, некую «причинную» зависимость, какой-то загадочный «смысл». Эта тенденция организовывать окружающее в осмысленную схему, находить общий смысл в различных явлениях и испытывать удовлетворение от этого поистине неистребима в человеке.
Проведено множество специальных экспериментов, доказывающих наличие такой тенденции. Например, подопытным показывают два фильма, один из которых полон ужасных сцен, а другой представляет собой вполне невинное сочетание абстрактных картинок; тем не менее второй, просмотренный вслед за первым, почему-то тоже производит тягостное впечатление. Людям предъявляют серию ничем не связанных друг с другом изображений – они тотчас начинают искать между ними «скрытую связь».
Как подытожил известный психолог Бартлет, «все познавательные действия человека направлены на поиск «смысла», и это объясняется тем, что установление смысла в хаотическом и беспорядочном мире является необходимым для выживания в нем». Коль скоро это так, то всякое отсутствие смысла представляется нашему мышлению лакуной, которую обязательно нужно заполнить. В отличие от науки, которая признает неизбежность таких лакун, наше повседневное мышление ощущает их как угрозу и пытается перепрыгнуть через бессмыслицу с помощью суеверных «объяснений».
Это бессознательное действие, и оно продиктовано, повторяем, психологической потребностью уменьшить неуверенность и сомнение в окружающем. Не случайно знаменитый этнограф Малиновский утверждал, что «люди обращаются к магии лишь тогда, когда ощущают, что не могут полностью контролировать окружающие обстоятельства», иными словами – в условиях недостаточного знания, неопределенности и вынужденного риска. В духе этого толкования он предсказывал, что вероятность появления суеверий должна быть значительно выше среди людей, чьи профессии (или условия жизни) характеризуются повышенным риском и неопределенностью, – например, среди моряков, солдат (а также, понятно, дикарей).
Как мы уже говорили, такое «перепрыгивание» зачастую осуществляется, с помощью «суррогатов науки». Примером тому может служить астрология. Неоднократно уже упоминавшийся нами Юнг полагал, что астрология действительно отражает какие-то «скрытые закономерности бытия», познание которых помогает заполнить лакуны незнания, не заполненные (или не могущие быть заполненными) обычной наукой. Эти закономерности он называл. «принципом синхронности», который, по его мнению, действует в окружающем мире (мы рассказывали об этом принципе выше в очерке «Метафизика закона Мэрфи»). Для доказательства своей гипотезы Юнг провел даже специальную проверку, которая получила название «астрологического эксперимента». В этом эксперименте сопоставлялись гороскопы 483 супружеских пар. Юнг не получил однозначных результатов, но, по его утверждению, выявил «тенденцию», которая состояла в том, что у счастливых пар вероятность, «подходящих для брака» гороскопов была заметно выше, чем у несчастливых. Увы, когда тот же эксперимент был повторен несколько лет спустя Арно Мюллером на значительно большем числе пар, «статистическая обработка результатов, – по словам исследователя, – не подтвердила ни одного из традиционных астрологических предположений относительно брака». Тем не менее люди и сегодня продолжают читать гороскопы и выискивать в сенсационных разделах газет сообщения о всевозможных «загадочных совпадениях».
Не так давно немецкий автор Шольц опубликовал объемистую книгу «Случай и судьба», в которой собрал превеликое множество примеров таких совпадений, от самых расхожих (три выигравших номера в лотерее были 777, 77 и 7, и все они оказались в руках одного и того же человека) до весьма изощренных (во время шторма в Берлине была разрушена мраморная статуя работы скульптора Крауса, а на следующий день сам скульптор умер от инфаркта, и в ту же минуту в его саду упала с пьедестала копия той же статуи). Многие, прочитав эту книгу, наверняка пожмут плечами и спросят: «Ну и что?» Но еще большее число людей, скорее всего, сочтет все эти примеры «неслучайными». Разве случайно, скажут они, что Япония пережила серьезное землетрясение именно 7 декабря 1944 года, как раз в годовщину японского нападения на Пёрл-Харбор? При этом они даже не задумываются над тем, сколько землетрясений происходит в Японии каждый год.
И это показывает нам, что суеверия – вовсе не ошибки наблюдения, не проявление «недостаточной рациональности» и не следствие «неправильного обучения». Хотя все эти факторы играют определенную роль в появлении суеверий, они не исчерпывают всех причин их возникновения. В конце концов многие ученые, от Кеплера до Менделеева и Крукса, которых никак нельзя обвинить в недостатке логики, были суеверными, людьми. Увы, за суевериями, как уже сказано, стоит глубинная когнитивная и психологическая потребность человека в объяснимости и гармонии окружающего мира, и до тех пор, пока эта потребность будет сохраняться, будут в том или ином виде сохраняться и суеверия.
Люди будут прибегать к своим приватным или общепринятым ритуалам поведения и формам мышления, какими бы «иррациональными» они ни казались с точки зрения науки и здравого смысла. Не зная будущего и страшась его, они будут «на всякий случай» обходить стороной черных кошек и стучать по дереву, – пусть и со смущенной улыбкой. Ибо, как сказал выдающийся этолог Конрад Лоренц, «когда живое существо не знает связи между причиной и следствием, самой правильной стратегией выживания для него является та, которая дает ему уверенность, основанную на прежнем опыте».
Конечно, животные, как и люди, способны изменять свое поведение в изменившихся условиях, способны «идти на риск неведомого» – в противном случае не было бы эволюции; но на каждом новом этапе развития их поведение и сознание снова обрастают суевериями и предрассудками. И даже развитие науки не меняет этой ситуации, ибо наука сама порождает новые суеверия – вспомним хотя бы «пирамидологию» или «дианетику», о которых мы уже рассказывали в этой книге. Суеверия могут быть безвредны или даже вредны; это не изменит того факта, что они составляют интегральную часть тех адаптивных механизмов, без которых человечество, скорее всего, не смогло бы выжить.
ГЛАВА 8
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
На что похожа смерть? Все мы страшимся увидеть ее лицо, но с развитием медицины появляется все больше и больше людей, которые эту встречу пережили. В 1975 году американский врач Раймонд Муди (русские переводчики назвали его Моуди) опубликовал книгу «Жизнь после смерти», которая сразу стала бестселлером. В ней были собраны рассказы людей, побывавших на пороге смерти. Муди не был первым собирателем таких рассказов. Лет за сто до него британское Общество физических исследований занялось изучением предсмертных явлений, а в 1926 году член этого общества Уильям Барретт опубликовал первую небольшую книгу по этому вопросу. «Вернувшиеся с того света» рассказывали, что слышали странную музыку, видели свое тело на смертном одре и разговаривали с давно умершими родичами. Новаторство Муди состояло в том, что он собрал все эти рассказы и создал из них некий обобщенный отчет о самых типичных предсмертных переживаниях, которые испытывало большинство умиравших. Сначала, утверждали они, им слышалось заявление врача, что они скончались. Затем раздавался громкий звук, что-то вроде жужжанья или колокольного звона, и перед глазами появлялся длинный темный туннель, в который устремлялось их «Я». Вскоре они встречали некое «существо, сотканное из света», которое показывало им все события их прежней жизни и помогало дать им оценку. Они испытывали чувства радости, покоя и любви, но в какой-то момент натыкались на непонятный «барьер» и понимали, что им придется вернуться к своему телу и к земной жизни. Вернувшись, они пытались рассказать другим о своих переживаниях, но неизменно натыкались на непонимание. Однако для них самих эти переживания становились стимулом к глубокому духовному перерождению и новому отношению к вопросам жизни и смерти.
Поначалу книга Муди вызвала недоверие ученых, но вскоре стали накапливаться подтверждающие факты. Американский кардиолог Шунмэйкер опросил более двух тысяч пациентов и установил, что больше половины из них испытывали подобные переживания. В 1982 году Институт Гэллапа провел опрос, показавший, что каждый седьмой взрослый американец побывал на пороге смерти и каждый двадцатый пережил нечто подобное описанному в книге Муди.
Примерно в то же время психолог Кеннет Ринг начал научную обработку таких показаний. Он выделил в предсмертных переживаниях пять основных стадий: состояние покоя, отделение от тела, вхождение в темноту (воспринимаемую как «туннель»), приближение к свету и вхождение в сияющее облако. Две последние стадии удостоверяло меньшинство из побывавших при смерти, откуда следовало, что предсмертные переживания образуют некую закономерную последовательность этапов, происходящих один за другим, в неизменном порядке: одни умиравшие прошли лишь часть этих этапов, другие – все подряд. Ученых заинтересовал также вопрос, насколько связаны эти переживания с типом культуры, иными словами – присущи они только западным людям или другим тоже. Было выяснено (хотя и на малом числе случаев), что характер и последовательность предсмертных переживаний универсальны, однако тип религии, исповедуемой человеком, сильно влияет на интерпретацию увиденного в преддверии смерти. Такие переживания были зафиксированы даже у детей. Но самое интересное состояло в том, что «предсмертные переживания» вовсе не требуют реальной близости человека к смерти: в 1989 году Морзе с сотрудниками обнаружили, что совершенно такие же ощущения испытывают многие люди под воздействием наркотиков, глубокой усталости, а порой – просто ни с того ни с сего. Стоит подчеркнуть, что ощущения эти вполне реальны: людям, их испытавшим, не «казалось», что они влетают в темный туннель, – они и впрямь «ощущали», что в нем находятся; и свое покинутое тело они видели не так, как порой мы видим людей во сне, а совершенно объективно, сверху, во всех деталях! Все эти факты вынудили ученых задуматься: не может ли быть так; что правы поклонники новомодного оккультизма, утверждающие, будто, кроме физического тела, человек обладает еще и телом «астральным», которое освобождается после смерти физического? Вера в существование такого «духовного» (или «астрального») тела обнаружена в пятидесяти различных культурах на самых разных континентах. Но что она означает? Часто утверждают, будто она начисто противоречит науке. Но это не вполне верно. Наука отрицает лишь то, что не проверяемо и не предсказуемо. А наличие или отсутствие «астрального тела» можно попытаться проверить. И такие опыты проводились. В 1978 году Моррис пытался обнаружить «астрал» с помощью физических детекторов. Но хотя он использовал все мыслимые способы такого обнаружения, результаты оказались отрицательными. В 1982 году Сьюзен Блэкмор проводила длительные эксперименты с «медиумами», проверяя их утверждения о «выходе в астрал», – с теми же результатами. Разумеется, всегда можно сказать, что необнаруженное еще не значит несуществующее, но это слабое утешение для серьезных людей.
Некоторые пытались объяснить предсмертные переживания как процесс, обратный рождению: и тут, и там – туннель и свет в его конце. Эту теорию особенно пропагандировал американский астроном Карл Саган. Но тогда люди, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, вроде не должны были бы испытывать предсмертных переживаний, а исследования показали, что это не так. Другие ученые предлагали объяснить собранные факты «гипнотической регрессией в прошлые жизни», но это уже граничит с фантазией. Куда более вероятной представляется «теория галлюцинаций». Галлюцинации, возникающие по самым разным причинам, очень часто сопровождаются ощущением входа в туннель (порой – в спираль или в паутину). По мнению Клювера из Чикагского университета, эти ощущения связаны с особой структурой визуального центра мозга. Его сотрудник Коуэн показал, что недостаток кислорода (при смерти) или избыток наркотиков (вроде ЛСД) влечет за собой резкое повышение неконтролируемой активности мозга. По нему начинают пробегать «струи самопроизвольного возбуждения». А в силу особенностей клеточной структуры мозга эти «струи» порождают в визуальном центре зрительные образы типа спирали или туннеля. Эта теория не объясняет, однако, предсмертных «световых» эффектов, поэтому Сьюзен Блэкмор попыталась развить ее дальше, учитывая тот факт, что центр визуального поля представлен в мозгу куда большим числом «зрительных клеток», чем периферия. С помощью компьютерного моделирования она изучила, какие образы должны возникать в такой структуре при ее постепенном самопроизвольном возбуждении, и нашла, что в центре поля зрения обязательно появится разрастающееся светлое пятно, окруженное темными «стенами». Иными словами, «туннель» и «свет» могут быть объяснены возникновением «хаотического шума» в мозгу умирающего человека.
Но как объяснить «покидание тела» и «созерцание его сверху» Блэкмор предлагает для этого следующую гипотезу. Часто бывает, что наш мозг получает противоречивые сигналы, которые порождают в нем противоречивые модели реальности. В этом случае мозг выбирает в качестве «истинно реальной» ту, которая представляется ему более устойчивой в сравнении с остальными. В предсмертном состоянии, когда все реальные сигналы ослаблены, наиболее устойчивыми кажутся образы «туннеля» и «света». Но это, лишь начало. Мозг ищет «разумного объяснения» этим образам, он пытается свести их в цельную картину реальности, а для этого начинает сравнивать их с хранящимися в памяти моделями. И тут вступает в силу одна любопытная особенность зрительных моделей, рождающихся в человеческой памяти: очень часто они кажутся увиденными как бы «сверху», с высоты птичьего полета. И тогда мозг «объясняет» свои предсмертные ощущения «выходом из собственного тела», а память услужливо поставляет зрительному центру образ самого этого тела, видимого сверху на смертном одре.
Эта гипотеза оказалась поддающейся проверке. Сама Блэкмор и ее коллега, австралийский психолог Ирвин, показали, что люди, которые часто видят свои сны как бы с высоты птичьего полета, в предсмертном состоянии чаще видят «сверху» и свое «покинутое» тело. Но другие исследователи не согласны с объяснением предсмертных переживаний лишь зрительными моделями, подсказанными памятью человека. Эти исследователи утверждают, что люди перед смертью переживают не воспоминания, а реальные ощущения. Американский кардиолог Сабом показал, что потерявшие сознание пациенты были способны более точно описать потом действия врачей, чем пациенты, сохранявшие сознание. Блэкмор возражает на это, что органы чувств у таких пациентов могли воспринимать внешние сигналы и без осознавания. Она развивает свою теорию и дальше. По ее мнению, типичное для предсмертных переживаний «прокручивание» перед глазами «фильма» всей прошлой жизни может быть вызвано все тем же хаотическим возбуждением мозговых клеток. Что же касается ощущений «покоя» и «радости», то, по ее утверждению, некоторые ученые (Сааведра, Гомец, Морзе) недавно показали, что кислородное голодание умирающего мозга высвобождает в нем нейропептиды и другие вещества, способные вызвать именно такие ощущения. Наконец, встречи с умершими и картины «иного мира», о которых часто рассказывают «воскресшие», могут объясняться все тем же эффектом «большей реальности» моделей и образов, предлагаемых памятью умирающего человека, в сравнении с образами и сигналами из реального физического мира. И, конечно, умиравшие не могут выразить обычными словами свой предсмертный опыт. Ведь в основе сознания лежит мысленная модель цельного человеческого «Я». В момент умирания эта модель дробится и рассыпается, ощущение «Я», сопровождавшее человека всю сознательную жизнь, исчезает, и описать это переживание попросту невозможно.
Попытки научного объяснения предсмертных переживаний продолжаются. Ученые упорно атакуют эту загадку, предлагая всё новые гипотезы и всё новые способы их проверки. Все же пока ученые не дают уверенного и однозначного ответа. И проблема, поставленная Муди и другими, остается по-прежнему актуальной и нерешенной. Откуда же все-таки берутся загадочные предсмертные переживания – из человеческого мозга или из реального «иного мира»? «Изнутри» или «извне»? Уходим мы «в астрал» или расстаемся с жизнью окончательно и бесповоротно?