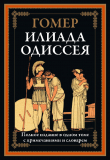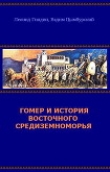Текст книги "Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий"
Автор книги: Рафаил Нудельман
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА 2
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
А вот еще кое-что о древних строителях, хотя, скорее, из области забавного. Как многим, наверно, известно, по всей территории Британского королевства рассеяно множество древних каменных монументов, состоящих из ряда вертикальных подпорок, поддерживающих поперечную. Они получили название «хедж». Самый знаменитый и интересный из них, Стоунхедж, расположен на равнине Солсбери, что на юго-западе Англии. Историки полагают, что его строительство заняло примерно четыреста лет и закончилось 4800 лет назад.
Комплекс Стоунхеджа состоит из наружного кольца П-образных каменных сооружений из песчаника – это вертикально стоящие камни высотой около 4,5 м, которые поддерживают горизонтальные каменные «перекладины». Кроме того, имеется также внутреннее кольцо из камней пониже, которое повторяет форму наружного.
Множество разнообразных гипотез высказывалось по поводу назначения этого монумента. Многие ученые считают, что это был храм, в котором в период неолита происходили культовые процессии священников и мистические празднества, а вокруг, в открытом поле, располагались зрители. Возможно также, что это было место для некультовых зрелищных представлений.
Так вот, недавно была выдвинута новая, весьма забавная гипотеза, согласно которой дизайн Стоунхеджа основан на женской сексуальной анатомии. Автор гипотезы – доктор Антони Перке, отставной профессор гинекологии и акушерства университета Британской Колумбии в Ванкувере и врач университетской женской больницы. Внимательно рассматривая камни Стоунхеджа, он заметил, что некоторые из них тщательно отполированы, а другие остались необработанными. Это навело его на мысль о связи отполированных камней с профессионально хорошо знакомыми ему особенностями женской кожи. Гладкость женской кожи по сравнению с мужской давно известна и связана с женским гормоном эстрогеном. «Каких же гигантских усилий стоило древним людям шлифовать камни вручную», – подумал доктор Перке и решил проанализировать весь монумент в анатомических терминах женского полового аппарата.
Он увидел, что камни внутреннего кольца расположены скорее по эллиптической, яйцеобразной кривой, нежели по кругу. Сравнение ее формы с формой женских половых органов показало неожиданный параллелизм. Дальнейшее изучение монумента выявило другие интересные детали, и в результате у Перкса родилась законченная и оригинальная гипотеза. Согласно, этой гипотезе, наружный каменный круг и невысокий холм в его центре, возможно, имитируют т. н. большие срамные губы (две покрытые волосами кожные складки, которые окаймляют отверстие влагалища и сзади от него срастаются вместе) и лобок, тогда как внутренний круг изображает малые срамные губы (две другие складки, не покрытые волосами, вокруг женского влагалища, у передней точки соединения которых находится клитор). Тогда камень алтаря (или жертвенника) должен соответствовать самому клитору, а пустой геометрический центр, очерченный камнями малого круга, – символ детородного канала. При всей своей кажущейся забавности гипотеза Перкса содержит некое здравое научное зерно. Перкс обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других холмов на просторах Англии, в холмах, окружающих Стоунхедж, найдено очень мало захоронений. Он трактует это как подтверждение своей гипотезы: «Я думаю, что это место было символом жизни, а не смерти». По мнению Перкса, комплекс Стоунхеджа был посвящен богине Матери-Земле. Поклонение этой богине было распространено среди ранних кельтов и людей других европейских неолитических культур. В Европе найдены сотни статуэток, так или иначе выражающих идею богини-Матери. Они были созданы в те времена, когда роды сопровождались высочайшей смертностью младенцев, и поэтому вполне возможно, что богине-Матери молились также о выживании новорожденных и вообще о плодородии. Поэтому Стоунхедж, по мнению Перкса, мог служить для таких «церемоний плодородия», которые связывали рождение и выживание человека с рождением и выживанием растений и животных, от которых зависели тогдашние люди.
Любопытно, что почти одновременно с Перксом проблемой Стоунхеджа занялся другой ученый, голландский профессор философии Джон Давид Норт. Он выдвинул совершенно иное (и более консервативное) предположение, заявив, что камни Стоунхеджа расположены так, что образуют точную проекцию определенных звезд, а потому следует думать, что Стоунхендж служил астрономической обсерваторией и картой звездного неба. Доктор Перке признает, что монумент, возможно, был связан и со звездным небом, но видит это в ином свете. «В Стоунхедже мы видим на открытой равнине Солсбери небесный свод вместе с Землей. Как будто бы Отец-Солнце встречается с Матерью-Землей на середине пути, в месте, обращенном к будущему». Так что правило «Шерше ля фам», то бишь «Ищите женщину», иногда, как видим, помогает и в поисках разгадок доисторических тайн. Если и не очень убедительных, то весьма увлекательных разгадок. Не оглянуться ли и нам на иные наши древности?
ГЛАВА 3
СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫ ИШТАР
В гипотезе доктора Перке есть и другое рациональное зерно. Древние люди действительно много размышляли о женщинах. Оно и понятно – женщины рожали детей, т. е. были залогом будущего. Может быть, потому и секс играл огромную роль в древней культуре – чему доказательством нижеследующая занимательная история. Она начинается словами (кое-где попорченной) вавилонской рукописи:
«Юноши […] молодая женщина […] один из них подошел к ней.
«Давай, услади меня!» (сказал он).
И другой подошел к ней: «Давай, я потру твое влагалище!»
Усладив их (она сказала): «Соберите на меня парней вашего города, в тени стены пусть соберутся».
По семь раз спереди брали ее
и по семь раз сзади шесть десятков и еще шесть десятков,
и ослабли все от влагалища ее.
Устали юноши, но Иштар не утомилась ничуть.
«Посмотрите, юноши, как влажно влагалище ее!»
Так призывала их молодица,
и услышали ее юноши и насладились по приказу ее»
(Перевод с аккадского проф. Авигдора Гурвица)
Эта пространная эротическая поэма, лишь небольшой отрывок из которой приведен выше, описывает длинную череду сексуальных сношений вавилонской женщины по имени Иштар со 120 юношами ее города. Сей примечательный текст, в котором то и дело повторяется припев: «Вот так милуются девки с парнями в нашем городе!», был обнаружен в собрании клинописных текстов религиозного толка в развалинах главного центра вавилонской религии, города Ниппур, который историки иногда называют «Ватиканом Ново-Вавилонского царства». Глиняная табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок древнего Вавилона в 1880 году одним из пионеров современной археологии Германом Хильпрехтом. Судя по всему, поэма была написана во время царствования знаменитого Хаммурапи, но найденный Хильпрехтом текст, представлял собой более позднюю копию, что свидетельствует о большой популярности данного произведения.
Сорок лет царствования Хаммурапи (XVIII век до н. э.) были временем расцвета Вавилонии. В те времена царство это было религиозным, культурным и научным центром всего Ближнего Востока. Именно тогда было создано первое в истории собрание законов, известное под названием «кодекса Хаммурапи». И одновременно то была эпоха бурного расцвета литературного творчества.
«Тексты, описывающие сексуальные отношения вавилонян, представляют собой органическую часть этой богатой литературной традиции, – говорит профессор израильского Беэр-Шевского университета Авигдор Гурвиц, посвятивший этому гимну древнего распутства статью в вышедшем недавно в США сборнике «Разгадывая загадки и распутывая узлы». – Секс был такой же законной темой искусства, как в наши дни, когда, например, в кинофильме, не имеющем никакого отношения к порнографии, можно встретить постельные сцены. Так же и в знаменитой вавилонской поэме «Деяния Гильгамеша» имеется эпизод, в котором дикое лесное существо Энкиду семь суток подряд совокупляется с блудницей».
По словам проф. Гурвица, вавилонское общество было значительно более терпимым и открытым в отношении секса, чем еврейское или христианское, и вавилоняне свободно обсуждали любые сексуальные проблемы. Секс был также и куда более доступен. Так, например, в городе Ашшур (на территории нынешнего Ирака) существовал храм богини любви Иштар, в развалинах которого были найдены медальоны с изображениями храмовых проституток мужского и женского пола; как полагают исследователи, сношения с ними считались своего рода магическим ритуалом. «Напротив, в еврейских источниках, – продолжает Авигдор Гурвиц, – о сексе, как правило, говорится весьма сдержанно, и всякое описание сексуальных отношений, выходившее за рамки общепринятого, считалось предосудительным». Так, в известном рассказе Книги Судей о Яэли и Сисаре так и не сказано напрямую, сопровождалась ли их встреча половым актом. Впрочем, согласно талмудическому комментарию рава Йоханана, стих «Между ног ее встал на колени, опустился и лежал, между ног ее встал на колени и опустился, там, где встал на колени, лежал, убитый» следует понимать в том смысле, что Сисара успел семь раз овладеть Яэлью, прежде чем она его убила.
Подобно древним еврейским авторам, современные ассириологи относятся к проблеме секса весьма консервативно, и, например, в одном из известнейших английских переводов «Деяний Гильгамеша» переводчик Александр Хейдель предпочел перевести слишком скабрезную сцену… по-латински! Возможно, по тем же причинам и эротические гимны, повествующие о вавилонском разврате, оставались неизвестными в течение многих лет (с самого момента их обнаружения), и лишь в самое последнее время они нашли своих переводчиков. Немецкий ассириолог Вольфрам фон Зоден перевел их на немецкий, но при этом ограничился обсуждением лишь грамматических особенностей текста. Тем не менее даже на основании этого анализа фон Зоден пришел к выводу, что найденная глиняная табличка, по всей видимости, представляет собой отрывок более обширного текста – возможно, культового или ритуального характера. Исследование Авигдора Гурвица основывается на переводе фон Зодена, но, в отличие от труда немецкого исследователя, представляет собой первый в ассириологии чисто литературный анализ поэмы. По мнению Гурвица, «этот текст представляет собой одно из древнейших порнографических произведений вавилонской письменности. А то, что текст этот написан по-аккадски – на древнем языке богослужения, – не более чем прием. В поэме масса юмористических моментов и остроумной словесной игры, что свидетельствует об определенной литературной изощренности автора».
В процитированном отрывке речь идет о женщине по имени Иштар (судя по всему, вполне обычной, живой женщине, а не одноименной богине), с которой хотят совокупиться юноши города. Один из них предлагает, ей усладить себя. Его товарищ, видимо, сочтя, что это вежливое предложение не будет оценено по достоинству, добавляет перца и предлагает Иштар нечто более грубо-откровенное. Ответ Иштар превосходит все ожидания юношей: она предлагает себя не только им, но и всему городу, и приглашает городских юношей «в тень стены». Речь идет, по-видимому, о том районе, который в древности служил эквивалентом современных «кварталов красных фонарей», ибо и о блуднице Рахав в Библии сказано, что «дом ее вблизи стены и у стены она живет». 120 юношей решают воспользоваться соблазнительным предложением Иштар, и каждый из них совокупляется с ней по «семь раз спереди и семи раз сзади». Но даже эти сотни половых актов не удовлетворяют женского сластолюбия. Юноши изнемогли, но Иштар требует еще. Рассказ кончается тем, что изнуренные юноши все же удовлетворяют ее желание. «Все мужчины хотят послужить этой женщине, но Иштар оказывается сильнее и выносливей своих сексуальных рабов», – отмечает проф. Гурвиц. По его мнению, автор поэмы выражает здесь – быть может, впервые в истории – феминистскую позицию: «Иштар – это высшее воплощение сексуального объекта; она предлагает всем свое тело, но на самом деле никому не подчиняется и никому не принадлежит. Женщина здесь изображена существом высшего ранга, а мужчины – низшими существами, которые служат ей и подчиняются ее воле». Вместе с тем профессор Гурвиц признает, что поскольку мы имеем дело с литературой, всегда существует опасность переноса наших нынешних представлений на древний текст со всеми его очевидными и неизбежными неопределенностями. Что, может быть, и так.
ГЛАВА 4
ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ В АККАДЕ
Поскольку мы уже упомянули об аккадском языке, поговорим об Аккаде. Катастрофы, как известно, происходят не только в природе. Вопросительными знаками загадочных катастроф кончаются также страницы человеческой истории, посвященные взлету и упадку многих великих империй прошлого. И эта история – как раз об одной такой загадке, связанной с древним Аккадским царством великого Саргана, и о новейшей гипотезе, предлагающей ее объяснение.
Одна из самых популярных книг об истории Древнего Ближнего Востока называется решительно и кратко – «История начинается в Шумере». В пику этому – и со значительно большим правом – наш рассказ можно назвать «История начинается в Аккаде», ибо если Шумер и был самой процветающей частью древней Месопотамии, то все же первыми объединили все города Двуречья, включая шумерские Ур, Лагаш, Урук и другие, именно цари Аккада.
Давайте, однако, для начала поставим, как говорится, текст в контекст. Набросаем общие историко-географические контуры происходящего. Итак, место действия – Месопотамия, или Двуречье (долина Тигра и Евфрата); время действия – 3-е тысячелетие до новой эры. Еще должны пройти добрые полтысячи лет, прежде чем древние евреи переселятся в Египет, и почти тысячелетие до того, как они совершат Исход оттуда. Но уже и в. середине 3-го тысячелетия в Египте существует могущественное государство, именуемое сегодня Древним царством; в нынешней Палестине и Сирии там и сям возникают торговые города и земледельческие поселения; на Крите и Эгейских островах развивается культура раннего бронзового века. Свой островок цивилизации существует и в Двуречье. Южная часть страны, или Шумер, с ее Уром, Уруком, Лагашем и другими городами пересечена ирригационными каналами – благодаря им речные воды оплодотворяг ют пахотные земли, на которых дважды в год ячмень приносит 50-кратные урожаи; северная часть, Аккад, славится бескрайними пшеничными полями, среди которых высятся города-государства Вавилон, Киш, Сиппар, Кута, Акшак. В сущности, все это – территория нынешнего Ирака, пограничная с нынешним Ираном, и вот здесь-то и начинается в те времена трехтысячелетняя история великих империй Древнего Ближнего Востока. Перечислим их в порядке появления и смены друг друга: Аккадское царство; Вавилонское царство; Ассирийское царство; Нововавилонское царство; Персидская империя; империя Александра Македонского. На этом фоне со 2-го тысячелетия до н. э. развивается и более знакомая нам история древних евреев.
А началось все, как уже было сказано, в Аккаде. В 2360 году до н. э. царь аккадских земель Сарган (позднее прозванный Великим) завоевал не только все города шумеров, но и раздвинул границы созданного этими завоеваниями государства на восток далеко за Персидский залив, в земли Элама; на запад – до берегов Средиземного моря (так что в пределах этих границ оказались Сирия, Ливан и Палестина); на юг – до нынешнего Омана; и на север – до равнин. Анатолии, что в сердце нынешней Турции. Поистине грандиозная получилась империя, территориально, вероятно, самая большая в мире по тем временам.
Историкам известно (из надписей и раскопок), что при сыновьях и внуках Саргана (сам он умер в 2305 году до н. э.) созданное им государство процветало и укреплялось. Вдоль северных границ, откуда то и дело пытались прорваться воинственные племена горцев, были воздвигнуты многочисленные могучие крепости; на юге расширялась и совершенствовалась система оросительных каналов; повсюду строились ступенчатые храмы-зиккураты и величественные дворцы для придворной аристократии и бюрократической элиты. Так продолжалось ещё около ста лет после смерти Саргона, а затем произошло что-то непонятное: почти внезапно и одновременно все эти цветущие города, могучие крепости и плодородные поля были заброшены и отданы во власть свирепым песчаным ветрам; люди, населявшие северную часть Аккада, покинули свои жилища и бежали на юг, словно гонимые каким-то непонятным страхом; великое царство в одночасье развалилось и стало добычей варваров, спустившихся с гор. Крушение Аккадского царства было таким основательным, что больше оно уже не возродилось, а первые робкие признаки возрождения Двуречья появились лишь спустя 300 лет, в 1900 году до н. э.! И понадобилось еще целое столетие, прежде чем земли Двуречья снова объединил (на сей раз уже в виде Вавилонского царства) великий завоеватель и законодатель Хаммурапи.
Вот это и есть та загадка, которой посвящен наш рассказ. Что вызвало бегство горожан и крестьян Аккада на юг? Что вообще вызвало этот неожиданный, ничем вроде бы не предвещавшийся крах Аккадского царства? И почему все это произошло не просто «очень быстро», а буквально «в одночасье», в течение нескольких считанных лет (сегодня это событие датируется вполне точно – оно произошло около 2200 года до н. э.)?
Первая мысль – вторжение каких-нибудь пришлых завоевателей. Но нет, исторические памятники и данные раскопок не подтверждают такой гипотезы. Вторжение с гор действительно произошло, только не до, а после развала империи; иными словами, оно было не причиной этого развала, а его следствием. Мысль вторая – какой-нибудь гигантский природный катаклизм вроде того, который, как сегодня все более уверенно считается, 65 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Но нет, не сохранились в истории следы такого катаклизма, а должны были бы обязательно сохраниться, если бы он был столь грандиозных масштабов – ведь Аккадское царство охватывало практически весь Ближний Восток.
Надо заметить, что большинство историков – «древнеближневосточников» долгие десятилетия весьма единодушно игнорировали все эти вопросы. Более того – они вообще не видели здесь загадки. По их мнению, развитие Аккада следовало обычному закону развития всех древних империй: они оказывались не способны интегрировать завоеванные ими отдельные города-государства в рамки единого государственного целого; в результате в их основах рано, или поздно обнаруживалась «имперская слабость» и они становились легкой добычей очередных, вторгавшихся извне варваров. В случае Аккада эта схема была сформулирована авторитетнейшим ассириологом Норманом Иоффе из Мичиганского университета, который даже не потрудился хоть как-то ее конкретизировать, заявив без всякого стремления к оригинальности: «Неспособность включить традиционную знать городов-государств в процесс расширения империи усилила центробежные тенденции и тем самым сделала фланги империи чересчур уязвимыми».
Понятно, что подобные теории могли держаться лишь до тех пор, пока датировка Аккадской катастрофы была расплывчатой и туманной. Но постепенно в археологии Ближнего Востока стали накапливаться данные, свидетельствовавшие о том, что эта катастрофа была исторически «внезапной» и явно связанной с какими-то природными причинами… На такие причины издавна указывала народная традиция – например, знаменитая древняя поэма «Аккадское проклятие», приписывавшая падение Аккада гневу бога Энлиля, храм которого якобы разрушил последний из аккадских царей, в наказание за что, Энлиль-де наслал на Аккад засуху, голод и вторжение варваров. Разумеется, поэма, да еще древняя, не очень серьезное свидетельство, согласимся. Однако в конце 40-х – начале 50-х годов с аналогичными «стихийно-природными» объяснениями Аккадской катастрофы выступили некоторые серьезные ученые. Например, французский археолог Шеффер высказал предположение, что эта катастрофа была вызвана повсеместными землетрясениями, а британский археолог Мелларт выдвинул гипотезу, что ее основной причиной были затяжные засухи. Однако в те времена большинство специалистов сочли эти объяснения чересчур «фантастическими». Ученые, подобные Иоффе, продолжали считать причиной катастрофы постепенное накопление неблагоприятных социально-политических факторов; другие, как израильский археолог Арлена Розен из университета имени Бен-Гуриона, признавая возможную «частичную роль» экологических причин, тем не менее, основную вину возлагали на «негибкость древних властителей», не сумевших-де «приспособиться к изменившимся условиям»; наконец, третьи, как американский археолог Бутцер, соглашаясь признать за экологическими причинами «весьма значительную» роль, все же объявляли их чем-то вроде последней соломинки, сломавшей спину уже до того перегруженного «имперского верблюда».
А меж тем ни одна из этих групп ученых не могла объяснить тот важнейший, к тому времени неоспоримо установленный факт, что в 2200 году до н. э. «что-то» произошло не только в Аккаде, но одновременно чуть ли не на всей территории тогдашнего средиземноморского мира. И раскопки с применением более точных методов датировки, и углубленное изучение новонайденных памятников действительно показали, что практически одновременно с крахом Аккадского царства в Месопотамии произошло и падение Древнего царства в Египте, и массовое и повсеместное обезлюдение городов и поселений Сирии и Палестины, и почти внезапное крушение раннебронзовой крито-эгейской культуры. Тут уже «центростремительными процессами» и «уязвимостью имперских флангов» ничего не объяснишь. Налицо была серия несомненных и весьма масштабных исторических катастроф, практическая одновременность которых требовала каких-то иных, столь же крупномасштабных объяснений.
Может быть, историки и археологи по-прежнему продолжали бы держаться за свои излюбленные социально-политические концепции постепенно нараставшего «имперского кризиса», но к этому времени в науке произошло еще одно существенное изменение: стал ощутимо меняться характер представлений о ходе исторических процессов в целом. Прежние представления о постепенном, медленном, «градуальном» характере биологической и исторической эволюции стали все более уступать место новым теориям, подчеркивавшим чрезвычайно важную, порой, возможно, решающую роль «точечных», «одномоментных» событий катастрофического характера. Короче, в науку стал возвращаться «катастрофизм», сформулированный в Начале XIX века Жоржем Кювье, а после Дарвина изгнанный из научного обихода.
Важнейшей вехой этого поворота стала выдвинутая в 1980 году отцом и сыном Альварецами гипотеза о столкновении Земли с астероидом (или крупным метеоритом) как главной причине внезапной, массовой и практически одновременной гибели динозавров. Поначалу высмеянная чуть ли не всеми специалистами, эта гипотеза спустя десять лет была блестяще подтверждена обнаружением вполне реальных следов такого столкновения, сохранившихся во многих местах планеты (в частности, следов иридия метеоритного происхождения), а затем и остатков соответствующего кратера на дне Мексиканского залива. Успех Альварецов вдохновил тех молодых историков и археологов, которым давно не давала покоя загадка Аккадской катастрофы и которых не удовлетворяли ее традиционные объяснения, и в 1993 году группа этих ученых (американец Харви Вейсс, француженка Мари-Агнес Курти и другие) выступила в журнале «Сайенс» с оригинальной гипотезой, основанной на совокупности множества новых фактических данных и предлагавшей новое решение давней исторической проблемы Аккада.
Те фактические данные, которые легли в основу этой нашумевшей (и открывшей длящийся по сей день яростный спор историков), статьи, были собраны ее авторами в течение почти 15 лет раскопок на холме Тель-Лейлан в Северной Сирии. Здесь, под многовековыми песками, были обнаружены остатки древнего города, который в свое время был одним из торговых и политических центров Аккадского царства. Результаты раскопок Тель-Лейлана во многом перевернули прежние представления специалистов о развитии цивилизации Двуречья. Раньше считалось, что хотя объединителями здешних земель были цари Аккада, но подлинную культуру – земледелия, строительства и т. д. – привнесли; в Аккадское царство жители юга – шумеры (отсюда. и упомянутое в начале этого рассказа название – «История начинается в Шумере»). Теперь выяснилось, что в действительности развитие севера и юга Месопотамии происходило практически одновременно и параллельно. Тель-Лейлан начал стремительно расширяться и застраиваться уже в 2600 году до н. э., задолго до объединения страны под властью Саргона Великого и появления на севере шумеров. К 2400 году до н. э. город увеличился в шесть раз, заняв общую площадь в 20 гектаров. Его жилые кварталы были тщательно распланированы, прямые улицы – пересечены дренажными каналами, в центре высился величественный акрополь. При Саргоне, его детях и внуках этот рост продолжался за счет переселения в Тель-Лейлан жителей окрестных городов. Судя по найденным документам, такие переселения одновременно происходили и в других местах царства; переселенцы направлялись затем на государственные работы по освоению новых земель и прокладку торговых дорог, что способствовало дальнейшему росту процветания страны. Иными словами, вплоть до 2200 года до н. э. ни раскопки, ни документы не содержат и намека на какой бы то ни было «подспудный кризис империи», который якобы стал причиной ее последующего краха.
Второе обстоятельство, неопровержимо установленное раскопками в Тель-Лейлане, – несомненная историческая «внезапность» этого краха. Вот только что (в 2250 году до н. э.) были воздвигнуты новые, мощные крепостные стены и переселены в город окрестные жители, а спустя каких-нибудь 40–50 лет Тель-Лейлан уже покинут и занесен песком! Исследователи обнаружили, что песчаные слои, покрывающие рухнувшие городские строения, не содержат ни малейших признаков человеческой деятельности на протяжении всех последующих 300 лет – только около 1900 года до н. э. в этих слоях вновь появляются следы пепла, бытового мусора, а затем и развалины новой имперской крепости. Любопытно также, что первыми на руины аккадского Тель-Лейлана легли слои песка, смешанного с вулканической пылью. Откуда она взялась в этих местах, где уже сотни тысяч лет не было никаких вулканов, непонятно, но еще интереснее, что та же картина была обнаружена и во многих других местах, где молодые исследователи подняли древние песчаные слои. Развалины Тель-Тайя, Хагар-Базара, Тель эль-Хавы и других древних аккадских крепостей тоже оказались засыпаны смесью песка и вулканической пыли, а затем – безжизненными слоями чистого песка толщиной около 20 см. Применяя методы радиоактивной датировки, исследователи установили, что начальный слой песка во всех этих местах относится к 2200-у, а последний – к 1900 году до н. э. Иными словами, все данные свидетельствовали о том, что равнины Северной Месопотамии были покинуты их жителями на целых 300 лет, начиная с 2200 года до н. э.
Те же методы датировки, примененные другими археологами к развалинам других великих культур Средиземноморья (в Египте, на Крите и т. д.), показали, что и там крах первых цивилизаций произошел в то же самое время. Более того, обнаружены следы «разрыва исторической непрерывности», а проще говоря – некой загадочной исторической катастрофы, причем в столь отдаленных от Средиземноморья местах, как долина Инда и равнины Кении. И опять в то же самое время – около 2200 года до н. э. Добавим к этому, что результаты недавнего (1996 год) исследования отложений на дне Оманского залива обнаружили и там следы того же катаклизма: слой этих отложений, относящийся к 2300–2200 годам до н. э., оказался впятеро более богат осадками, чем все предыдущие и последующие, и к тому же насыщен все той же вездесущей вулканической пылью.
Таким образом, картина катаклизма 2200 года до н. э., первые штрихи которой были прочерчены загадочной «Аккадской катастрофой», постепенно расширилась, охватив почти все известные тогда очаги человеческой цивилизации. Аккадская катастрофа оказалась не только вполне реальным историческим событием, но и одним из многих аналогичных катастрофических событий того же времени. Толчок, полученный исторической мыслью в результате новых исследований молодых западных археологов в покинутых городах Аккада, постепенно привел к становлению совершенно неожиданной концепции крупномасштабного катаклизма, одновременно затронувшего весьма отдаленные друг от друга регионы земного шара. И в этом смысле можно лишь повторить, что вся эта история, действительно, началась в Аккаде.
Но что же все-таки было причиной данного катаклизма? Несомненно, главную, так сказать, непосредственную роль в нем сыграло наступление длительного периода устойчивых песчаных бурь и засух, растянувшихся на долгие десятилетия и сделавших невозможной жизнь в городах Северной Месопотамии. Бегство тамошних жителей на юг было, видимо, прямым следствием этих экологических бедствий. Можно думать, что какие-то аналогичные причины привели к произошедшим в те же времена изменениям в течениях Нила и Инда. Все это, вместе взятое, ознаменовало наступление длительного, почти трехвекового периода засух и холодов на огромном пространстве Азии, Северной Африки и Южной Европы. Но исходной причиной катаклизма были, надо думать, еще более масштабные события. Некоторые указания на их возможный характер дают последние результаты, полученные при исследовании отложений на дне Атлантического океана между Гренландией и Исландией. В этих отложениях обнаружены слои того же времени, особенности которых свидетельствуют о резком изменении климата всего северного полушария. Некоторые климатологи высказывают на этом основании гипотезу о связи этого похолодания с неким длительным и устойчивым «эффектом Эль-Ниньо». Ведь и в наше время этот эффект, вызываемый изменениями океанских течений, оказывает существенное влияние на погоду в общепланетарном масштабе. Однако окончательного ответа на вопрос о причинах катаклизма 2200 года до н. э. пока еще нет, и, как выразился один из исследователей, тот, кто этот убедительный и однозначный ответ найдет, может наверняка рассчитывать на Нобелевскую премию. Так что загадка «Аккадской катастрофы» все еще ждет своего решения.