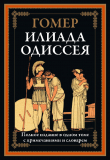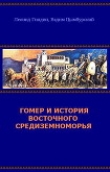Текст книги "Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий"
Автор книги: Рафаил Нудельман
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Такие же большие расстояния характерны и для многих других «правильных» пар. Каким же образом среднее расстояние для всего набора «правильных» пар в целом оказалось четвертым по малости? Анализ группы Мак-Кэя показал, что положение спасает небольшое число специфических «имен» и «дат»: будучи выбранными в определенном написании (а критерии отбора, принятые в эксперименте, как мы уже видели, вполне позволяют такую свободу выбора), они оказываются расположенными необычайно близко, и это делает среднее «расстояние» достаточно малым. Это и означает, что метод чувствителен к выбору исходных данных: стоит слегка изменить выбранное написание, как среднее расстояние между именами и датами для «правильного» набора, рассчитанное по методу Вицтума – Рипса, сразу откатывается далеко в середину миллиона других расстояний, характеризующих наборы совершенно бессмысленных и случайных сочетаний имен и дат.
Группа Мак-Кэя произвела своеобразный «проверочный эксперимент». Исследователям было известно, что после того, как Рипс и Вицтум нашли свой нетривиальный результат в тексте книги «Верещит», они решили проверить, каким будет среднее расстояние для «правильного» набора имен и дат знаменитых раввинов в переводе на иврит романа «Война и мир», и нашли, что там оно очень велико. Поэтому Мак-Кэй предложил взять другой список раввинов, составленный по методике Вицтума – Рипса (т. е. с той же свободой выбора исходных данных), но с небольшими изменениями (научную обоснованность которых подтвердили специалисты по иудаике), и посмотреть, какие результаты он даст в тексте тех же двух книг – книги «Берешит» и «Войны и мира». Эти результаты оказались прямо противоположны результатам Вицтума – Рипса: список группы Мак-Кэя занял одно из почетных первых мест среди 10 миллионов всевозможных списков имен и дат в ивритском тексте «Войны и мира»., но откатился на весьма далекое место, т. е. выглядел как вполне случайный в тексте книги «Берешит».
Разумеется, это не означает, будто «Война и мир» провидит истину относительно правильных имен и дат будущих раввинов лучше, чем Тора. Вопрос – кто лучше провидит истину, тем более будущую? – вообще не относится к ведомству науки, это вопрос, веры. С научной точки зрения, результат эксперимента Мак-Кэя означает только, что в условиях подобной свободы выбора исходных данных оба эксперимента не дают – и в принципе не могут дать – однозначных результатов. Достаточно еще раз изменить данные (в пределах той свободы, которую оставили себе Вицтум и Рипс), и «правильный» список окажется правильным даже в тексте «Моби Дика» (напомню, что Мак-Кэй и Саймон уже показали, что, располагая достаточной свободой манипулирования, можно найти в «Моби Дике» даже «предсказание» гибели принцессы Дианы). Эта оценка эксперимента Вицтума – Рипса нисколько не меняется и от того, что они провели второй «проверочный» эксперимент с дополнительным списком 32 раввинов, критерии для составления которого были определены заранее, т. е. как будто бы были вполне априорными. Дело в том, что в качестве этих критериев были выбраны все те же «правила Хавлина», оставлявшие экспериментаторам ту же свободу выбора одних имен, дат и их написаний и произвольного отбрасывания других имен, дат и их написаний, что и в основном эксперименте. Иначе говоря, второй список был просто продолжением первого. А это значит, что и его априорность была иллюзорной.
Как уже говорилось, через два года после экспериментов, описанных в статье в «Статистических науках», Вицтум доложил в Израильской Академии наук свою с Рипсом новую работу, содержавшую, среди прочих, т. н. эксперимент с народами. Методика этого эксперимента в целом повторяла методику предыдущей работы. Из текста Торы (книга «Берешит», глава 10, рассказ о праотце Ноахе) были взяты 70 названий различных народов (вроде Хуш, Мицраим, Кнаан, Магог, Ассур и так далее), и каждое йз них было спаровано с его «атрибутом» – фразой типа «народ Мицраима» или «язык Хуша», или «страна Ассура», или «люди Кнаана» и т. п., причем в обоснование того или иного выбора конкретного «атрибута» при том или ином названии народа приводилась ссылка на комментарии Виленского Гаона. Снова были составлены один «правильный» и множество «неправильных» наборов таких пар («правильная пара» – это «Хуш – народ Хуша»; «неправильная»: «Хуш – народ Мицраима»), причем «неправильных» на этот раз был миллиард без одного, снова были найдены буквенные цепочки для всех них (на этот раз все с интервалом плюс или минус 1), снова (по формуле Рипса) были измерены расстояния и найдены средние. Как уже говорилось, среднее расстояние в «правильных» («А – атрибут А») оказалось четвертым по малости и в этом невероятном по массовости забеге.
Группа Мак-Кэя произвела анализ и этого эксперимента. Оказалось, что и в нем степень свободы выбора данных была оставлена очень высокой – за счет небольшого изменения указаний Виленского Гаона. Так, комментарий Гаона вообще не содержит фраз типа «народ Куша» и пользуется только сочетанием «имя Куша», тогда как Рипс и Вицтум использовали именно первое сочетание. Между тем, если проделать тот же эксперимент с парами строго «гаоновского» типа: «Куш – имя Куша», то средняя близость в парах «правильного» списка окажется ничуть не лучше, чем близость в парах всех прочих, «бессмысленных» наборов; зато, поменяв слово «имя» на слово «народ», можно тотчас добиться огромного улучшения результата. Точно так же слегка изменен по сравнению с комментарием Гаона атрибут «язык Куша» – Гаон пользуется несколько иным словом. Когда исследователи провели расчет того, какие результаты дают все возможные атрибуты (как выбранные Вицтумом и Рипсом, так и другие, типа «характер Куша», «вождь Мицраима», «армия Магога», поддержанные комментариями Рамбана-Нахманида), то оказалось; что в сводной таблице результаты для всех прочих атрибутов распределены в целом случайным образом, но три из четырех атрибутов, использованных Вицтумом и Рипсом, занимают в ней первые места. Иными словами, если они выбраны случайно, то выбор случайно оказался невероятно удачным. Эта странная «систематическая случайность», естественно, породила у проверявших эти эксперименты математиков подозрение, не подбирали ли авторы предварительно именно те варианты написания имени или атрибута, которые давали наилучший результат, а уже затем демонстрировали этот результат. Намеки такого рода особенно резко высказываются членами группы Мак-Кэя. Мне лично представляется, однако, что все эти намеки критиков на возможность «подгонки результата» не вполне корректны.
Дело в том, что даже если такой предварительный перебор вариантов и осуществлялся, он является «подгонкой» только с точки зрения статистической науки, т. е. не позволяет считать полученный результат научным доказательством; но этот перебор не является подгонкой с точки зрения верующих людей, каковыми являются Вицтум и Рипс. Верующий человек всегда может сказать, что, перебирая, он искал тот единственный вариант написания имени раввина или атрибута народа, который был использован Автором Книги, чтобы «закодированно» записать в ней будущее. А почему Автор захотел для этого закодировать имя рава Оппенхейема в виде цепочки «О-п-п-е-н-х-е-й-м», а не «О-п-п-е-н-х-е-й-е-м», не нам судить: пути Всевышнего неисповедимы. По этому поводу еще один критик гипотезы Вицтума – Рипса, уже упоминавшийся профессор Асофер, пишет: «Можно, разумеется, сказать, что Всевышний написал Тору и закодировал в ней информацию о будущем таким способом, каким Ему заблагорассудилось, но такой подход тотчас лишает нас возможности подсчитывать вероятности по законам статистики, ибо мы не знаем – и не можем узнать, – соблюдал ли и Всевышний те же законы».
Мне кажется, что дело обстоит даже хуже: введя в науку гипотезу о всемогущем и всеведущем Авторе, мы вообще теряем возможность задавать вопросы. Например, на вопрос, почему «правильный» набор имен или атрибутов занял только четвертое, а не первое место, которое, казалось бы, должен был занять единственно «правильный» набор, или почему для подсчета расстояний принята громоздкая формула Рипса, которая требует нескольких миллионов (!) операций для вычисления расстояния между каждыми двумя буквенными цепочками (но зато, как показал детальный и независимый анализ Асофера и Саймона, в сотни раз улучшает результат эксперимента с раввинами), а не более простая формула, предложенная Диаконисом (расстояние между двумя буквенными цепочками равно числу пропущенных букв между центральными буквами этих цепочек), – всегда можно дать ответ: потому, что это Всевышний, по Своему неисповедимому желанию, предопределил этому набору именно четвертое, а не какое-либо иное место, причем именно при подсчете по формуле Рипса, а не по более простой.
Не будем поэтому препираться: наука не может и не должна решать вопрос о существовании или не существовании Автора. Но она может решить вопрос о научной доказательности результатов Вицтума – Рипса, и самыми трудными для опровержения мне лично представляются как раз не доказательства Саймона, Асофера или Мак-Кэя, а соображения текстологов-библеистов – например, уже упоминавшегося профессора Менахема Коэна из университета Бар-Илан или профессора Джеффри Тигэя из Пенсильванского университета (США). Если формулировать предельно кратко, то их соображения таковы. Суть всех проверок группы Мак-Кэя и других специалистов, говорят Коэн и Тигэй, сводится к выводу, что результаты Вицтума – Рипса весьма чувствительны к малейшим изменениям в написании тех или иных буквенных цепочек для имен и дат жизни раввинов или атрибутов народов: эти результаты сразу изменяются от замечательных (свидетельствующих о наличии Автора) к совершенно рядовым (свидетельствующим об их чисто случайном характере). Но поскольку такие же изменения в цепочках могут быть произведены не только с помощью специального подбора исходных данных, но и просто путем случайной перестановки каких-нибудь нескольких букв текста Торы, то, стало быть, результаты Вицтума – Рипса зависят также от точности этого текста. Понятно, что содержать истинное знание о будущем может только истинный, ни на йоту не искаженный текст Торы. А это значит, что и результаты Вицтума – Рипса должны быть замечательны не вообще в книге «Берешит», а только в истинном, ни на йоту не измененном тексте этой книги. Между тем Вицтум и Рипс получили свои замечательные результаты именно на искаженном тексте, и потому утверждения о какой-то особой «значимости» этих результатов (как якобы освященных особым Авторитетом источника) абсолютно несостоятельны.
Дело в том, разъясняют специалисты-библиеведы, что никакого истинного текста Торы попросту не существует. Напротив, есть множество доказательств, что текст, которым пользовались Вицтум и Рипс, равно как и все остальные существующие ныне тексты Торы, во многом отличается от того, которым пользовались во времена Второго Храма, не говоря уже о более ранних временах. Некоторые места в существующих текстах отличаются и от соответствующих цитат из Торы, приводимых составителями Талмуда (а точность таких талмудических цитат в сравнении с дошедшими до нас текстами Торы гарантируется тем, что на этих цитатах основаны некоторые галахические постановления), и от соответствующих мест в отрывках Торы, найденных в кумранских свитках. Эти разночтения затрагивают также книгу «Берешит», с которой работают Вицтум и Рипс. А поскольку буквенные цепочки, образующие имена и даты жизни раввинов или названия и атрибуты народов, разбросаны буквально по всей книге, они не могут не испытать влияния этих разночтений. Поэтому результат, полученный Вицтумом и Рипсом, даже если бы он был научно достоверен, был бы весьма странен с точки зрения верующего человека: он означал бы, что только в измененном, по сравнению с древним, тексте Торы содержится правильное предсказание имен и дат жизни будущих раввинов.
За неимением места я не могу достаточно подробно изложить интереснейшие аргументы Коэна и Тигэя. Но если у Вицтума и Рипса нет сегодня убедительного ответа на эти сокрушительные соображения, то им остается либо найти такой ответ, либо признать свои результаты не относящимися к вопросу об Авторстве. Я не одинок в этом заключении; примерно то же написали недавно в своем коллективном письме 50 видных математиков мира. Высказав, резко отрицательное мнение о научной достоверности экспериментов Вицтума – Рипса («Мы… изучили представленные доказательства существования «кодов» в Торе и нашли их совершенно неубедительными»), они далее пишут: «Некоторые из подписавшихся под этим письмом верят в Божественное происхождение Торы. Мы не видим никакого противоречия между этой верой и высказанным выше мнением». Иными словами, результаты Вицтума – Рипса не имеют никакого отношения к вопросу о существовании или не существовании Всевышнего.
По утверждению Барри Саймона, профессоры Каждан и Ауман, некогда рекомендовавшие статью Вицтума – Рипса к публикации в «Статистических науках», тоже выразили готовность присоединиться к этому коллективному письму.
ГЛАВА 3
КТО НАПИСАЛ ТОРУ
Еврейская традиция утверждает, что все пять книг Торы были получены Моисеем на горе Синай от Господа Бога. Однако эти книги (а также весь библейский текст в целом) содержат столь большое число противоречий, разночтений и несогласований, что становится попросту невозможным приписать их авторство одному автору, даже божественному. Кто же тогда создал Библию?
Попробуем рассказать, последовательно и связно, как отвечает на этот вопрос современная наука. Оговоримся, однако, сразу: речь пойдет не о привычной в христианском мире Библии, состоящей из двух частей – Ветхого и Нового Заветов, но о той только великой книге, которую христиане называют «Ветхим (т. е. Старым) Заветом», а евреи называют ТАНАХом (Тора, или «Закон», Невиим, или «Пророки» и Ктувим, или «Писания»). «Библией» (или «Книгами») ее впервые назвали эллинизированные евреи диаспоры в начале новой эры (прямо переводя на греческий раннееврейское название «а-сфарим», предшествовавшее слову «ТАНАХ»). Под этим названием она и вошла в европейскую культуру.
Роль Библии в этой культуре огромна. По существу, она заложила ее нравственные и социальные основы. Неслучайно европейскую цивилизацию называют иудеохристианской. А поскольку европейская цивилизация оказала столь же огромное влияние на историю мира, то Библия стала книгой поистине мирового значения. Из нее выросло христианство. Из нее вырос ислам. Библия до сих пор остается самой читаемой книгой в мире и неизменно занимает первое место в списках бестселлеров. Но отношение к ней различных людей далеко не одинаково. Одни понимают ее буквально, другие аллегорически, третьи историко-культурно или нравственно. Одни считают ее Боговдохновленной, другие видят в ней человеческое творение. Одни живут по ее законам, другие изучают ее методами науки. Впрочем, последнее противопоставление не означает противоречия. Научное изучение Библии не направлено на подрыв веры. Оно не имеет целью доказательство существования или не существования Бога. Оно не нацелено на разжигание конфликта между религией и наукой или между верующими и неверующими людьми.
Разумеется, как среди верующих, так и среди неверующих есть зашоренные люди, готовые крикливо навязывать другим свои крайние религиозные или атеистические взгляды. Спорить с такими людьми бесполезно. Они сами своими неумными нападками провоцируют и разжигают тот конфликт, против которого на словах выступают. У всякого серьезного верующего или атеиста знакомство с историей научного изучения Библии и достигнутыми на этом пути результатами вызывает лишь еще большее уважение к этой великой Книге. Оно углубляет понимание ее исторических и нравственных уроков. Оно является источником житейской мудрости и жизненной стойкости. Неслучайно у истоков научного изучения Библии стояли верующие люди, в том числе и евреи; да и сегодня многие, едва ли не большинство исследователей Библии являются представителями религиозных кругов. Эти занятия столь же мало подрывают их веру, сколь увлеченные и эффективные занятия наукой вообще – веру тех тысяч и тысяч современных ученых, которые остаются глубоко религиозными людьми. Со своей стороны, ни один серьезный ученый-атеист никогда не опускался до вульгарного «ниспровержения» великих религиозных идей, пронизывавших и определявших всю человеческую историю. Скорее наоборот: все они несли в душе и вдохновлялись своим, экзистенциальным эквивалентом таких идей.
Будем надеяться, что все сказанное выше сразу же очертит наш подход к намеченной теме, и приступим к ней без дальнейших отлагательств.
Научное изучение Библии (или, как его еще условно называют, «библейская критика») представляет собой, по существу, попытку ответить на один-единственный вопрос: кто написал Библию? В этом плане перед нами не что иное, как научный детектив, столь часто встречающийся в любых рассказах о науке. Как и всякий детектив, он начинается с загадок. Люди, внимательно читавшие Библию, не могли не заметить, что в ней встречаются многочисленные противоречия. Так, в рассказе о Сотворении Мира один раз (Бытие 1:20–27; здесь и в дальнейшем мы будем цитировать русский перевод, сверяя его с ивритским текстом; читатель, при желании, может произвести эту сверку и сам) говорится, что Бог сначала создал всех пресмыкающихся, животных и птиц, а затем человека – мужчину и женщину; а несколько ниже (Бытие 2:7; 2:18–22) утверждается, что Он сначала создал мужчину, затем всех животных и птиц и лишь после этого женщину. В рассказе о Потопе сначала говорится (Бытие 6:19), что Господь повелел Ною ввести в ковчег по паре из всех животных, а потом (Бытие 7:2–3) сообщается, что «чистых» (то есть пригодных для жертвы) животных и птиц велено взять по семи. И даже о самом Себе Господь (если считать Его первовдохновителем библейского текста) говорит на удивление противоречиво: в книге «Берешит» (Бытие 4:26) Он сообщает, что Его имя начали призывать (то есть произносить) уже в древнейшие времена, после рождения Адамова внука; а в книге «Шмот» (Исход 6:3) рассказывает Моисею, что это же Свое имя Он не открыл даже Аврааму, Ицхаку и Яакову.
Таких примеров можно привести множества Верующие люди, читавшие эту книгу на протяжении столетий, не могли не задумываться над ними. Традиция учила их, что первые пять книг ТАНАХа, или Тора, были написаны Моисеем. Но читавшие не могли не видеть противоречий между этим утверждением и самим текстом. В тексте упоминаются многие события, о которых Моисей знать не мог. Рассказывается, например, о смерти Моисея. Говорится, что Моисей был самым скромным человеком на Земле. Трудно думать, что самый скромный человек на Земле станет говорить о себе, что он самый скромный человек на Земле. И так далее. Все это порождало законные недоумения. Мы знаем, что такие недоумения высказывались очень часто, – хотя бы потому, что уже в III в. н. э. христианский богослов Ориген написал специальный трактат, направленный против тех, кто сомневался в моисеевом авторстве. Он предложил разъяснения некоторых противоречий. Аналогичные разъяснения предлагали раввины. Они утверждали, что противоречия являются мнимыми и могут быть сняты с помощью дополнительных комментариев и интерпретаций. В частности, упоминание событий, о которых Моисей якобы не мог знать, объясняется тем, что Моисей был пророк, а текст Торы вдохновлен Богом. В подобных интерпретациях особенно были искусны великие еврейские комментаторы Раши и Нахманид. (Много позже Бабель с любовной иронией спародировал этот метод интерпретации в одном из своих «Одесских рассказов»: «Ночью… – читал Арье-Лейб. – Что говорит нам Раши? Раши говорит нам: ночью – это ночью и днем».)
Были, однако, люди, которых не удовлетворяли такие способы решения загадок библейского текста. Принимая в целом авторство Моисея, они высказывали предположения, что в отдельных местах моисеев текст мог быть дополнен теми или иными фразами, вставленными более поздними переписчиками. Первым из известных нам людей такого рода был еврейский врач Ицхак Ибн Яхуш, живший в XI веке при дворе одного из мусульманских правителей Испании. Он обратил внимание на то, что в книге Бытия (36:31–39) перечисляются цари Эдома, жившие намного позже смерти Моисея. Неизвестно, почему его смутило именно это противоречие, но он высказал мысль, что данный перечень является более поздней вставкой. За это он был назван «Ицхаком-путаником». Назвал его так Авраам Ибн Эзра, испанский раввин XII века. Он даже добавил, что книга Ибн Яхуша «заслуживает сожжения». Но тот же Ибн Эзра в своих собственных сочинениях намекнул, что в ТАНАХе имеются фразы, которые никак не могли принадлежать Моисею: упоминания о Моисее в третьем лице; описание мест, где он никогда не бывал, и событий, которые случились после его смерти, и так далее. Ибн Эзра, однако, был осторожнее Ибн Яхуша. Он просто написал: «Тот, кто понимает, будет хранить молчание».
В XIV веке ученый из Дамаска Бонфилс впервые высказал вслух дерзкое предположение, призванное разъяснить все упомянутые загадки:
«Они являются свидетельством того, что эти фразы вписаны в Тору позже и не Моисеем; скорее их вписал какой-то более поздний пророк». В XV веке епископ Тостатус, развивая эту мысль, предположил, что этим более поздним автором был Йегошуа Бин-Нун, преемник Моисея и первый еврейский завоеватель Ханаана. Но столетием позже немецкий ученый Карлштадт обратил внимание на то, что описание моисеевой смерти излагается точно в том же стиле и тем же языком, что и весь остальной текст. А это делало затруднительным приписать «добавки» кому-либо другому. Его современник, фламандский католик Андреас ван Маес, и два иезуита, Перейра и Бонфрер, попытались преодолеть эту трудность, выдвинув гипотезу, что Моисею принадлежал только исходный текст Торы, но до нас дошел текст, слегка измененный какими-то более поздними «редакторами», которые своими вставками и. исправлениями пытались сделать его более понятным читателям. Книги этих авторов были немедленно запрещены католической цензурой.
На третьем этапе этой истории – в XVII веке – английский философ Томас Гоббс выдвинул еще более радикальное предположение: основная часть текста Торы вообще не принадлежит Моисею. Гоббс собрал множество аргументов в пользу этого своего тезиса и изложил их в специальной книге, которая получила широкую известность среди читателей. Одновременно аналогичный тезис выдвинул и французский протестант Перьер. Ему повезло меньше, чем Гоббсу, – его книга была конфискована и сожжена, а сам он был арестован и купил свободу только ценой отречения от своих слов и перехода в католицизм. Но вскоре к мнению Гоббса и Перьера присоединился также Спиноза, Мало того, что он систематизировал все противоречия, найденные в библейском тексте его предшественниками, – он добавил к ним новые наблюдения. Он, например, обратил внимание на фразу (Второзаконие 34:10): «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей», – которая явно была написана кем-то, жившим через много лет или даже столетий после Моисея. Как известно, Спиноза был отлучен от иудаизма, а его книги были осуждены не только еврейскими раввинами, но также католиками и протестантами. Однако все эти преследования не могли, конечно, остановить пытливую мысль, и уже вскоре после осуждения трудов Спинозы французский католический священник Ришар Симон выступил со своей версией происхождения Торы – самой радикальной из всех, предлагавшихся до тех пор.
Спиноза был первым, кто показал, что логические и композиционные несообразности в Торе представляют собой не изолированные, худо-бедно объяснимые противоречия, а систематическую особенность всего текста. На этом основании он предположил, что текст этот принадлежит не Моисею, а более поздним авторам, которые имели в своем распоряжении несколько старинных источников. Эта идея получила дальнейшее развитие у трех авторов следующего века – немецкого священника Виттера, французского врача Астрюка и немецкого историка Эйхгорна. Их книги сосредотачивались главным образом на анализе так называемых библейских дублетов. Под таким названием среди специалистов известны те места Торы, которые рассказываются в ней дважды. Таких эпизодов особенно много в ее первых книгах. Процесс Сотворения мира, история Потопа, заключение Богом завета с Авраамом, объяснение имени Ицхака, объявление Авраамом своей жены Сары сестрой, путешествие Яакова в Месопотамию, откровение Яакову. возле Бейт-Эля и изменение его имени На Исраэль, эпизод высекания Моисеем воды из скалы – все это и многое другое излагается в Торе в двух версиях, детали которых зачастую противоречат друг другу. Богословы – раввины и священники – не могли пройти мимо этих противоречий. Поэтому они объявили их мнимыми. Две версии дублета, разъясняли они, не противоречат, а дополняют друг друга. Тем самым они преподносят верующему более глубокий урок.
Исследователи Библии не были удовлетворены этими разъяснениями. Они обратили внимание на странную закономерность. В большинстве дублетов различия между составляющими их версиями весьма устойчивы. Говоря о Боге, одна версия всегда использует слово «Элогим», другая всегда пользуется обозначением «Ягве». Вспомним, например, рассказ о Потопе. В шестой главе книги Бытия (Берешит) пятый стих открывается словами: «И увидел Ягве…», шестой: «И раскаялся Ягве…», седьмой: «И сказал Ягве…», восьмой заканчивается словами: «Перед очами Ягве». Но в стихе девятом уже говорится, что «…Ной ходил перед Элогим». Этот стих открывает длинный ряд других, до самого конца главы, в которых Бог именуется исключительно словом «Элогим». В них подробно излагается, какой ковчег «Элогим» повелел Ною построить и каких тварей в него взять: «…от всякой плоти по паре». После чего «сделал Ной все, как повелел ему Элогим». Однако следующая глава немедленно открывается повторением:
«И сказал Ягве (!) Ною… всякого скота чистого (т. е. пригодного для жертвы. – Р.Н.) возьми по семи (!) пар…» Этот повтор продолжается вплоть до пятого стиха, где снова говорится, что «…сделал Ной все, что Ягве повелел ему», – после чего начинается отрывок, в котором Бог опять начинает именоваться словом «Элогим». Такие отрывки, повторяющие друг друга в разных выражениях и с разным наименованием Бога, чередуются вплоть до конца рассказа.
Примем как гипотезу, что история Потопа – это искусная комбинация двух различных рассказов. Продолжается ли каждый из них также и в последующем тексте? Оказывается, да. Если продолжить сопоставление дублетов, то нетрудно заметить, что почти все они содержат те же две версии, четко различающиеся наименованиями Бога. И вот что интересно: если собрать по порядку все те куски текста, в которых Бог именуется «Ягве», то образуется вполне связный рассказ, повествующий о событиях от Сотворения мира до Исхода из Египта. А если собрать все куски, в которых Бог именуется «Элогим», получится другой связный рассказ, повествующий о тех же (!) событиях – от Сотворения мира до Исхода из Египта, – но уже по-своему, со своей стилистикой и своими особыми приметами. Эти различия не сводятся только к разным наименованиям Бога. Оба рассказа отличаются и другими устойчивыми разночтениями. В одном коренные жители Ханаана всегда называются аморитами, в другом – хананеянами. Один всегда именует пустыню, в которой евреи скитались после исхода из Египта, Хоревской, другой – Синайской. В одном имя моисеева тестя – Итро, в другом – Ховав. И так далее.
Заслуга Виттера, Астрюка и Эйхгорна состояла в том, что они первыми заметили этот удивительный факт. Независимо друг от друга они выдвинули гипотезу, что по крайней мере первые две книги Пятикнижия являются контаминацией двух разных древних источников. В соответствии с разным наименованием Бога в этих источниках первый из них получил название «Ягвист», а второй – «Элогист». Для краткости их часто обозначают первыми буквами соответствующих слов – J и E. Их различие состоит не только в разных наименованиях Бога и других деталях. Как уже сказано, они отличаются и чисто литературно. «Ягвист» намного более талантливый писатель, чем «Элогист». Вот как характеризует его современный историк Драйвер: «Ягвист рассказывает свою историю, удивительно точно взвешивая необходимое количество деталей; его рассказ никогда не бывает затянут и всегда держит читателя в напряжении до самого конца. Он пишет легко, без усилий, избегая вычурных красот. Элогист, рассказывающий, по существу, те же истории, обнаруживает куда меньшую литературную искушенность». Вы можете сами оценить справедливость этой характеристики, перечитав, например, рассказ «Ягвиста» о сотворении мира и человека. Он начинается со второй половины четвертого стиха 5-й главы книги Бытия («В то время, когда Ягве создал небо и землю…») и кончается 25-м стихом той же главы («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились»).
Совершенно иначе, суше и пространней, повествует о том же вся 1-я глава той же книги и три первых стиха главы 2-й. Забавно, что на переходе между этими двумя рассказами обнаруживается своеобразная «связка», призванная как-то замаскировать повтор (начало четвертого стиха: «Вот происхождения неба и земли, при сотворении их»). Она явно принадлежит тому человеку, который «сшивал» оба повествования воедино. Современные специалисты условно называют его. «редактором» (хотя в этой роли могли, конечно, выступать несколько людей). «Редактор» был, несомненно, выдающимся специалистом своего дела – его сшивки и вставки с первого взгляда почти незаметны, их обнаружение требует кропотливой работы. Занимаясь ею, исследователи библейского текста вскоре обнаружили еще одну странную особенность. Выделив рассказ E, они обнаружили, что внутри него имеются свои дублеты! Текст «Элогиста» оказался, в свою очередь, распадающимся на два различных текста! «Редактор» (или редакторы) явно дополнили рассказ E вставками из какого-то третьего источника. Этот неизвестный источник был выявлен, прежде всего, по его особому содержанию. Хотя автор этого источника тоже именует Бога неизменным словом «Элогим», но его текст отличается от текста «Элогиста» резко повышенным интересом к наставлениям, заповедям, религиозным предписаниям и деталям священнической службы. Эти вопросы он излагает с большой подробностью и какой-то поистине «канцелярской» сухостью. Создается впечатление, что этот автор был священником-левитом. Исследователи, обнаружившие этот третий источник, назвали его поэтому «Жреческим», сокращенно P – от английского слова Priest.