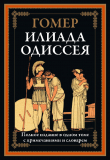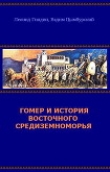Текст книги "Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий"
Автор книги: Рафаил Нудельман
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Последующий анализ показал, что «Жрецу» принадлежит весьма значительная часть, что раньше считалось принадлежащим «Элогисту», а в сумме, по всем четырем первым книгам Торы, – самый большой объем их текста, превосходящий источники J и собственно E, вместе взятые. Особенно велика доля P в третьей и четвертой книгах – «Ваикра» (в славянском переводе Библии – Левит) и Бэмидбар (Числа). Но источник P обширно представлен также и в первых двух книгах – Бытие и Исход. Здесь ему принадлежат прежде всего генеалогии Адама, Ноя, Авраама и так далее. Эти генеалогии «Жрец» неизменно начинает излюбленным оборотом: «Эле толдот…» («Вот родословие…»). У него есть и другие излюбленные словосочетания и целые фразы. Он, например, предпочитает пользоваться словом «ани» («я») вместо «анохи», которым пользуется источник E. Если «Элогист» называет Месопотамию Арам-Нагараим, то Жрец именует ее Паддан-Арам. Ему же принадлежит знаменитое «пру урву» («плодитесь и размножайтесь»). Тот рассказ о сотворении мира и человека, который занимает всю первую и три начальных стиха второй главы книги Бытия, тоже взят из источника P (а не E, как думали раньше). Это довольно суховатый рассказ, в котором Бог сначала создает животных, а потом людей – мужчину и женщину одновременно. У «Ягвиста» это излагается куда ярче и увлекательней: сначала Бог создает Адама, потом решает, что «нехорошо человеку быть одному», и пытается дать ему «помощника, соответственного ему», создает для этого животных, видит, что «для человека не нашлось помощника, подобного ему», и только тогда решает создать Еву из адамова ребра. «Редактор» почему-то предпочел в данном случае просто изложить оба рассказа по отдельности, соединив их лишь упомянутой выше короткой связкой. В других случаях он обычно «прослаивает» один рассказ кусками второго или третьего. Замечательный пример этого редакторского искусства дает история Потопа.
Эта история изложена в книге Бытия, от пятого стиха 6-й главы до двадцать второго стиха 8-й. Она скомбинирована из двух источников. Мы приведем ее здесь частично. Текст одного источника будет приведен без всяких помет, текст другого будет дан в отдельных абзацах и отмечен скобками. Итак: «И увидел Ягве, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Ягве, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем. И сказал Ягве: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Ягве.
(Вот родословие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем:
Ной ходил перед Элогим. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Йафета. Но земля растлилась перед лицем Элогим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Элогим на землю… и сказал Элогим Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… и введи также в ковчег из всякого скота… по паре… И сделал Ной все; как повелел ему Элогим, так он и сделал.)
И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя Я увидел праведным предо Мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи пар… а из скота нечистого по две… Ной сделал все, что Ягве повелел ему.
(Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.)
И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов их в ковчег от вод потопа.
(И из птиц чистых и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся на земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною.)
Чрез семь дней воды потопа пришли на землю.
(В шестисотый год жизни ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей).
(В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Йафет, сыновья Ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними… и все звери земли по роду их… И затворил Элогим за ним ковчег.)
И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей…
(…Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.)»
Думается, что и приведенного отрывка достаточно, чтобы сложить из двух его версий два отчетливо разных рассказа, каждый со своими подробностями, своими стилевыми особенностями и даже своей хронологией Потопа. Как читатель уже, наверное, догадался, первый рассказ принадлежит «Ягвисту», второй – «Жрецу». Эти два источника чередуются в книге Бытия и дальше. Собственно «Элогист» впервые появляется в ней только начиная с 20-й главы.
Но сложности библейского текста не исчерпываются одним лишь наличием и взаимным проникновением этих трех источников. В середине XIX века немецкий ученый де Ветте опубликовал работу, в которой излагалась еще более революционная гипотеза. Детально изучив текстовые и лингвистические особенности пятой книги Торы, «Дварим» (в славянской Библии – Второзаконие), он пришел к выводу, что она резко отличается от первых четырех. В ней почти нет следов трех древнейших источников – J, E и Р, если не считать нескольких фраз в последних главах. Она написана совершенно иным языком. Ее лексика специфична.
Ее автор пользуется иными излюбленными оборотами и повторяющимися фразами. Он заново рассказывает многие эпизоды, уже рассказанные в первых четырех книгах. С другой стороны, он во многом противоречит этим книгам. Даже некоторые формулировки Десяти Заповедей у него иные. Де Ветте выдвинул гипотезу, что Второзаконие представляет собой совершенно отдельный – четвертый – источник Торы. Он обозначил его буквой D (от Deuteronomion – названия книги в греческой Библии, что и означает «Второзаконие»).
Итак, у Торы оказался не один автор, а целых четыре!
Ее первые четыре книги представляют собой переплетение рассказов трех авторов – «Ягвиста» (J), «Элогиста» (Е) и «Жреца» (Р). Ее последняя книга – Дварим, или Второзаконие – написана четвертым автором (который условно обозначается буквой D). Все эти источники были объединены и связаны друг с другом неким «редактором» или несколькими редакторами, жившими намного позднее. Это утверждение, конечно, не является абсолютной истиной. Это всего лишь научная гипотеза. Но она основывается на множестве конкретных фактов и объясняет многие особенности текста ТАНАХа. Для того, чтобы её опровергнуть, нужно предложить другую гипотезу, которая согласовывалась бы с теми же фактами, но давала им другое объяснение. Пока что такую альтернативу не предложил никто. Исследователи, выступающие против «гипотезы четырех источников» (например, Кассуто или Кауфман), оспаривают ее отдельные положения, но не сам факт наличия в Торе нескольких различных рассказов.
Однако гипотеза четырех источников далеко не исчерпывает всех проблем происхождения Торы. Она не отвечает на важнейший вопрос: кто был автором каждого из этих источников и когда они были написаны. Подчеркнем это слово – «написаны». Многие величайшие произведения древности имеют устную предысторию. Древнегреческие мифы столетиями передавались из уст в уста, прежде чем были записаны Гесиодом и Овидием. Та же судьба была и у поэмы о Гильгамеше. Можно думать, что рассказы «Ягвиста», «Элогиста» и «Жреца», составившие первые четыре книги Торы, тоже восходили к более древней устной традиции. Сказания о Сотворении мира, первых людях, Потопе, деяниях Праотцев и Исходе из Египта могли передаваться из одного поколения в другое, пока наконец «Ягвист», «Элогист» и «Жрец» не сложили из них связные рассказы – каждый по-своему, но все – об одном и том же. Попытки обнаружить эти древнейшие слои составляют важнейшую часть поисков современных исследователей. На этом пути достигнуты интересные результаты. Многие исследователи, например, склоняются сегодня к мысли, что некоторые элементы этой древней устной традиции могли действительно восходить к Моисею. Одним из таких элементов был, по всей видимости, перечень Десяти Заповедей. Мы поговорим об этих новейших изысканиях позднее. Сейчас нас интересует авторство и время создания Пятикнижия в том виде, в котором оно до нас дошло. Первыми к этому вопросу подступились немецкие исследователи XIX века Граф и Ватке. Граф пытался ответить на него, исходя из логических и хронологических особенностей библейского текста. Если какой-то из источников рассказывает о более поздних событиях, то он, очевидно, создан позже. Ему удалось найти ряд таких «ориентиров». Это позволило ему предложить возможную датировку всех четырех источников. По Графу, самыми древними были E и J; несколько более молодым – D; а самым поздним – P. Ватке, в отличие от Графа, датировал те же источники на основании их религиозных особенностей. Он исходил из представления, что иудаизм развивался от обожествления сил природы в сторону «духовно-этической» религии, а затем превратился в «священнический культ». Отыскав в каждом источнике приметы той или иной стадии такой эволюции, он пришел к выводу, что первыми возникли источники E и J, затем – D и последним – P.
Эти работы были обобщены и продолжены крупнейшим библиеведом XIX века Юлиусом Вельхаузеном. В своих «Пролегоменах к истории Израиля» Вельхаузен свел воедино все найденные предшественниками доказательства гипотезы четырех источников и предложил собственный, более детальный и конкретный вариант их датировки. Он выдвинул предположение, что источники J и E сложились в эпоху, непосредственно предшествовавшую царствованию Саула и Давида; D был создан во времена царя Йошиягу, то есть незадолго до разрушения Первого храма; а P – уже после возвращения евреев из Вавилонского плена. Это предположение Вельхаузен подкрепил огромным множеством аргументов, учитывавших всю совокупность тогдашних знаний об истории древних евреев и эволюции их религии. Столь мощное обоснование позволило его теории продержаться несколько десятилетий, вплоть до середины XX века. Но сегодня она представляется во многом устарелой. Новые археологические и исторические данные привели к появлению более детальных и убедительных гипотез. Они реконструируют историю становления Торы, исходя из современных представлений о том мире, в котором она возникла. Эти представления помогают понять, когда и как это происходило. Сказанное означает, что для того, чтобы ответить на вопрос, кто написал ТАНАХ, нужно, прежде всего, отчетливо представить себе мир, его породивший.
Попробуем воссоздать этот мир! Конечно, мы не будем пытаться воскресить здесь всю древнееврейскую историю. Ограничимся лишь теми фактами, которые необходимы для нашей цели. После смерти Моисея евреи, руководимые Йегошуа бин-Нуном, вторглись с востока в Ханаан и расселились здесь среди местных племен, отвоевав себе холмистое плоскогорье, тянувшееся с севера на юг, через Шхем и Хеврон. На западе их соседями были владевшие побережьем филистимляне и, чуть севернее, финикийцы; на севере их земли граничили с Сирией, на юге – с Эдомом. Весь этот регион в целом был зажат между двумя тогдашними сверхдержавами – Ассирией и Египтом. Евреи того времени жили в деревнях и небольших городах, занимаясь в основном земледелием и скотоводством, частично – ремеслом и торговлей. Они разделялись на 12 племен, или колен, каждое из которых владело собственной небольшой территорией. Тринадцатым было колено Леви, не имевшее собственного земельного надела, – его члены жили в городах других колен и, по традиции, составляли группу жрецов (или священников). Каждое колено имело собственных лидеров, которые в ту пору именовались «судьями». Во времена военной опасности они часто становились военачальниками своего колена. Кроме священников и судей (часто в одном лице), заметную роль в тогдашнем еврейском обществе играли еще и пророки («невиим»), вещавшие от имени Бога евреев. Этим Богом был Ягве. В некоторых отношениях он напоминал богов соседних с евреями ханаанейских племен. Эти племена были языческими. Пантеон их богов возглавлял Эль – верховный владыка, божество мужского пола. Эль не отождествлялся с какой-либо природной силой – он восседал во главе совета богов и объявлял их решения. Ягве тоже не отождествлялся с природными силами; но он не был и главой божественного пантеона. Его принципиальное отличие состояло в том, что Он был Один и представлял собой скорее Бога истории, которая, по убеждению евреев, развертывалась в соответствии с Его намерениями. Эпоха Судей завершилась во времена Самуила (Шмуэля). Самуил был одновременно судьей, священником и пророком. Он жил в городе Шило, который был тогда главным религиозным центром всех еврейских колен. Здесь хранилась так называемая «Скиния Завета», где находился Ковчег, внутри которого, как утверждала традиция, находились моисеевы скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями. Религиозные церемонии в Шило отправляли священники, которые возводили свою родословную к самому Моисею. Во времена Самуила еврейские колена подверглись сильнейшему натиску филистимлян. Отразить этот натиск можно было только объединенными усилиями, и Самуил, уступая «воле народа», провозгласил полководца Саула первым общеизраильским царем. Так эпоха Судей сменилась эпохой Царей. Но израильская монархия не была абсолютной. Власть царя ограничивалась и уравновешивалась авторитетом священников и пророков. Царь нуждался в их поддержке и одобрении, поскольку религия в ту пору не была отделена от государственной власти. Она вообще не была отделена от всей жизни – в тогдашнем иврите еще не было даже особого слова для «религии». Авторитет Самуила был так велик, что когда Саул нарушил его предписания, пророк низложил его от имени Господа и помазал на царство Давида. А Саул вскоре пал в битве с филистимлянами. В отличие от Саула, принадлежавшего к колену Биньямина, Давид был родом из колена Йегуды. Это самое южное из израильских колен владело самой большой территорией, а воцарение Давида еще более усилило его роль. Давид понимал, что это может восстановить против него северные колена. Он не хотел также раздражать священников Шило во главе с Самуилом, которые оказали ему поддержку в борьбе с Саулом. Поэтому он предпринял ряд искусных шагов для упрочения единства своего царства. Он перенес свою столицу из Хеврона, который был главным городом колена Йегуды, в завоеванный у ханаанейского племени иевуситов Иерусалим. Этот город не принадлежал ни одному из колен, и его возвышение не могло никого обидеть. Сюда же он перенес и Ковчег Завета. Вторым шагом Давида было назначение сразу двух главных священников – одного с юга, другого – с севера. Представителем Йегуды был главный священник Хеврона Цадок; интересы северных колен представлял один из жрецов Шило – Авиатар. Заметим, что первосвященники Хеврона вели свою родословную не от Моисея, как жрецы Шило, а от Аарона, его брата. Назначение двух первосвященников было не только данью двум частям Давидова царства, северной и южной, но и своего рода религиозным компромиссом между двумя древними священническими традициями – Моисеевой и Аароновой. Наконец, Давид создал постоянную профессиональную армию, которая подчинялась только ему и делала его независимым от военачальников отдельных колен. С помощью этой армии он добился значительных военных успехов – завоевал Эдом, Моав, Аммон, часть Сирии и подчинил своей гегемонии Филистию. В результате он создал империю, простиравшуюся от Нила до Евфрата.
Давид стал родоначальником одной из самых долговечных в истории династий. Евреи настолько привыкли к царям «из рода Давидова», что впоследствии приписали это происхождение даже мессии (а христиане – Христу). Давид вообще занимает особое место в еврейской истории, сравнимое разве что с местом Моисея. ТАНАХ отводит ему почти такой же объем текста. Судя по этому тексту, Давид был действительно выдающейся личностью – замечательным полководцем, мудрым государственным деятелем, талантливым певцом, музыкантом и стихотворцем. Выдающейся личностью был и его преемник Соломон. Но между ними была одна существенная разница. В то время как Давид делал все для объединения своего царства, Соломон посеял семена его распада. Именно этот распад, как считают современные исследователи, как раз. и стал толчком к созданию первых библейских книг. Сейчас мы поймем, кто именно, когда и почему их создал.
Длительное правление Соломона (965–928 гг. до н. э.) стало кульминационным пунктом в истории единого древнееврейского государства. Оно оставило глубокий след не только в еврейской памяти. Арабский фольклор тоже до сих пор хранит многочисленные легенды и предания о великом «царе Сулеймане ибн Дауде» (мир с ними обоими!). Но в это же время были заложены предпосылки для распада государства евреев. Этот распад, по мнению современных исследователей, как раз и подготовил почву для возникновения первых книг ТАНАХа. Поэтому поговорим сначала об истории этого времени.
Важнейший вклад в изучение политической истории Соломонова царства внес американский библиевед (тогда еще выпускник Гарвардского университета) Барух Гальперин. Его работа была продолжена другим американским еврейским исследователем – Ричардом Фридманом. Результаты их работы, основанные на тщательном изучении библейских источников, а также исторических и археологических материалов, позволяют восстановить детальную картину интересующих нас событий. Мы выберем из них лишь самые необходимые.
Соломон продолжил политику централизации монархии, начатую его отцом Давидом. Еще до восшествия на престол ему пришлось выдержать борьбу с одним из старших сыновей Давида Адонией, которого поддерживал первосвященник из Шило Авиатар. На стороне Соломона в этой борьбе был второй Давидов первосвященник – Цадок из Хеврона. Победив Адонию, Соломон изгнал Авиатара из столицы. Вместе с Авиатаром впали в немилость и все другие священники из северных областей царства, которые возводили свою родословную к Моисею. Главной опорой Соломона стали священники из колена Йегуды, потомки Аарона, во главе с Цадоком. Этот передел священнической власти оказал важное влияние на последующие события. Еще более важным шагом на пути к централизации власти было строительство Иерусалимского Храма. Соломон построил его с помощью финикийского царя Хирама. За это он отдал ему двадцать городов в Галилее, то есть северных областей царства. Утрата галилейских городов нанесла еще один удар по интересам северных колен. Еще более серьезным ударом стала для них проведенная Соломоном административная реформа. Вместо древнего деления страны на уделы двенадцати колен Соломон ввел разделение на 12 новых округов, границы которых не совпадали с традиционными уделами. Каждый из этих округов насчитывал около 50–60 тысяч человек и был обложен своей податью, предназначенной на покрытие расходов по строительству Храма. Распределение этих податей было неравномерным: самыми тяжелыми были поборы с северных округов. Кроме того, Соломон впервые ввел систему постоянных налогов или «мисим». Как подсчитал историк Олбрайт, каждый округ в среднем должен был сдавать в царскую казну почти 10 тонн зерна, 900 быков и 3000 овец в год. Но опять-таки, послабления были сделаны для округов, населенных коленами Йегуды и Биньямина, а главная тяжесть налогов легла на северные колена. Эта несправедливость вызвала глухое брожение на севере царства. Свидетельством этого недовольства может служить следующий показательный факт: когда, после смерти Соломона, в северных округах вспыхнуло восстание, первым царским чиновником, которого убили восставшие, был сборщик «мисим». Стоит отметить и другой важный факт: глашатаем восстания был пророк Ахия а-Шилони, представитель униженного царем священничества из Шило.
Восстание началось после того, как преемник Соломона Рехаваам отказался отменить повинности, возложенные его отцом на северные колена. Во главе восставших встал Йороваам из колена Эфраима. Как свидетельствует 3-я книга Царств (12:16), восставшие выдвинули лозунг «Нет нам доли в сыне Ишая (то есть у Давида. – Р.Н.) По шатрам своим, Израиль!» Результатом восстания было отпадение десяти северных колен от царства Давида – Соломона и образование ими особого, северного – Израильского – царства, на власть в котором Ахия помазал Йороваама. Власть Рехаваама оказалась ограниченной наделами колен Иуды и Биньямина, которые с этого времени стали называться Иудейским царством.
Израиль был многолюднее Иудеи, но его население не было однородным: значительную его часть составляли ханаанские племена. Их религия была языческой, пантеон их богов – Элогим возглавлял Баал, сын Илу, родоначальника Элогим, и под влиянием хананеян поклонение Баалу, а также другие языческие обряды широко распространились также среди еврейского населения Израильского царства – куда шире, чем в Иудее, где монотеистическая вера в Ягве не имела таких примесей язычества. Эта политическая и религиозная неоднородность Израиля создавала неустойчивое положение, и Йороваам поспешил укрепить свою власть – как среди евреев, так и среди хананеян. Он провозгласил столицей царства город Шхем (во многом еще ханаанейский) и стал утверждать собственный вариант иудаизма, в котором традиционный для евреев культ Ягве сочетался с некоторыми чертами ханаанейских Элогим. Для этого Йороваам создал новые религиозные центры, установил новые даты праздников, назначил новых священников и ввел новые религиозные символы. Эта своеобразная, «израильская» версия общееврейской религии вводилась им, в частности, еще и для того, чтобы подданные его не должны были отправляться на праздники в Иерусалимский Храм – в царство Рехаваама. Новые религиозные центры были продуманно построены на северной и южной границах царства – в еврейском городе Дан и в ханаанейском (судя по названию) городе Бейт-Эль. Дата праздника Суккот была перенесена на месяц позже, чем в Иудее (что, кстати, опять же соответствовало древней северной традиции). И если в Иерусалимском Храме подножьем для незримо присутствующего в «святая святых» Ягве служили два позолоченных херувима (в виде четвероногих животных с человеческой головой и птичьими крыльями), то в храмах Бейт-Эля и Дана Господь незримо опирался на двух отлитых из золота молодых быков («тельцов»). Заметим, что это был также жест в сторону ханаанейских подданных Йороваама – их Эль-Баал обычно изображался в виде молодого бычка. Создавая для себя опору в виде новой религиозной знати, Йороваам руководствовался принципом «политических назначений» – он отобрал новых священников из лично преданных ему людей, а не из левитов Шило, считавших себя потомками Моисея. Эти левиты, из среды которых вышли такие люди, как Самуил, Авиатар и Ахия, помазавший Йороваама на царство, могли ожидать награды за свои заслуги перед Израилем; оттесненные в сторону новыми «назначенцами» царя, они, несомненно, ощутили себя жестоко ущемленными. Запомним и эту деталь – она нам вскоре пригодится. Пока же заключим: несмотря на все усилия Йороваама его царство осталось нестабильным. Ни одна из царских династий Израиля не продержалась дольше двух-трех поколений. Да и само Израильское царство просуществовало не более 200 лет. В 722 году до новой эры оно было разгромлено и покорено Ассирией. 23 тысячи человек были уведены в плен; остальные рассеялись; многие бежали в соседнюю Иудею. 10 северных колен прекратили свое существование. Иудейское царство продержалось еще свыше ста лет, непрерывно управлямое потомками Давида. Но в 586 году до н. э. пало и оно – на сей раз под натиском вавилонян. А теперь вернемся к созданию ТАНАХа.
Сквозь первые четыре книги Торы (мы уже об этом говорили) струятся, то переплетаясь, то расходясь, два повествовательных потока – два рассказа, выдающие свои отличия многочисленными повторами, противоречиями и разночтениями. Они рассказывают об одних и тех же событиях: Сотворении Мира, первом Человеке и его сыновьях, о поколении Ноя и Потопе, о Праотцах и египетском рабстве, о Моисее, Исходе из рабства и даровании Торы – и это свидетельствует о наличии в их основе общей древней традиции, принадлежащей одному народу. Но каждый рассказ повествует об этих событиях несколько иначе, и эти различия оказываются устойчивыми сквозными приметами, позволяющими отделить один рассказ от другого. Главным таким различием обычно считают наименование Бога. Так, в одном лишь рассказе о сотворении мира одна версия 35 раз называет Бога словом «Элогим» – и ни разу не употребляет слово «Ягве»; другая 11 раз употребляет для этого слова «Ягве Господь» – и ни разу не прибегает к слову «Элогим». На этом основании эти рассказы приписываются двум разным авторам – «Элогисту» (Т) и «Ягвисту» (J). Но само по себе это обстоятельство еще не является решающим – современный израильский автор вполне мог бы в одних местах своей хроники нынешних событий называть премьера «Нетаниягу», а в других – «Биби». Однако две упомянутые версии Торы имеют и множество других отличий, не менее, а может быть, даже более показательных. В том же рассказе о Сотворении Мира одна версия перечисляет такой порядок создания живых существ: растения; животные; человек (мужчина и женщина), тогда как вторая утверждает, что порядок был иной: человек (мужчина); растения; животные; человек (женщина). Одна версия утверждает, что Ной взял в ковчег по паре всех живых существ, а другая говорит, что «чистых» существ было взято по семь пар. Одна версия различает между «чистыми» и «нечистыми» (непригодными для жертвы) животными; другая такого различия не проводит. Одна рассказывает, что Ной отправил на поиск суши ворона, другая называет голубя. В одной потоп продолжается год, в другой 40 дней и ночей. (Дж. Фрезер в своей книге «Фольклор в Ветхом Завете» уточняет, что в «Ягвистской» версии потоп продолжается 61 день, так как после прекращения ливней Ной проводит в ковчеге еще три недели, пока «земля не обсохла»; в версии же «Элогиста» рассказ о потопе, обработанный более поздним «Жрецом», утверждает, что наводнение и обсыхание суши длились 12 лунных месяцев и еще 10 дней, то есть в сумме 364 дня, что и составляет почти полный солнечный год; это многозначительное прибавление к лунному году 10 дней для получения солнечного свидетельствует, что во времена «Жреца» древние евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем.)
Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Но главное уже очевидно. Оба рассказа не только различны, но и целостны в своем различии: каждый из них представляет собой не только обособленное, но и полное повествование, со своим наименованием и своей концепцией Бога, своими деталями, своим порядком событий и своей хронологией. В то же время, как уже сказано, оба они, вне всякого сомнения, принадлежат одному народу, древняя традиция которого сохранила общие воспоминания, общие легенды и сказания, общий тип религии и общий характер Закона. Таким образом, перед нами не столько два совершенно различных рассказа, сколько именно две версии единого национального эпоса. Напрашивается гипотеза, что они были созданы в двух частях одной и той же страны, населенной одним и тем же народом, сохранившим общую традицию, но разделенным обстоятельствами жизни и потому создавшим две версии одной и той же религии.
И мы знаем, что в истории еврейского народа действительно был такой период, когда его земля была разделена на два царства, в каждом из которых создавалась и пестовалась своя, особая версия общенациональной религии, и если в одном из этих царств, Иудейском, строго сохранялся культ Ягве, централизованный в его столичном храме, то в другом, Израильском, этот культ был «разбавлен» заимствованиями из ханаанейского, язычески-антропоморфного культа Элогим. Поэтому наша гипотеза (разумеется, не наша собственная: она была впервые робко высказана уже первыми библиеведами, а впоследствии развита и обоснована современными исследователями), в сущности, сводится к предположению, что рассказ Ягвиста (или источник J) был создан в южном, или Иудейском, царстве, а рассказ Элогиста (или источник Т) – в северном, Израильском; объединение же этих версий в единый канонический текст Торы произошло, по всей видимости, в те времена, когда на территории древней Эрец-Исраэль оставалось уже только одно из этих царств (как известно, то была Иудея), то есть в период между завоеванием Израиля ассирийцами и захватом Иудеи вавилонянами.
Сейчас мы увидим, что текст Торы подтверждает эту историческую гипотезу. Более того, текст этот дает возможность уточнить и время своего создания.
В чем же состоят эти текстуальные подтверждения? Первым из них является различие некоторых географических особенностей. В рассказах «Ягвиста» праотец Авраам неизменно связывается с Хевроном. Хеврон был главным городом колена Йегуды, столицей Давида до завоевания Иерусалима, родиной первого главного священника Иудейского царства Цадока. Заключая завет с Авраамом, Бог (в данном случае Ягве) обещает его потомкам «землю от реки Египетской… до реки Евфрат» – а это именно те границы, до которых раздвинул свои владения Давид, основатель правящей династии Иудейского царства. Зато рассказ о том, как Некто (то ли сам Бог, то ли его ангел) боролся с праотцом Яаковом, благословил его и дал имя «Израиль», мы находим только у «Элогиста», как и должно быть, если этот источник родом из Израильского царства. В этом же источнике говорится, что «нарек Яаков имя месту тому: Пну-Эль, ибо, говорил он, я видел Элогим лицом к лицу» (Бытие 32:30); а Пну-Эль – это город, построенный Йероваамом в Израиле.
Оба источника рассказывают о городе Шхеме (который Йороваам сделал столицей Израиля). При этом «Элогист» излагает историю его приобретения евреями следующим образом (Бытие 33:18–20): «Яаков, возвратившись из Месопотамии… пришел в город Шхем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, да котором раскинул шатер свой, у сынов Хамора, отца Шхемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Элогим». Напротив, «Ягвист» (рассказ которого начинается уже в следующем стихе) излагает ту же историю куда драматичнее и жестче (Бытие 34:1–31): «Шхем, сын Хамора, обесчестил дочь Яакова Дину и предложил жениться на ней, а сыны Яакова потребовали от него и всех шхемцев совершить обрезание и, воспользовавшись их недомоганием после операции, перебили их всех до единого и таким образом захватили этот город силой». Заметим, что инициаторами побоища были Шимон и Леви. Это тотчас отражается в еще одной – и принципиально важной для нас – особенности рассказа «Ягвиста». Речь идет о т. н. «пророческом благословении» Яакова своим сыновьям и внукам.