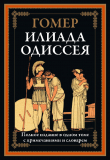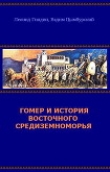Текст книги "Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий"
Автор книги: Рафаил Нудельман
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Возникший спор имел прямое отношение и к интересующей нас загадке Троянской войны. «Шлиманцы» вслед за своим учителем (а также приведенные к этому собственными исследованиями) все более приближались к признанию исторической реальности этой войны. «Эвансисты» вслед за своим догматичным мэтром утверждали, что после краха «дворцовой культуры» Крита «варварские» города материковой Греции попросту не способны: были на такую далекую и трудную военную экспедицию. Поэтому никакой Троянской войны не было. А рассказ Гомера о ней, говорили «эвансисты» вслед за своим великим учителем, есть не что иное, как воскрешение критского мифа!
Подтверждение или опровержение этого радикального тезиса требовало новых раскопок, но время для этого наступило самое неподходящее – грянула вторая мировая война, и Греция вместе с Критом были захвачены немецкими войсками. Единственным доступным полем исследований остались одни лишь критские и микенско-пилосские глиняные таблички. Только в их загадочных письменах могли теперь исследователи искать (и надеяться найти) решение жестокого и непримиримого спора между последователями Эванса и последователями Шлимана, а заодно, и возможные свидетельства «за» или «против» реальности Троянской войны. Задача была из труднейших. Ситуация казалась безнадежной. Неизвестны были не только знаки «глиняной письменности» – неизвестен был и язык, который скрывался за этими знаками: Вэйс и Блеген полагали, что это какой-то диалект древнегреческого (очень «древне» – времен расцвета Микен, XIV–XIII веков до н. э.), сторонники Эванса считали, что это никому неведомый «крито-минойский» язык.
Тем не менее все эти трудности удалось преодолеть. Таблички заговорили.
ГЛАВА 8
ЛИНЕЙНОЕ ПИСЬМО Б
Итак, Вторая мировая война прервала археологические исследования, которые могли бы пролить дальнейший свет на загадку Троянской войны. В распоряжении ученых остались лишь глиняные таблички с загадочными письменами, найденные Эвансом на Крите и Блегеном в Пилосе, неподалеку от Микен. Первых было около 4 тысяч, вторых – около 600 (перед самой войной Вэйс нашел еще несколько табличек в Микенах; позже они были найдены также в Тиринфе и Орхоменосе). Как уже сказано выше, по мнению Эванса, «коллективным автором» этих табличек был тот неведомый народ, что создал крито-минойскую культуру, а затем распространил ее по всему Эгейскому архипелагу и материковой Греции. По мнению сторонников Шлимана, этим «автором» были древние греки (гомеровские «ахейцы»): письменность глиняных табличек, утверждали они, была высшим достижением созданной ахейцами «микенской цивилизации». Расшифровка загадочных табличек могла решить этот спор, но на пути такой расшифровки стояло несколько затруднений, и первое из них состояло в том, что таблички распадались на целых три класса.
Действительно, исследования Эванса выявили существование на древнем Крите трех последовательных стадий развития письменности. Примерно с 2000 по 1650 гг. до н. э., в эпоху складывания крито-минойской цивилизации, на Крите господствовало чисто «пиктографическое» (рисуночное) письмо, в котором каждый рисунок (звезда, солнце, рука, голова, стрела и т. п.) обозначал соответствующее слово или понятие. Табличек с таким письмом сохранилось очень мало, и произвести их расшифровку нечего было и думать. Следующий класс табличек датировался временами расцвета крито-минойской культуры (1750–1450 гг. до н. э.): здесь рисунки уже упростились до схематических, линейных очертаний, поэтому Эванс дал этой письменности название «линейного письма А» (почему «А», сейчас станет ясно). Этим письмом были, в частности, выполнены надписи на некоторых камнях-амулетах и бронзовых изделиях, найденных в различных местах острова. Расшифровка линейного письма А наталкивалась на ту трудность, что надписей, им выполненных, было не так уж много. Наибольшие шансы имела попытка расшифровки третьего, еще более позднего типа письменности, которая получила название «линейного письма Б». Появление табличек с этим письмом датируется примерно 1450–1400 годами до н. э., и хотя более точную границы установить не удалось (никогда нельзя исключить возможность, что более ранние тексты просто не обнаружены), но предположительная дата той великой катастрофы, что разрушила крито-минойскую цивилизацию (1420 н. до н. а, по Эвансу), как раз попадает в этот промежуток времени. Любопытно также, что почти все таблички с этим письмом были найдены только в одном месте на Крите – в Кноссосе – и что почти все они, по оценке ученых, относятся к периоду после разрушения Кноссоского дворца (общее число таких табличек, найденных в Кноссосе, составляет, как уже было сказано, около 4 тысяч). Крайне интересно, однако, что таблички, найденные Вэйсом, Блегеном и другими археологами в Микенах, Пилосе, Тиринфе и других местах материковой Греции, тоже выполнены исключительно линейным письмом Б и тоже относятся к периоду после 1450–1400 гг. до н. э. Дело выглядит так, будто начиная с середины – конца XV века до н. э., с момента своего появления, линейное письма Б является общим и для Крита, и для городов материковой Греции. По сравнению с предшествующим письмом А его знаки представляются еще более упрощенными (впрочем, в некоторых случаях, напротив, более вычурными), хотя и среди них еще встречаются очевидные пиктограммы (схематические изображения людей, животных, сосудов и т. п.).
К середине XX века, когда лингвисты занялись изучением линейного письма Б, уже были прочтены памятники многих древних письменностей, начиная с древнеегипетской, ассиро-вавилонской и хеттской, и уже существовали мощные методы их расшифровки. Каждое новое продвижение в этой области происходило путем сопоставления новой, неизвестной письменности с уже расшифрованными. Как правило, дешифровка облегчалась тем, что исследователь знал либо язык, слова которого были изображены неизвестными знаками, либо значения знаков неизвестного ему языка – по их сходству со знаками уже известных. Но в случае линейного письма Б не были известны ни значения знаков, ни стоявший за этими знаками язык. О знаках было известно лишь, что их общее число – порядка восьмидесяти (эта цифра неточна, потому что распознавание различных знаков затрудняется многочисленными разновидностями и вариантами написания). Для лингвистов эта цифра, однако, содержала важную информацию. Она означала, что линейное письмо Б не алфавитное. В алфавитном письме каждый знак отвечает одной гласной или согласной, поэтому число таких знаков мало (22, 26 и т. п.). В то же время оно не могло быть и чисто рисуночно-иероглифическим вроде современного китайского, потому что для такого («идеографического») письма нужны тысячи знаков (в китайском их, например, свыше 50 тысяч). Стало быть, это было силлабическое, слоговое письмо, в котором каждый знак (кроме рисунков, а также числовых и вспомогательных значков) соответствует одному определенному слогу.
Первые попытки дешифровки этого слогового письма основывались на упомянутом выше методе сопоставления его с какой-нибудь уже расшифрованной древней письменностью, имеющей сходные знаки. В данном случае сходные знаки обнаружились в так называемом «кипрском письме», найденном на древних табличках с острова Кипр. К этому времени «кипрское письмо» было уже расшифровано: было показано, что его знаки соответствуют отдельным слогам греческого языка. Однако прямая подстановка значений этих слогов под сходные знаки в критских табличках привела к полной абракадабре: отдельные слоги не собирались ни в какие осмысленные слова. Это говорило в пользу гипотезы Эванса, утверждавшего, что язык табличек не имеет ничего общего с греческим, а принадлежит тому неведомому народу, который создал крито-минойскую цивилизацию. В результате гипотеза о «крито-минойском языке табличек» обрела такой авторитет, что к ее оппонентам стали относиться как к еретикам. Даже такой знаменитый ученый, как профессор А. Вэйс, поплатился за эту ересь – руководство университета отстранило его на время от раскопок в Микенах.
Не будем рисковать и поступим соглашательски – признаем, что знаки линейного письма Б изображают отдельные слоги неведомого «крито-минойского» языка. В таком случае мы оказываемся в тяжелейшем положении. Поскольку язык этот никому неведом, то неизвестны ни его слова, ни, естественно, их слоги, а стало быть, неизвестно, какие звуки подставлять под разные знаки табличек – нет никакой зацепки. Нужно найти хотя бы какие-то правдоподобные слова и их слоги, иначе нельзя даже сдвинуться с места. В поисках этих слов и слогов первые исследователи линейного письма Б стали обращать взгляды во все мыслимые и даже немыслимые стороны. Одни утверждали, что «крито-минойский» язык, скорее всего, не принадлежит к семейству индоевропейских, а потому может быть похож на современный баскский (поскольку баскский является единственным неиндоевропейским языком в нынешней Европе). Другие полагали, что он должен быть похож на древний этрусский (поскольку традиция утверждала, что этруски пришли в Италию с островов Эгейского моря, близких к Криту). Болгарский лингвист Георгиев объявил «крито-минойским» языком изобретенную им смесь греческого с элементами других индо европейских языков; его теорию энергично поддерживали в сталинском СССР. А пионер расшифровки хеттского языка чешский лингвист Б. Грозный, взявшийся на старости лет разгадывать поголовно все еще не расшифрованные языки, предложил свою трактовку крито-минойских линейных начертаний как произвольной смеси хеттских, древнеегипетских, протоиндийских и даже финикийских письменных знаков; эта гипотеза оказалась такой же бесплодной, как «расшифровка» Георгиева.
Тем не менее не все попытки были одинаково безрезультатны. Среди них оказались и удачные. Так, А. Коули разгадал с помощью пиктограмм знаки, характеризующие девочек и мальчиков; Алиса Кобер опознала знаки, которые обозначают пол людей и животных, а также меняют форму слова, как при склонении по падежам (эти «падежные окончания» она нашла, обнаружив на табличках комплексы знаков (слова), в которых все знаки, кроме последнего, были одинаковы); Беннет, анализируя количество одинаковых фигурок в разных частях таблички, выявил знаки для системы счета. Но великую заслугу полной и окончательной расшифровки линейного письма Б нужно отнести, несомненно, на счет англичанина Майкла Вентриса. Этот молодой английский архитектор (в годы второй мировой войны – штурман самолета-бомбардировщика) увлекся загадкой критского письма еще в детстве, а первую свою работу по его дешифровке опубликовал уже в 1940 году в возрасте 18 лет. Поначалу, подобно многим другим, Вентрис предлагал на роль неизвестного языка табличек этрусский. Попытки в этом же направлении он продолжил и после войны и окончания университета. Однако в 1952 году после нескольких лет напряженных размышлений, интенсивных поисков и обширной переписки с другими исследователями он пришел к совершенно новой, революционной гипотезе, опробование которой очень быстро привело его к решающему прорыву. Невзирая на всё, сказанное выше, о нерушимом авторитете гипотезы Эванса, Вентрис рискнул предположить, что язык загадочных табличек не какой-то там «крито-минойский», а все-таки древнегреческий, только очень архаический его диалект – микенский, на котором говорили за 500 лет до Гомера. И действительно, оказалось, что стоит подставить под знаки табличек слоги этого диалекта, как сквозь беспросветную чащу линий и черточек начали проступать первые понятные слова.
Каким же путем Вентрис пришел к своей гипотезе? Прежде всего, он опирался на достижения некоторых своих предшественников. Уже Эванс понял, что большинство текстов на его табличках – это хозяйственные списки: в них явно просматривались какие-то подсчеты и суммы. Как уже говорилось, среди линейных знаков текста отчетливо выделялись отдельные пиктограммы – изображения мужчин, женщин, лошадей, амфор, треножников, колесниц, колес и т. п., и это позволяло, понять, какие именно объекты подсчитывались. А.по значкам в итоговых суммах можно было угадать и систему счисления (это сделал Беннет). Выше я уже упоминал о других разгадках – знаках пола, возраста, падежей. Чтобы продвинуться дальше, нужно было прибегнуть к комбинаторике, и Вентрис начал с составления статистических таблиц: какова частота употребления каждого знака, какова частота его появления в начале, середине и конце слова и так далее. Это привело его к определенным важным выводам. Так, он заметил, например, что в начале слов преобладают три знака, под номерами 08, 61 и 38 (такими номерами Вентрис обозначил все различные знаки линейного письма Б в составленной им сводной таблице). Они появлялись также внутри слова, но почти никогда не встречались в конце. Вентрису было известно, что в слоговом письме слог, состоящий из отдельной гласной, редко появляется внутри слова, но часто – в его начале (это подтверждала, в частности, упомянутая выше кипрская письменность). Отсюда следовало, что подмеченные им знаки, скорее всего, означают гласные. Далее, знак 78 очень часто заканчивал слова в различных суммированиях однородных предметов (вроде: пять / рисунок кувшина / 78 шесть / рисунок кувшина / 78 и так далее), за которыми следовала общая сумма («равно тому-то»). Было разумно предположить, что знак 78 означает союз «и», заменяющий (очевидно, не известный критянам) знак «плюс»: «Пять кувшинов и шесть кувшинов и так далее равно такому-то числу кувшинов». В некоторых случаях Вентрису помогали ошибки писца: подметив, к примеру, что знак 28 очень часто исправлялся писцом на 38 (а на глиняных табличках эти замены были очень хорошо видны), он заключил, что соответствующие слоги, видимо, весьма близки (вроде сходства слов «то» и «до», которое действительно может приводить к частым опискам).
Все эти догадки и предположения позволили Вентрису в конце концов составить таблицу знаков, в которой они были разделены на «предположительно гласные» и «предположительно согласные», а затем построить таблицу повторяющихся комбинаций тех и других. Некоторые из этих комбинаций оказались повторяющимися, причем одни из них наличествовали как в кноссоских, так и пилосских табличках, тогда как другие – только в тех или других. В известных к тому времени угаритских и других надписях Ближнего Востока такие повторяющиеся комбинации знаков обычно означали названия городов и групп населения. Вентрис сделал смелое предположение, что это верно и для его табличек. Тогда комбинации, присущие только критским табличкам, могли означать названия городов или местностей на Крите вблизи Кноссоского дворца. Одно такое «критское» сочетание – 70-52-12 – повторялось особенно часто, и Вентрис предположил, что эти слоги как раз и образуют слово Кноссос: «ко-но-со». Рядом с ним часто возникало сочетание 08-73-30-12, и можно было думать, что это слово (кончающееся на 12, т. е. тоже на «со») является названием какого-нибудь важного места вблизи Кноссоса; одно такое название было известно еще из Гомера: Амниос, близлежащая торговая гавань. В слоговом (древнем) написании оно должно было выглядеть скорее всего как «а-ми-ни-(о) – со», что позволяло определить написание еще трех слогов. Дальше Вентрис рассуждал так: согласно Коули, комбинации знаков для девочек и мальчиков – это 70–42 и 70–54; если 70 – это «ко», то оба слова имеют вид «ко-42» и «ко-54». В греческом языке среди прочих названий для мальчиков и девочек есть «корос» и «коре»; в ионийском диалекте Гомера «корос» звучит как «коурос», в дорийском диалекте – как «коруос»; быть может, исходным (древнемикенским) были «корвос» (а для девочек – «кор-ва»)? Это добавляет еще два слога в таблицу. Работа Вентриса, таким образом, отчасти напоминала решение кроссворда, где разгадка первых слов все более и более облегчает разгадку следующих, но лишь в том случае, если каждое очередное слово читать именно по-гречески («по-древнемикенски»). Тем самым вероятность того, что язык табличек – действительно древнегреческий, а не какой-то крито-минойский, постепенно усиливалась. К 1952 году Вентрис (работая теперь совместно с кембриджским специалистом по греческим диалектам Джоном Чадвиком) расшифровал слоговые значения почти всех знаков «линейного письма Б» и составил их сводную таблицу. Однако многие специалисты (в особенности ярые сторонники «крито-минойского» происхождения табличек) не верили в эту «греческую» расшифровку и требовали в качестве решающего эксперимента, чтобы
Вентрис прочел с ее помощью незнакомый текст (т. е. текст, не использованный при составлении самой таблицы). И Вентрис блестяще справился с этой задачей: получив от Карла Блегена еще не опубликованную табличку из Пилоса и применив для ее расшифровки найденные им слоговые (греческие) значения знаков, он получил связный й осмысленный текст! После этого чтение табличек пошло полным ходом, и уже в 1956 году Вентрис и Чадвик опубликовали толстый том «Документов микенского греческого языка», где было собрано большое число расшифрованных ими к тому времени текстов. А через две недели после выхода этого главного труда своей жизни 34-летний Майкл Вентрис погиб в автомобильной катастрофе.
ГЛАВА 9
ХЕТТСКИЕ СОСЕДИ
История расшифровки линейного письма Б бесконечно интересна сама по себе, но скажем честно: мы не стали бы ею так долго заниматься, если бы одна деталь этой истории не имела прямого отношения к интересующей нас загадке Троянской войны. Вот она, эта важная и далеко ведущая деталь. В строках глиняных табличек из Пилоса то и дело встречаются перечни рабов и рабынь, работавших в царском хозяйстве (кстати, термин для обозначения этих людей, «лавийяйи», произведен от того же слова «лавия», «добыча», которое употребляет Гомер в 20-й песне «Илиады», рассказывая о пленницах, захваченных Ахиллом: «…множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек»). Если вдуматься, эти упоминания о рабах и рыбынях отнюдь не удивительны – рабский труд составлял в те времена один из главных хозяйственных устоев всех империй и царств. Любопытней другое. Зачастую рядом со значками, обозначающими рабов, обнаруживаются слова, которые можно расшифровать как указание, где именно эти рабы захвачены. Например, один такой (особенно подробный) список из Пилоса насчитывает около 600 женщин и 700 детей рабского сословия, причем о части из них сказано: «Из Милета» («милатийяйи»), что свидетельствует о походах микенцев к этому городу, находившемуся на западном побережье Малой Азии: В другом месте читаем о рабыне родом из местности «Асийяйи», что сразу напоминает (специалисту, конечно) слово «Ассува» – тогдашнее название обширного региона на том же побережье, позднее трансформировавшееся в греческое название для всей Малой Азии – «Асия». А одна из таких «пленниц» в пилосском списке и вообще характеризуется как «То-ро-ва» – может быть, «из Трои»?
Впрочем, подобные фонетические сходства следует толковать крайне осторожно. Не зная, по каким законам меняются со временем гласные и согласные в данном языке, а также как они меняются при переходе от языка к языку (а лингвисты уже обнаружили множество таких законов), очень легко попасть впросак и принять желаемое за действительное. Не будем поэтому торопиться и выделим лишь то, что является несомненным. Несомненным во всем ранее сказанном представляется тот факт, что перечисленные выше упоминания «микенских» табличек о рабах и рабынях, будучи сведены воедино, убеждают нас, что уже в XV–XIII веках до н. э. (пилосские таблички относятся именно к этому времени) микенские и другие цари Ахейи совершали довольно частые походы за «живым товаром» в Малую Азию (в район Милета и «Ассувы»). Этот вывод настолько важен для наших «поисков Трои», что немедленно возникает волнующий вопрос: подтверждается ли он какими-либо другими фактами? Оказывается, да. Оказывается, в ходе новейших археологических раскопок на западном побережье Малой Азии обнаружено уже более 25 мест, где бытовала в больших количествах микенская посуда XV–XIII веков до н. э. Места эти концентрируются в центральной и южной части побережья, вблизи Эфеса и упомянутого выше Милета{15}.
Более того, установлено, что микенцы, видимо, составляли заметную часть постоянных жителей тогдашнего Милета (а также, возможно, и некоторых других малоазийских мест). Действительно, этот город, основанный критянами и долго, сохранявший связи с Критом, в какой-то момент, примерно в 1450–1440 гг. до н. э., что совпадает со временем захвата Крита микенцами, резко меняет свой облик: он перестраивается, в нем воздвигается крепость, строятся храм Афины и дома с типично греческими большими залами – «мегаронами» – и т. п. Аналогичные приметы греческого пребывания появляются в то же время в соседних малоазийских городах Эфесе, Книде и других, а также в других бывших критских владениях – на островах Родосе, Хиосе и Самосе, лежащих у побережья Малой Азии. Иными словами, все критское стало теперь микенским. Как говорится, «убил – и еще наследовал». Это делает понятным упоминания о рабах в пилосских табличках. Разумеется, владея столь многими опорными пунктами у берегов Малой Азии и даже на ее побережье, ахейцы вполне могли совершать с этого плацдарма не только спорадические, но и вполне регулярные вылазки за рабами и рабынями в глубь малоазийского полуострова.
Все эти факты интересны и сами по себе, ибо рисуют картину микенской цивилизации XIV–XIII веков до н. э. как весьма внушительного по размерам и военной силе царства, территория которого включала не только материковую Грецию, но также многочисленные острова Эгейского моря и даже прилегающее к ним побережье Малой Азии. Мы уже видели такую картину – в гомеровской «Илиаде», разумеется, где же еще! – но на сей раз уже не нужно гадать, достоверна ли она, на сей раз исторический фон гомеровского рассказа подтвержден как точными данными археологии, так и показаниями критско-микенской письменности. Это крайне интересно. Но у перечисленных выше фактов есть и другой, не менее важный аспект. Наличие форпостов Микенского царства на берегах Малой Азии и его неустанные попытки проникновения в поисках «живого товара» все дальше и дальше в глубину полуострова неизбежно должны были приводить к столкновениям ахейцев с другим могучим царством, которое в те же времена доминировало в этих же местах, вплоть до Милета и Трои, – с государством хеттов, с Хеттской империей. А если так, то можно думать, что конфликты двух столь серьезных противников могли найти какое-то отражение в том или ином хеттском клинописном тексте – ведь хеттские цари, как мы сейчас убедимся, вели обширную и детальную документацию всех своих военных, дипломатических и торговых действий.
Продолжая эту логическую нить, мы приходим к очередному важному выводу: не исключено, что искомые нами отголоски Троянской войны (которая вполне могла быть одним из таких малоазийских «территориальных конфликтов») тоже могут обнаружиться в каких-нибудь хеттских текстах XV–XIII веков до н. э. Этот вывод заставляет пристальней присмотреться к хеттам, к их истории и в особенности, как мы уже сказали, к письменным памятникам этой истории.
Хеттское царство часто называют «забытым». Действительно, долгое время господствовало представление, будто главными действующими лицами на древней ближневосточной сцене были египтяне да ассирийцы. Хетты воспринимались в духе многочисленных упоминаний в Библии (в той её части, которая у евреев называется «ТАНАХ», а у христиан – «Ветхий завет» для христиан), где о них говорится в основном как об одном из второстепенных племен («Хиттим»), встреченных евреями, когда они вернулись из египетского рабства в Палестину: например, красавица Батшева (в современном произношении Вирсавия), так возбудившая любострастие царя Давида, была женой «Урии Хеттеянина», т. е. хетта. Лишь в двух местах ТАНАХа мельком говорится о «хеттейских царях». В действительности, однако, хетты были не столько «зат бытыми», сколько, скорее, «неопознанными» участниками ближневосточной истории. Когда археологи обнаружили в Карнаке и других местах Египта стеллы с отчетом о великой битве при Кадеше (1275 г. до н. э.), эта историческая роль хеттов сразу стала очевидной: выяснилось, что фараону Рамзесу II противостоял в этой битве не кто иной, как «Великий Царь Хатти», армия которого включала воинов «шестнадцати народов» и насчитывала 2500 боевых колесниц!
«Узнавание» хеттов получило огромный толчок, когда в 1834 году на поросшем дикими колючками холме вблизи заброшенной турецкой деревеньки Богазкёй в, Анатолии были открыты развалины бывшей хеттской столицы Хаттусы. Остатки ее могучих стен позволяли думать, что когда-то они тянулись на добрых три-четыре километра в длину и, следовательно, заключенный внутри них город не уступал по размерам Афинам в пору их высшего расцвета; там и сям на холме еще сохранились следы высившихся здесь некогда огромных храмов, посвященных каким-то неведомым богам, остатки львиных фигур, украшавших громадные ворота, и обломки странных скульптур, покрытых иероглифами на неизвестном языке. Вскоре аналогичная крепость, хотя и меньших размеров, была раскопана в Каркемише, а иероглифы, аналогичные богазкёйским, обнаружились во многих местах Сирии и Северного Ирака, а также Центральной и Западной Турции. Стало очевидно, что хеттское государство занимало огромную по тем временам территорию и его влияние ощущалось от западного побережья Малой Азии до Северной Сирии и верховий Тигра и Евфрата; иными словами, по размерам и силе оно не уступало тогдашним Египту и Ассирии.
Эти представления были подтверждены открытыми в 1887 году глиняными табличками из Тель-Амарны (Сирия), содержавшими переписку фараонов XV–XIV веков до н. э. с мелкими сирийскими и палестинскими царьками, в которой удостоверялась реальность хеттской гегемонии в этих местах задолго до битвы при Кадеше. Но главный свет на историю хеттов пролили найденные в 1906–1908 годах Винклером таблички из Богазкёя, общим числом около 10 тысяч, с текстами на восьми языках (хеттский, аккадский, шумерский и др.), что, кстати, красноречиво свидетельствовало о многонациональном характере хеттского царства. Хеттские тексты этих табличек были расшифрованы во время первой мировой войны и вскоре после нее, и пионером здесь был уже упомянутый нами чешский лингвист Бедржих Грозный.
Благодаря этим текстам история хеттов известна сегодня во многих подробностях. К сожалению, даже самое краткое знакомство с ней не может обойтись без упоминаний царских имен, ибо только перечисление последовательных царствований позволяет хоть как-то сориентироваться в хеттской хронологии. Говорю «к сожалению», потому что имена этих царей, как это сейчас же станет очевидным, зачастую труднопроизносимы. Хетты говорили на языке индо-европейской группы, близком к языкам других жителей тогдашней Анатолии – лувийцев, ликийцев и т. п. (эти языки тоже теперь расшифрованы), и пришли в свои земли откуда-то с северных берегов Черного моря, по всей видимости, за две – две с половиной тысячи лет до н. э., но надежное знание генеалогии их царей начинается лишь с 1650 года до н. э. (отрывочные сведения о более ранних временах, содержащиеся в некоторых ассирийских источниках, имеют туманный характер).
В 1650 году до н. э. на трон объединенного хеттского царства взошел Хаттусилис Первый, прославившийся завоеванием царства Алеппо в Сирии; ему наследовал его внук Мурсилис, завоевавший долину Евфрата вплоть до Вавилона, а затем, после продолжительных династических распрей, – потомки Мурсилиса: Телипинус, его сын Аллувамнас и ряд последующих, не очень точно известных правителей. Этот период называется «Старым царством»; он продолжался до начала XV века до н. э., когда на трон взошел Тудхалйяс (по-видимому, второй по счету с таким именем), открывший славную эпоху «Нового царства». В эту эпоху хеттская держава стала подлинной империей, т. е. конгломератом многих народностей – в ее состав входили около 20 крупных городов и 40–50 «земель» (небольших царств и отдельных полисов вроде Алеппо, Дамаска, Хацора, Тира, Сидона и т. п.). Около 1400 года до н. э. правителем этой империи стал Тудхалйяс Третий; около 1380 года его сменил Суппилулиумас (я предупреждал!); примерно в 1340 году до н. э. на трон взошел Мурсилис Второй, а около 1315-го – Муватталис, о котором нам еще придется не раз говорить; за ним правили Мурсилис Третий (1296–1289) и, наконец, Хаттусилис Третий (1289–1265); он, видимо, и был тем хеттским царем, который сражался при Кадеше.
Особенно интересными с нашей, «троянской», точки зрения являются последние 70 лет существования хеттской империи – времена царей Тудхалияса Четвертого (1265–1235), Арнувандаса Второго (1235–1215) и Суппилулиумаса Второго (1215–1190 гг. до н. э.); они интересны для нас потому, что включают те годы, к которым античная традиция относит Троянскую войну, а археологи – пожар Трои-7а. Они были также последними в истории хеттов, потому что вскоре после смерти Суппилулиумаса Второго или даже при нем, примерно в 1190 году до н. э., в страну вторглись неведомые завоеватели, которые захватили и сожгли столицу Хаттуса (Богазкёй) и положили конец великой Хеттской империи. Перед тем, как задернуть занавес над ее историей, обратим еще внимание, что время гибели объединенного хеттского государства практически совпадает со временем столь же внезапной и столь же загадочной гибели объединенной микенской цивилизации (примерно 1200 год до н. э.) – и тоже под натиском неведомых завоевателей. Если добавить, что примерно тогда же подвергся вторжению и Египет, то череда многозначительных совпадений станет слишком широкой, чтобы быть случайной, и это порождает некоторые предположения, разговор о которых мы, однако, отложим на конец нашего очерка.
История хеттов могла бы стать предметом увлекательного рассказа, и даже не одного, но сейчас нас интересует в ней лишь ее узкий «ахейско-троянский» аспект. Этот наш интерес не оригинален: задолго до нас, с самого начала расшифровки хеттских документов, многие лингвисты и историки стали искать в них следы хеттско-ахейских контактов (а многие – и отголоски Троянской войны) и кое-что даже успели найти. В частности, на некоторых глиняных табличках из Богазкёя они обнаружили такие тексты, которые на первый взгляд недвусмысленно указывают на ахейцев и свидетельствуют о давних контактах хеттов с ахейским государством. Действительно, в некоторых хеттских документах (их насчитывается свыше 20) фигурирует некое (заморское?) царство Ахиява (хеттское Ahhijaawa), название которого так похоже на слово «Ахайвой» (так Гомер именует своих героев-ахейцев), что кажется попросту немыслимым истолковать его как-то иначе. В этих текстах встречаются и другие, столь же впечатляющие совпадения, например, Lazpas – какая-то страна, связанная с Ахиявой: это название почти до очевидности похоже на Лесбос – остров в Эгейском море у берегов Анатолии вблизи Трои; или Milawata – город на территории Ликии, находившийся в те времена под властью царей Ахиявы, – название, весьма похожее на Милет, древнегреч. «Миллатос», который, как мы уже говорили, действительно представлял собой в ту пору главный ахейский форпост в Малой Азии. Эти совпадения простираются и на имена собственные: так, исследователи обнаружили в текстах, связанных с Ахиявой, имя Tawakalawas, что с учетом различия произношений очень похоже на греческое «Этеоклес», которое в пилосских табличках зафиксировано как Etewoklewelos; а также совсем уж поразительное Attarisijas, которое можно прочесть как Atressias, что очень близко к имени легендарного греческого героя Атрея, родоначальника всех микенских царей-Атридов вплоть до Агамемнона.