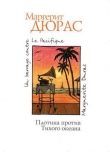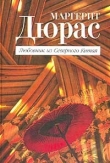Текст книги "Большой Гапаль"
Автор книги: Поль Констан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
3
НОГИ
Уютное тело Кормилицы, широкое и мягкое, самой природой созданное для комфорта, можно было использовать как только пожелаешь. Сначала оно было матрасом, затем креслом, удобным и как нельзя лучше приспособленным для поездки в этой карете, оно спасало ребенка от чудовищной тряски и толчков, которые иначе подбрасывали бы ее до потолка, к тому же девочка сидела на возвышении, и поэтому – а также благодаря своей взрослой манере держаться – в рамке стекла вырисовывалась как настоящая дама.
Видя, как Эмили-Габриель с такой грацией и достоинством расположилась в карете, Герцог был очарован: дочь являла собой благородную уверенность существа, обладающего несомненными достоинствами. Он гарцевал поблизости от нее, придерживая или пришпоривая лошадь в зависимости от скорости кареты, которая то еле тащилась на подъемах, то стремительно скользила на спусках. Когда повозки замедляли ход, он стучал в стекло, чтобы она приоткрыла его; тогда он целовал ей руку и говорил о будущем, зная превосходно, что в разговоре следует упомянуть о некоторых планах, хотя и не стоит злоупотреблять обещаниями. Замок был все еще виден; они разговаривали об учении, необходимом как девочкам, так и мальчикам, о войне, без которой не могут обойтись господа, и умении вести беседу – искусстве, обязательном для дам.
– Я ничего не знаю о войне, – сказала Эмили-Габриель, – а вот об умении вести беседу думала очень много, меня это чрезвычайно интересует. Мне, отец мой, хотелось бы беседовать день и ночь, а записывать и читать лишь то, что было произнесено. Меня просто ужасают все эти бесконечные описания, какие-то ненужные подробности, а страницы, исписанные размышлениями о морали, меня приводят в отчаяние. Когда я открываю книгу, мне совершенно не хочется, чтобы взгляд спотыкался на скучных кочках, мне нравится, когда он прыгает со строчки на строчку, как я прыгаю через ручей с камешка на камешек.
– Вы будете прыгать, моя дочь, я вам обещаю, будете прыгать, как вам хочется.
Проехав половину пути, они заговорили о радостях монастыря и очаровании Аббатисы.
– И все-таки, – сказал Герцог, – нужно дать себе время как следует поразмыслить. Вы ведь любите мужчин, Эмили– Габриель.
– Я люблю их так же, как и беседу, люблю всем сердцем, – ответила она, – потому что у них такие красивые перья.
– Вы могли бы претендовать на самую лучшую партию, на самое большое богатство, самые изысканные драгоценности.
– Отец мой, разве есть партия лучшая, чем Бог? Драгоценность изысканнее, чем Большой Гапаль?
– Вы говорите, как ваша тетка, вы размышляете, как моя сестра, вы наделены врожденным благородством Аббатисы.
Она одержала победу. Когда карета подъехала к парижским заставам, будущее ее было предрешено: она станет аббатисой после Софии-Виктории де С., сотой аббатисой семейства, управляющего монастырем со дня его основания. У Эмили-Габриель был восторженно-исступленный вид, как у монахини, которая вдруг осознала, что только что опустившаяся на каменные плиты решетка больше не поднимется никогда.
Проезжая по Парижу, она опустила глаза. Уже почти заточенная в теткиной обители, она не хотела появляться в доме отца – столь велико было ее нетерпение скорее оказаться в монастыре. Стоило большого труда разъяснить, что ей не пристало вступить туда, как обыкновенной девочке, и ее приход следует обставить как можно более торжественно. Поначалу они предполагали провести ее через калитку, к которой в тяжелые, голодные годы подкидывали брошенных детей. Но Герцог отверг это предложение. Столь оригинальное появление вовсе не обязательно приведет его дочь к триумфу, который ее ожидал, и в запасах сестринского сострадания он отнюдь не был уверен. Она, вне всякого сомнения, отвергла бы ребенка, вошедшего через такую крошечную дверь. София-Виктория слишком явно давала понять, что не испытывает склонности к милосердию. По ее собственным словам, она представляла ее в виде женщины, которая дает грудь в лучшем случае младенцу, в худшем – старцу. Слава богу, заключала она, я для этого не создана.
Герцогу представлялось событие совершенно исключительное, что-то вроде триумфального шествия – в этот мир, который, строго говоря, миром вовсе не был, – столь восхитительного, что так появляться, казалось, должны были лишь сказочные феи. Ему вспомнилось, что в расписном потолке спальни Аббатисы имеется некое тайное устройство, установленное Береном-старшим, тем самым, кто являлся распорядителем королевских празднеств и познал настоящий триумф с «Королевой Ночи». Обнаружив его когда-то давно, в дни их юной прелести и прелестной юности, брат и сестра довольно много развлекались с его помощью. Герцог помещал туда всякие сюрпризы: клетку с попугайчиком, юного пажа, редкостную книгу, непристойную картинку, которые ровно в полночь, с двенадцатым ударом часов, спускались в комнату Аббатисы; таким способом он желал ей спокойной ночи.
С помощью привратницы Эмили-Габриель поместили в золоченую клетку. Одета она была в простую рубашку из эпонжа, доходящую до колен, к ней были прикреплены два маленьких белых крылышка. В пальчиках она крепко держала колчан со стрелами, среди которых было и перо господина де Танкреда. Начался ужин, который Герцог давал в честь сестры и на котором присутствовали несколько монахинь ее капитула, а также люди Герцога, представленные его соперниками по турниру, согласно тайному приказу, удивившему многих в этом мире.
– …Так значит, мой брат, – говорила Аббатиса, – это ваш прощальный ужин?
– Прощальный, Мадам, я уже отслужил свое и теперь прошу вашего позволения удалиться из истории, в которую я едва вошел.
– Женщина?
– Как можно? Вы же прекрасно знаете, в моей жизни была только одна женщина – вы, но мне уже тридцать лет и мне необходима война.
– Кто меня защитит, если не вы?
– Ваша гвардия, Мадам.
– Кто же будет ею командовать?
– Самый юный из нас, – ответил он, указывая на покрасневшего господина де Танкреда, – он уже явил доказательства своей преданности.
– Месье, – сказала Аббатиса, обращаясь к господину де Танкреду, – вы согласны стать моим капитаном?
– Почту за честь, Мадам!
– Сколько вам лет?
– Четырнадцать, – ответил господин де Танкред, добавив себе лишний год.
По окончании ужина небеса разверзлись, на стол опустилась клетка и остановилась там. Две голубки, привязанные к решетке, улетели, и клетка открылась. Эмили-Габриель преклонила колени посредине стола, скрестив руки на груди, склонив голову в сторону Аббатисы, окруженная восторженными восклицаниями. Она сразу узнала свою крестную, та и не могла быть другой. Разве это не она сидела рядом с Герцогом рука об руку, отмеченная неслыханной красотой. Но дело было не в одной лишь красоте. На груди у нее сверкал Большой Гапаль, он был еще прекраснее, еще ярче, чем можно было представить себе по рассказам.
– Я и не знала, что дети падают с неба, – сказала Аббатиса.
– Только в нашем семействе, – ответствовал Герцог, пожимая плечами. – Священник, произнося пожелания, надевает венец на мать, а братья отдают детей на воспитание своим сестрам-монахиням. Именно так религия, служа тайному беспорядку любви, укрепляет семейный порядок.
– Подойдите, племянница, мы посмотрим, ангел вы или амур.
София-Виктория явила взору собравшихся, которые сидели, затаив дыхание, безукоризненное изящество маленьких ножек. Они были такими крошечными, такими пухленькими, такими белоснежными, а между пальчиками виднелись трогательные розовые полоски, чистоту линий еще больше подчеркивали миниатюрные перламутровые ноготки.
– Ноги, – пояснила Аббатиса, – мои ноги, – и, склонившись к ногами Эмили-Габриель, поцеловала их.
Трудно описать воздействие на присутствующих этой сцены, которую Настоятельница сочла неподобающей, употребив даже по этому поводу слово «отвратительно», зато восхищенный Панегирист долго силился отыскать достойные события фразы. Художники, следуя словесному описанию, попытались представить его в картинах под названием «Обретенное дитя» или «Блудная дочь», но изобразили его, увы, в манере грубой и оскорбительной: простертые руки, взлохмаченные женщины, они якобы испускали крики и захлебывались рыданиями. Ничего от того зрелища, свидетелями которого оказались присутствующие на ужине гости: безмолвное, чувственное преклонение великой Аббатисы перед телесным совершенством, и в этом поцелуе трудно было различить, в какой же степени поклоняется она сама себе, при том, что всем было известно, как ревниво относится она к любому, кто дотрагивается до нее, даже к собственной горничной, когда протягивала ей руки.
– Вы моя дочь, – произнесла она, поднимая лицо к Эмили-Габриель, – вы наследница аббатисы, ибо аббатисы, согласно небесному повелению, призваны производить на свет лишь маленьких аббатис. Я так долго ждала, Красавица моя, я молилась, я приносила девятидневные молитвенные обеты нашей кузине Святой Элизабет, я носила пояс Святой Маргарет, я клала яйца к подножию статуи некоей Филомены, которая находилась на службе у нашего семейства, и в благодарность за это Господь даровал ей силу помогать оплодотворению… и мне приходилось уже задумываться, не бесплодна ли я.
Она тихо добавила:
– Я восстала.
Эмили-Габриель была вне себя от счастья очутиться между отцом и теткой, которые казались ей самой идеальной парой на свете. Вот мои настоящие родители, думала она, вот тот, кто зачал меня, и та, кто сотворит меня. Она не позволяла себе взглянуть на Аббатису, расцветшую во всем великолепии своего тридцатилетия, каковое великолепие скромный корсаж не достоин был заключать в себе. У нее был прекрасный лоб, маленький рот, безупречные зубы, изящные уши, все те черты, вся та прелесть, отмеченные Панегиристом в портрете «Диана в купальне», отрывке из «Нового парижского завещания», где тот упоминал известные лишь ему подробности, которых не хотел лишать последующие поколения.
В ответном слове, произнесенном ею в благодарность, ободренная услышанным, Эмили-Габриель, которая собственную мать называла всегда не иначе, как Мадам, упразднила обычай, требовавший, чтобы Аббатисе, как и принцессам крови, давался титул Мадам, попыталась было произнести «моя тетя», сочла это слишком банальным, затем осмелилась на обращение «моя мать», принятое столь благосклонно, что Аббатиса вернула ей «дитя мое», каковому впоследствии стала предпочитать «моя красавица», «мое сокровище», «моя голубка», «моя любовь», названия всех поющих птиц и всех благоухающих цветов. Вскоре все поняли, что настало время оставить их наедине. Герцог вышел последним; ни та, ни другая на него даже не взглянули.
– Ну а сейчас мы пойдем в часовню поблагодарить Нашего Отца, – сказала София-Виктория.
– Отца? – удивилась Эмили-Габриель. – Значит, в часовне у меня есть другой отец, как и в замке – другая мать!
– Да, но тот, которого мы обретем там, будет не только вашим отцом, братом, дядей, он станет вашим супругом и возлюбленным. Самым смиренным на свете, самым верным. Я прихожу к нему, когда мне недостает брата, и он утешает меня. Мы не можем больше оставлять его в неведении, мы должны уведомить его, что теперь вместе.
Она подняла и понесла девочку вместе с ее рубашкой, ее крылышками, ее колчаном и пером в часовню, освещенную днем и ночью. Они обе встали перед алтарем на скамеечку для молитв, широкую и очень удобную, с подушечкой, обитой нежным бархатом. Аббатиса распростерлась перед огромной картиной с изображением Успения Богородицы, выполненной столь блистательно, что даже если прежде и приходили сомнения в величии Божьей Матери, то лицезрение этой картины легко убедило бы вас, что в действительности в Троице было четверо.
Рассматривая картину, Эмили-Габриель заметила, что на лоб Девы набежало легкое облачко. Перспектива слегка затуманивала черты лица, но подчеркивала, по мере того как дальше становилось небо и ближе земля, трогательное очарование округлой шеи, восхитительные формы прелестной груди, совершенство изящной талии. Стоило взглянуть на босые ступни, попирающие землю, – последние сомнения рассеивались.
– Ваши ноги, Мать моя, – прошептала Эмили-Габриель.
– Я вся здесь, – ответила Аббатиса, – художник отчаялся найти модель, достойную сюжета, и мне пришлось согласиться.
– Ваши ноги, Мать моя, – повторяла Эмили-Габриель. С того места, где она находилась, и учитывая, как представлена была картина, стоящая прямо на алтаре, девочка, как и все, приходившие сюда молиться, могла видеть восхитительные ступни Софии-Виктории, на которых играл красноватый отблеск дарохранительницы, казалось, и поставленной здесь лишь для того, чтобы освещать их.
– Вы тоже здесь есть, – заметила Аббатиса, указывая на ангела, порхающего вокруг головы Девы, комкая в руках желтую ленту, которую пытался развязать. – Мы велим нарисовать вашу головку вместо его.
– Так вы решили, что я ангел? – спросила Эмили-Габриель.
– Всмотритесь лучше, любовь моя, видите, как ангел целует Деву в губы и в то же время хочет похитить ленту.
– Так, значит, я амур, – догадалась Эмили-Габриель.
– Вот именно, ангел мой, вот именно.
И она взяла ее на руки, чтобы отнести обратно в комнату, где и уложила на постель вместе с крылышками, колчаном и пером. Она тоже легла рядом, не снимая одежды, чувствуя невообразимое счастье, которое делает женщин столь юными, что когда они ощущают его, им остается пожелать лишь одного, чтобы не было оно чрезмерным, потому что существует опасность превратиться в младенцев. Рядом с Эмили-Габриель София-Виктория ощущала себя двенадцатилетней.
4
HOC
Панегирист, явившийся разбудить Аббатису к девятичасовой молитве, дабы запечатлеть ее утренний взгляд и записать ночные сны, переступил через спавшую перед дверью Кормилицу. В постели, занавешенной пологом, среди скомканных простыней он увидел крылья ангела, бархатную тряпицу шлейфа, белокурые локоны, веер, увядшие цветы, горошинки жемчужин, плечо, грудь, колени, густые-густые ресницы, руку, сжимающую колчан, и другую, держащую синий бант, к которому был привязан Большой Гапаль, ногу, несколько стрел, кружева и перо. Словно после бала, на котором много танцевали во славу Божию, или ужина ангелов, закончившегося очень поздно. Как наведу я во всем этом порядок? – спрашивал себя Панегирист, тихо прикрывая за собой дверь.
Во время двенадцатичасовой молитвы Настоятельница застала ту же картину при сверкающем отблеске молочной зари, которая, освещая белоснежную кожу Софии-Виктории и Эмили-Габриель, обнажила и ту и другую еще больше. Большой Гапаль сиял, словно осколок льда. Господи, шептала она, вот зрелище, которому необходимы либо тень, дабы скрыть его, либо свет, дабы его озарить; этот лживый полумрак делает из них ангелов и дьяволиц, одновременно и мертвых, и живых.
Когда настало время дневной трехчасовой молитвы, она отодвинула полог, и вся сцена оказалась освещена солнцем. Все, что было золотым в их комнате: зеркала, кресла, портьеры, картины, – озаряло своим сиянием их распущенные волосы и блестело в глазах.
– Пока вы спали, я много думала, что же с вами делать, Любовь моя, – сказала София-Виктория, сжимая Эмили-Габриель в объятиях.
– Скажите же, моя Тетя.
– Прежде всего, следует избавить вас от женского общества. Я не могу позволить им касаться вашей души и вашего сердца, они могут заразить вас.
– Даже монахини?
– Они-то прежде всего; вы даже представить себе не можете, сколько в этом монастыре трусливых сердец, слабых душ; иные пришли сюда лишь затем, чтобы бежать жизни, которая их страшит, и негодуют теперь оттого, что им пришлось вступить в борьбу за собственные души, как если бы Господь был им даден в обмен за отрезанную прядь волос, равно как и возможность распластаться ниц на холодных плитах, и молитвы в строго определенные часы; как если бы стены этого монастыря нужны были не столько для того, чтобы охранять их, сколько для того, чтобы не дать сбежать Господу. И это еще лучшие из них. Другие оказываются здесь вопреки своей воле, их сердца негодуют, во время литургии они рыдают от отчаяния и воют от ярости оттого, что находятся здесь, в монастыре, а не за его стенами, с мужем и семьей. Многие предпочитают мирскую жизнь вечной славе и так и не решаются похоронить воспоминания о балах, на которых танцевали до пота, о любовниках, которые унижали их. Они станут рассказывать вам о запретных любовях, о тайком украденных ласках, о мимолетных наслаждениях, рассказывать с такой сладострастной похотливостью, с такой томностью и самозабвением, что это сможет вас запачкать, Голубка моя, и, быть может, заронит желание испытать судьбу, которую украли у них.
– Не правда ли, сестра моя? – внезапно обратилась она к Настоятельнице, ожидавшей в дальнем углу комнаты.
– Да, Мадам, – ответила Настоятельница.
– Повиновение такой женщины лишено искренности, она соглашается с вами еще до того, как вы подумали ей что-то приказать. Это огромная власть, Голубка моя, управлять женщинами, столь привыкшими повиноваться, что вы лишь в самой себе сможете отыскать границы собственного могущества, ибо они, эти женщины, мечтают лишь об одном: следовать за вами до предела всех пределов.
– Да, Мадам, – сказала Настоятельница.
– И все же я причиняю этой женщине огромные страдания, я запрещаю ей музыку. Вслушайтесь, Эмили-Габриель, в этот шум, что сопровождает наш разговор. В сердце у нашей Настоятельницы звучат рожок и мандолина, они мешают молитве и смущают мысли. Ее лицемерный разум и разлаженная душа не выносят тишины.
– Да, Мадам, – сказала Настоятельница.
– Выйдите, – приказала София-Виктория и, пока Настоятельница направлялась к двери, добавила, обращаясь к Эмили-Габриель: – Этой я не даю поднять голову, лучше раздавить самой, чем дожидаться, пока тебя укусят.
– Так значит, – спросила Эмили-Габриель, – хороших здесь совсем нет?
– Есть, конечно, но я их терпеть не могу, ненавижу это соперничество во имя неба, оно, заставляя изменять самой себе, увлекает вас на путь, которым следуют все, или же уводит столь далеко от приличий, что вы становитесь чем-то необычным, словно какое-нибудь чудовище или жираф. Я не могу согласиться принимать в своем семействе Катрин Сиенскую или Терезу Авилскую, они в своих монастырях выставляли себя напоказ, словно в ярмарочном балагане. Я, скорее, предпочла бы нашу тетушку святую Полетт, примеру которой и пытаюсь следовать, хотя жила она во времена, столь непохожие на наши. Как видите, я предпочла жить с Господом в соответствии с определенным семейным договором, как и с вашим отцом, хотя я прекрасно вижу все недостатки Сезара-Огюста, а вот у Господа недостатков нет. Впрочем, это не совсем удачный пример, ибо если к Господу я испытываю любовь, к своему брату я чувствую страсть.
Так вот, – продолжала она, – те женщины, которые нужны лишь для того, чтобы стирать, гладить, готовить и шить… этих я вообще ни во что не ставлю. Я всегда буду здесь, рядом с вами. Мы составим особую программу, вы всегда будете у меня перед глазами, даже ночью, которую проводить станете здесь, и в часовне, где вы будете стоять на моей скамеечке для молитв. Мы станем вместе молиться, и я буду читать вам вслух тексты, необходимые для вашего образования. Ибо начиная с этого самого дня я объявляю себя полностью ответственной за вас в глазах нашего Господа. Я выполню это предназначение, которое невозможно осуществить в миру, я сделаю из вас идеальную женщину, ибо, в традициях нашего семейства и следуя незапамятному обычаю, Господь всегда берет в жены аббатис семейства С., между тем как ко всем прочим монахиням испытывает лишь преходящую склонность. Только мы созданы для него, а он для нас.
Пока она говорила все это, Эмили-Габриель нежно, словно животное, которое хотят приручить, ласкала Большой Гапаль, он был теплым, как кожа Аббатисы.
– Итак, начнем с самого начала, – продолжила София-Виктория, – я еще не умерла, а все ваши прелести покуда даже и не в зачатке. Вы приехали в самый разгар зимы, в ту пору, когда садовники в своих оранжереях проращивают побеги цветов, которые можно будет высадить по весне. Я имею в виду, пока мы займемся вашим телом. Не в обычном смысле этого слова; мы не станем сдавливать его одеждой, покрывать кружевами и душить бантами, мы займемся им изнутри. Ибо следуя предписаниям святого Жерома, составленным им для маленькой Пакулаты, святой от рождения, мы станем давать ему пищу легкую и белую, миндальное молочко, варенье из розовых лепестков, чтобы кожа ваша оставалась белоснежной, а здесь (она дотронулась до краешка ноздри Эмили-Габриель), здесь и здесь (тут она коснулась ее коленей, ступней, локтей и пальцев) осталось бы немножко нежно-розового. Еще мы добавим самую капельку ирисового или лавандового сахара, для того чтобы стали голубыми вот эти крошечные вены на висках.
Вы много времени будете проводить в купальне, но мы не станем тереть вас губкой, а вытирать вас будут осторожно-осторожно, едва касаясь, чтобы тело ваше не утратило сияния и не развеялся ваш изысканный запах, он так навсегда и останется благодаря вашему режиму питания, чудесным сладковатым ароматом, который, если варенья из розовых лепестков окажется слишком много, можно будет подправить небольшим количеством гранатового желе. Люди полагают, что следует купаться, погружаясь в ароматы, на самом же деле они просто-напросто приобретают чужие запахи. Вы же, мое Совершенство, станете благоухать своим собственным запахом; приближаясь к вам, его можно будет почувствовать там, где вы только что прошли, под вашим носом, возле рта, когда он приоткроется, но так же сладостно будет вдыхать его под вашей юбкой, на шее, зарывшись лицом в ваши волосы. Вам достаточно будет сжать слегка ладонь, а затем вновь раскрыть ее, и от нее будет исходить тончайший аромат, который называют благоуханием святости.
Ненавижу все эти грубые запахи, что сопровождают жизнедеятельность плоти и распутство души; я умею распознавать зловонные страхи, пряную ложь, продажную подлость; я могу сказать, кто недавно бежал, кто недавно молился, кто только что проснулся; я узнаю тех, кто плохо спал, пусть даже будут они закутаны в толстые шерстяные накидки, в плотный атлас; меня не обманет ни ладан, ни мирра. Эти запахи только подчеркивают то, что должны были бы скрыть. Мне омерзительна до тошноты вся эта грязь, что втирают в себя вместе с лавандой, а самое отвратительное для меня – принимать всех этих светских особ, которые наспех вытерли вместе с розовой водой эти ф… которыми они вымазаны с ног до головы.
Я правлю с помощью носа, это мое секретное оружие, вы же станете властвовать с помощью вашего собственного аромата. Понюхайте меня.
Эмили-Габриель понюхала ее лоб, шею, грудь, Большой Гапаль, она поняла, что именно хотела сказать София-Виктория, утверждая, будто можно хорошо пахнуть, не обладая никаким запахом вовсе.
– Мне нравится ваша естественность…
– Я поддерживаю ее с помощью ириса, – сказала Аббатиса, – а его воздействие успокаиваю мятой и прекрасно себя чувствую. Никто не может определить, холодна я или горяча, это позволяет мне использовать все грани темперамента.
Кроме того, – продолжала она, – мы будем вас часто целовать. Нет ничего полезнее поцелуев, дабы растрогать плоть, смягчить сердце и высвободить ароматы, которые смущенное тело замыкает в себе, словно в капкане. Мы будем целовать вас в таком именно порядке: в лоб, в щеки, в подбородок, за ушами. Мы будем целовать вас в грудь, в живот, в поясницу, мы вас будем целовать в бедра, в колени, в пятки, будем целовать один за другим каждый пальчик ваших ног и каждый пальчик рук. И только тогда станем одевать вас.
– Как монашку, Тетя?
– Как вы захотите, причем в те ткани и те фасоны, какие вы изберете сами. Я не хочу ограничивать вас ни в чем, ни в какой области. Бархат, шелка, парча, белоснежное белье, а если хотите, то желтое, розовое, зеленое или голубое. Ибо имея свободу в этой области, я полагаю, вы станете интересоваться подобными вещами не более, чем они того заслуживают. Женщины, лишенные всего этого, расходуют на жалобы и стенания силы, которые могли бы потратить на чтение ученых книг. Они могли бы изучить латынь или греческий, потому что именно это, похоже, и есть последняя мода. Они требуют того, что зависит от кого-то другого, между тем как если бы мысли их не были заняты одеждой, они были бы самодостаточны; вот мне, к примеру, не нужен никакой учитель, кроме перевода, которым я пользуюсь для сравнивания текстов.
Они придают такое значение своим платьям как раз из-за того, что им их недоставало в детстве, когда они слишком сильно желали нарядов и украшений. Я хочу, чтобы вам ни в чем не приходилось себя ограничивать и чтобы вскоре туалеты и драгоценности так вам приелись, чтобы вы перестали их замечать, как если бы они, как и ваш запах, являлись порождением вашей собственной кожи. Те же, у кого всего этого нет, похожи либо на кукол, либо на огородные пугала.
Я прошу единственно, чтобы вы подготовили свою талию; на поясе прямо на голое тело вы станете носить ленту, которую будут стягивать всю туже и туже, пока место это не станет таким узким, насколько это только возможно, и у вас, во имя Господа, появится самая красивая талия в мире.