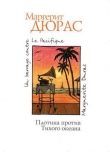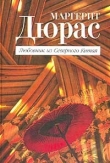Текст книги "Большой Гапаль"
Автор книги: Поль Констан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
19
НЕОБЫКНОВЕННОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Отныне Панегирист не расставался с Жюли, которая его просто-напросто поработила. Свое состояние он переживал с неизведанной прежде страстью и отмечал ее малейшие движения и жесты, удивляясь лишь, что на бумаге ее очарование тускнеет и блекнет. Ничего удивительного в этом не было, ведь если недуг Ирен испортил ее лицо, тело он не затронул совершенно. Всю свою жизнь она оставалась женщиной с ног до головы. Под юбкой это была совсем юная девушка, и ничто не доставляло Панегиристу такого удовольствия, как подниматься вслед за нею по лестнице, когда она демонстрировала свои ножки.
– Какой же я ничтожный панегирист, – думал он. – София-Виктория нравилась мне больше всего в купальне, Эмили-Габриель – когда она прыгала, Жюли – когда она поднимается по ступенькам, возможно, и какая-нибудь Жанетта понравилась бы мне на лестнице! Наверное, я всегда был влюблен лишь в тело святости и, обязанный записывать слова, в действительности храню в памяти лишь позы.
Подобно многим особам, которые разочаровались в людях и чьи сердца изнемогают от одиночества, Жюли неожиданно затребовала себе собачку, которую пожелала назвать Зельмирой. В деревне не нашлось ничего, что могло ей подойти, здесь водились лишь огромные рыжие дворняжки на длинных лапах, которые, старея, дичали и бегали по окрестностям. Все-таки Панегирист раздобыл для нее одну, породистую, которую можно было засунуть в муфту. Он сам и преподнес ее на подушке с кисточками такого же синего цвета, как и ленточка, что он обвязал вокруг ее шеи.
– Я превышаю свои полномочия, – думал он, – я вхожу в историю, между тем как должен быть ее бесстрастным свидетелем, но, право, это сильнее меня.
Жюли была очарована и пожелала сделать из нее ученую собачку вроде тех, что на ярмарках ходят на задних лапках, скрестив передние на груди, изображая монашек. Она стала учить ее разным фокусам, например прыгать через обруч, кувыркаясь при этом вперед и назад. Зельмира довольно быстро усваивала то, что требовала от нее хозяйка. Тогда Жюли, мечтавшая о том, чтобы все оценили ее талант укротительницы, решила устроить спектакль для всех обитателей замка. Слуги стояли сзади, Эмили-Габриель, как неживая, сидела между Исповедником и Панегиристом, который наблюдал за происходящим ревнивым оком, Демуазель де Пари вызвалась аккомпанировать.
Когда Зельмира изобразила монашку в чепце, семенящую медленными шажками по полу, Исповедник выразил свое восхищение. Слуги зааплодировали, когда она прыгнула. Жюли подняла обруч выше, собачка прыгнула снова. Жюли подняла обруч выше головы, Зельмира прыгнула, но, приземляясь, упала и сломала позвоночник. Эмили-Габриель поднесла ладонь ко рту.
– Ах! – воскликнула Жюли, размышляя, как можно поправить дело.
– Она мертва, Мадам, – произнесла Эмили-Габриель со слезами на глазах, – я умею теперь распознавать это состояние. Вы слишком много убиваете. Господин Исповедник, – сказала она, – соблаговолите соборовать Зельмиру, она умерла истинной мученицей. Нужно дать ей достойное место в списке наших святых.
– Святая, – согласился Исповедник, – вы совершенно правы, нельзя, чтобы в этом мире от нас ускользнула хотя бы частица святости. Я провозглашаю, отныне Зельмира с белыми лапками и синим бантом причислена к лику святых. Аминь.
Обратив внимание, что время от времени благодаря животным к Эмили-Габриель возвращается сочувствие, Жюли бросилась к ее ногам.
– Ах, Мадам, – рыдала она, – если вас охватывает порой жалость к телесным недугам, отчего же вы ее не чувствуете к недугам душевным? Если вы посещаете больных и ласкаете животных, отчего бы вам не обратить внимание на несчастья особы, которая живет в настоящем аду и не знает отдохновения? Если вы смазываете лекарством самые страшные раны, отчего не найдете снадобья от той раны, что пожирает меня? О Мадам, я всего лишь гнусная язва, покрытая гноем и паразитами. Мои страдания поистине нестерпимы.
Панегиристу показалось, что он вот-вот разразится рыданиями, а Эмили-Габриель почувствовала благотворную влагу на глазах.
– Расскажите мне все, поведайте мне о своих несчастьях, не упуская не единой подробности. Когда мы только познакомились с вами, вы грезили о светской жизни? Насколько мне известно, вы вышли замуж?
– Да, – ответила Жюли, – замуж за посланника, который был довольно необычным человеком.
– Где же вы жили?
– В Византии, где мой муж запер меня в гарем вместе с принцессами. Он вовсе не любил меня, он расточал свои ласки какой-то рабыне с востока, одетой всего лишь в прозрачные газовые панталоны и коротенькую вышитую накидку, с ней он целыми днями возлежал на коврах и курил кальян. А я все это время считала изумруды принцесс и пропускала их через маленькие золотые колечки, чтобы измерить величину. Изо дня в день мы возились только с этими изумрудами. Каждое утро их нам приносили евнухи, а когда мы засыпали – а это становилось понятно потому лишь, что наши глаза закрывались, ведь все мы с утра до ночи и так лежали на подушках – евнухи уносили их и запирали в сундуки. Причем меня, как чужестранку, обыскивали самым унизительным и оскорбительным образом, чтобы убедиться, что я ничего не оставила себе.
– Так вот, значит, в чем состоит работа жены посланника!
– Не только, есть еще и другая: просовывая изумруды в колечки, приходилось целыми днями слушать самые фривольные разговоры. Ибо принцессы с утра до ночи только и говорят о любви, но говорят совсем не так, как мы, не о возлюбленном, что волнует сердце, а о любовниках, что возбуждают тела. Я даже не смею повторить вам, что приходилось мне выслушивать о размерах, особенностях, свойствах полового члена Его Величества Султана, я словно воочию видела его перед собой! А знали бы вы, как они целый день готовятся к штурму, который может наступить в любую минуту, без предупреждения, поэтому они всегда наготове, они без конца велят себя массировать, натирать благовониями, разминать руки и ноги, репетируют уловки, которые помогут им, порядочным женам, привлечь внимание супруга. Они занимаются этим постоянно, без устали, помогая одна другой, сравнивая, учась, поучая. В своих наставлениях они необыкновенно требовательны, и я, оказавшись поневоле их ученицей, смогла убедиться, как они суровы в этой области, которая не терпит никакой приблизительности. Меня зачастую били, потому что я плохо усваивала их уроки.
– Бедняжка Жюли, какая печальная участь! Но вы до сих пор помните эти уроки?
– Еще бы, мне они были преподаны так, что забыть их невозможно. Стоит мне только оказаться на персидском ковре…
– Персидском?
– …или турецком. Как вам будет угодно, с красными узорами, маленькими голубыми птичками и словами Пророка, вышитыми шелковыми нитями.
– Ну разумеется, если уж понадобились слова Пророка! это толкает вас к безбожию.
– Это можно и не говорить, я думала, что сойду с ума, перебирая эти изумруды и слыша сладострастные крики принцесс, что оглашали ночь над Босфором и падали, словно дождь, затопивший город. В Византии, пока я жила там, мне ни разу не довелось увидеть ни одного человека, стоящего на ногах, все целыми днями лежали на коврах, не видела я и своего мужа, чье дипломатическое искусство сводилось к скандалам и буйству. Я же от природы активна и деятельна, моя красота потускнела, от моего приданого не осталось ни гроша, в конце концов я решилась бежать при помощи евнуха, с которым нам удалось провернуть одно дельце с фисташками.
– Вы правильно поступили, но, быть может, в Париже, моя Тетя…
– Нет, мне было слишком стыдно, я не решалась попросить ее о помощи, но я выбралась. Говорят, что я неглупа, меня считают красивой, меня трудно сбить с толку… Парижские братья…
– Так их было много?
– Банкиры.
– О, про банки я ничего не понимаю, продолжайте про любовь.
– Дело в том, что в моей жизни одно не получается без другого. Вам, должно быть, известно, это было весьма благоприятное время: период уныния, сопровождающего царствование старого Короля, закончился вместе с его уходом, отныне настала пора удовольствий, счастья и всякого рода сделок. Должна признаться, у меня появился любовник.
– Я вас не осуждаю.
– Мой любовник продал меня одному влиятельному человеку…
– О!
– Тот уступил меня другому…
– Который подарил меня господину де С…
– И сколько же раз вас продавали?
– Несколько раз, но все выше и выше. Так я отдалась одному принцу, который любил меня…
– И который теперь вас больше не любит?
– Который унижает меня, мстит мне, желает моей смерти и который сделал из меня предмет насмешек. А вы говорите мне о любви! Я была ему продана, и теперь мне остается утешаться тем, что я стоила ему некоторую сумму, но лично мне любовь не возмещает никаких убытков, она предает меня, я потеряла кредит и теперь ровным счетом ничего не стою. Ибо таковы все мужчины: они обесценивают то, что любят, и вздумай я сейчас отправиться в Париж и предложить себя за одно су, не нашлось бы никого, кто бы согласился купить меня. Из любви, как из всего прочего, надо делать выгодное предприятие.
– Вы же сделали.
– Да, наряду с любовью или, как бы получше выразиться, взамен любви. Принц был уже старым человеком, с больным сердцем, к тому же его мучила подагра, а член его, в отличие от органа Его Величества Султана, всегда победоносно торчавшего, как готовая к бою шпага, вяло висел под животом, как пустой чехол. Мы занимались любовью, делая взносы в банк, держа пари, играя в карты. Что это за жизнь – люди занимаются любовью, совершенно забыв при этом о любви…
– Вы искали счастья.
– Да, и нашла его, я стала непобедимой.
– Вы искали удовольствия.
– И его я нашла тоже, уж коль скоро вы просите меня признаться во всем, да, у меня были любовники. Я отдавалась мужчине наскоро, с закрытыми глазами, когда он притискивал меня к стенке. В Турции принято предаваться сладострастью исключительно лежа, и я навсегда получила отвращение к этим позам; к счастью, во Франции, оказывается, это совершенно необязательно, всегда найдется мужчина, готовый пришпилить вас своей булавкой к стенке.
– Совсем как охотники за бабочками! Но вы собирались поведать мне о своих несчастьях, а я вижу, как вы раскраснелись от удовольствия.
– Видите ли, просто то, что является несчастьем для других, мне как раз доставляет счастье. Я словно часы, которые завели в обратном направлении, и теперь они идут против часовой стрелки. Я прошу, чтобы вы в одно и то же время поняли и обычные страдания моего положения, и невыразимые страдания, которое я испытываю, утратив его.
– Но ваши страдания я могу осознать, лишь наблюдая очевидные признаки. Как могу я сострадать особе, которая смеется и танцует, пусть даже она смеется и танцует в адском пламени, я скорее буду испытывать жалость к той, что стонет и плачет.
– Это значит, что вы, как и я, способны понять лишь очень сильные страдания.
– Вот видите, – тихо произнес Исповедник, склонившись к Панегиристу, – за душу этой несчастной я не дам ни гроша.
– Не могу с вами согласиться, – ответил Панегирист, – она заслуживает небесного блаженства.
– Нужно, чтобы она покаялась, чтобы она усмирилась, но, похоже, она и не думает этого делать.
– Но она на последнем издыхании.
– Как вам будет угодно, господин Панегирист, но что бы вы там ни утверждали, я не поручусь за нее так, как за Эмили-Габриель.
– По-моему, для святой она чересчур многословна.
Эмили-Габриель попыталась объяснить Жюли, что смирение – это чувство, из которого можно извлечь немало пользы и уж во всяком случае получить полное отпущение грехов. Ибо возмущение общества вызывает не само по себе зло, но гордыня, что обнаруживается у виновного. Для того чтобы прослыть добродетельным, не так важно спасти душу, как склонить голову. Унижение – нечто вроде компенсации, что необходимо заплатить обществу.
– Никогда не смогу с этим согласиться, – возразила Жюли, которая стяжала себе славу, существуя вопреки общепринятым нормам, которую любили, обхаживали и ласкали как раз потому, что не было в ней ни стыдливости, ни покорности, ни милосердия, ни целомудрия.
Свое счастье она стремилась заполучить, не довольствуясь узенькими границами приличия, она категорически отказывалась вписываться в рамки и не желала, чтобы своему возрождению в свете она обязана была добродетели.
– Но кто говорит здесь о добродетели? – спросила Эмили-Габриель, – речь идет лишь о приличии.
– Это одно и то же, – возразила Жюли, – приличие – это составная часть добродетели, и наоборот, разделить их невозможно.
– Понимаю, – ответила Эмили-Габриель, – вы, стало быть, предпочитаете уединение и одиночество?
– Да нет же! – воскликнула Жюли.
Эмили-Габриель терпеливо объясняла ей, что ее уединение освобождает от света, что ненавистное ей молчание первых дней станет – если она ответит тем же – лишь молчанием, к которому она сама это общество принудит, и в этом проявится превосходство ее положения. Там, болтливые и суетные, они понапрасну растрачивали силы в светских хлопотах и соблазнах. Она изображала ей существования столь стремительные и скоротечные, что люди, ведущие такого рода существования, падали, не успев подняться, а женщины оказывались изгнаны, даже не будучи приняты и любимы. Одни лишь ничтожества долгое время способны были сохранять свое положение, они жили, не ведая ни фаворы, ни опалы, услаждая нового избранника, пришедшего на смену предыдущему, при этом не менялись ни их повадки, ни размеры их состояний, им нужна была лишь слава, и они удерживали ее всеми способами, уцепившись за краешек ее мантии.
Жюли плакала бессильными слезами.
– Необходимо смириться, – утешала ее Эмили-Габриель. – Изгнание – это отнюдь не раскаленная пустыня, испепеляющая душу, оно может стать исцелением, снадобьем, чем-то вроде забытья.
Равнодушное молчание в ответ могло бы показаться ей однажды знаком согласия. Тогда ей захотелось убедиться в том, что собеседница готова принять заточение еще более полное, созерцание еще более совершенное.
– Говорю вам, вы станете монахиней.
Жюли, выслушивающая ее с полными слез глазами, в отчаянии сжимала кулаки.
– Мне ненавистно все, что вы говорите. Да я вовсе и не призвана служить Господу!
– Но свет не желает вас больше принимать, – возразила Эмили-Габриель. – У вас, в сущности, небольшой выбор: либо непогрешимая святость, либо бунт. Святость – это так просто, позвольте лишь, чтобы все шло своим чередом, между тем как бунт требует решимости и прочих качеств, какими редко кто обладает.
– Я предпочту бунт, – отвечала Жюли, – я предпочту бунт, могу вам в этом поклясться.
– Вы готовы на богохульство и даже на смерть?
– Даже на смерть, клянусь вам.
20
НОВЫЕ НЕБЕСА
С тех пор как Жюли вслух высказала мысль о смерти, она стала ее наваждением, ее навязчивой идеей. Она вложила сюда столько страсти и проявила такое усердие, какого не удостаивались ее прежние деяния. Она перебрала в памяти все знаменитые кончины… ни одна ей не подошла. Ей необходима была мощь античных смертей, что потрясают разум, но при этом требовалась также назидательность христианской смерти, которая трогала бы сердца. Более всего грезила она о славном конце девственниц, которым небеса посылают бычьи рога, орлиный клюв, стрелы лучников, колесование, вздыбленных лошадей. Она испрашивала у судьбы одновременно смерти от воды и от огня, от земли и воздуха. Ей нужна была смерть, коей карали преступников, но также смерть безгрешных страдальцев. Она мечтала о смерти Христа и смерти роженицы, она жаждала, умирая, увлечь весь мир за собой, от его истоков до последнего мгновения. Своими пожеланиями она призывала Апокалипсис.
Она повергала в ужас Демуазель де Пари.
– Как, – удивлялась Жюли, – вы не желаете говорить об этом, по-вашему, это событие сомнительно и маловероятно, между тем как я все уже окончательно решила. Вы живете среди теней, вы общаетесь с призраками и не желаете признавать единственной истинной реальности вашего существования, ведь все дело случая, будете ли вы жить, это еще неизвестно, а то, что вы когда-либо умрете – это наверняка.
Демуазель де Пари истово крестилась и спешила куда-нибудь удалиться.
– И вот, – не унималась Жюли, преследуя несчастную, – вы ждете, когда дерево свалится вам на голову, когда вас раздавит колесо, вы ожидаете падения с лестницы, укола шипом розового куста. Вы мечтаете, чтобы это произошло как-нибудь ненароком, случайно, и чтобы над вашим смертным одром говорили: «Она не почувствовала смерти, как и не чувствовала жизни». Ибо, можете не сомневаться, одно другого стоит.
Демуазель заткнула пальцами уши.
– Как странно, – думала Жюли, – она совершенно не желает меня слушать. И тем не менее, поскольку смерть освобождает от жизни, надо полагать, я не слишком ее любила. Поскольку моя смерть освобождает меня от других людей, выходит, я их не любила. Какое наслаждение покончить с собой, когда себя не любишь.
Теперь, когда она готова была исчезнуть, мир представлялся всего лишь огромной ловушкой, которую расставила жизнь. Все в нем твердило, что нужно жить, любое существо, летающее, плавающее, бегающее. Все, что пресмыкалось и копошилось на земле, хотело жить. Жизнь хлестала через край, при этом стремясь затаиться, укрыться, уцелеть, защититься.
– Господи, – недоумевала Жюли, – сколько стараний и уловок, чтобы только дожить до конца своего срока!
Она думала было повеситься. Она мечтала утопиться, набив карманы тяжелыми камнями, в течение нескольких дней она грезила о том, как броситься грудью на острую шпагу, в конце концов она остановилась на яде – такая смерть представлялась ей таинственной и загадочной.
– Имейте в виду, – заявила Жюли Эмили-Габриель, с которой решила обсудить последние подробности, – я твердо решила умереть, и желаю, чтобы никто мне в этом не мешал.
– Это ваше последнее решение?
– Да.
– Да исполнится ваша воля. Теперь, когда решение принято окончательно и никакие мои желания не могут повлиять на ваши, должна вам признаться, что очень хорошо понимаю вас. Я сама наполовину мертва, и, хотя тело мое двигается, а голова думает, внутри остался лишь пепел, как от пожара монастыря, а душа ушла вместе с Аббатисой. Я всего лишь механическое устройство в руках господина Исповедника, я живу, как если бы прежде меня не существовало. Я стою на краю пропасти, и до меня долетает пена страстей, что бушуют подо мной, и глаза наполняются слезами. Я жажду испытать отчаяние, что толкает вас оборвать последнюю связь с этим миром, ибо сама не испытываю ничего, кроме уныния, которое мешает мне умереть и не позволяет жить.
Они бросились в объятия друг друга, и самой грустной из них двоих была отнюдь не та, что собралась уходить. Слезы переполняли глаза Эмили-Габриель.
– Я хотела славы, вы мечтали о счастье, но в конце пути тот же крах и те же слезы. Я прошу вас – примите снадобье герцогини, там еще что-то осталось, вы погрузитесь в сон.
– Благодарю вас, – отвечала Жюли, – не стоит принимать слишком много мер предосторожности. Демуазель де Пари уже пообещала мне один состав собственного приготовления.
– Мы торжественно отметим ваш уход. Только назначьте день.
– Этим вечером.
– Я отдам распоряжения.
– Вы не находите, господин Исповедник, что душевные страдания более жестоки, нежели недуги телесные? – спрашивал Панегирист. – Некоторым образом, ими я интересуюсь куда больше. Боль Жюли нестерпима, потому что от нее нет лекарства, я во всяком случае такового не нашел.
– Она сама нашла.
– Смерть? Но ведь подобный поступок осуждается церковью; не обязаны ли мы сделать все, чтобы она оставила свои зловещие планы, и самим предоставить ей кончину, которую она желает. Я чувствую себя виновным, и, коль скоро нам предстоит принять во всем этом участие, я не могу отделаться от мысли, что, будь в нас самих чуть больше отчаяния, его меньше было бы у нее.
– Похоже, господин Панегирист, вы куда более, чем она сама, обеспокоены спасением ее души. Я подумаю об этом…
Исповедник отправился на поиски Сюзанны: не найдется ли в замке некоего порошка?
– Хочу наконец избавиться от крыс, они так досаждают мне по ночам.
Испуганная Сюзанна принесла ему пакетик.
– Отныне, – заверила она его, – вы не увидите ни одного крысиного хвостика.
Панегирист отправился разыскивать господина де Танкреда, жившего отшельником в пещере в лесной чаще. Одет он был в лохмотья, а на коленях держал борзую и гладил ее по голове.
– Что вы сделали со своими собаками?
– Кураж погиб в первом же сражении, Мир умер от старости, Правда ослепла. Мне осталась лишь Жалость, она не желает больше охотиться.
– Какая досада, и как, должно быть, вы несчастны! А как же, Месье, вы убивали животных?
– Есть много способов убивать. Можно убивать свинцом, стрелами, сетями, зубами. Еще я убивал их с помощью других животных: кабанов – собаками, змей – хорьками, птиц – соколами.
– А не известен ли вам какой-нибудь способ, более… мягкий?
– Ну, может быть, отравленная приманка.
– Расскажите-ка мне про такую приманку.
Никогда еще на самоубийцу не приходилось столько убийц.
Они все собрались в птичьем зале, который был разукрашен, как во времена самых пышных празднеств Герцога.
– А я и не помнила, – сказала Эмили-Габриель, – что птицы на гобеленах были мертвыми.
– Это потому, – ответила Сюзанна, – что вы видели их лишь в самом начале, когда Герцогиня хоть немного, но еще любила жизнь. Она желала, чтобы из этой залы сделали вольер, а потом мы связали им крылья, закрыли глаза, как на натюрмортах с дичью, что, в сущности, не так уж плохо для столовой, даже для кающихся грешников.
Вошла Жюли, нарядно одетая, в платье с открытой грудью, напудренная и нарумяненная до ушей.
– Прошу простить меня, – сказала им она, – мне хотелось появиться в нарядном платье с нашитыми бриллиантами, но Демуазель де Пари, так удивившая всех своим внезапным отъездом, оказывается, забрала их с собой. Эмили-Габриель, не согласитесь ли вы отдать мне свой, вы ведь знаете, это всего на несколько часов.
– Но это не бриллиант.
– Ну, не знаю, как вы называете эту большую жемчужину, которую вы носите на ленточке, этот хрустальный шар, который я видела на груди Аббатисы, этот драгоценный камень, что был изображен на картине на груди у Девы.
– Это Большой Гапаль, – вмешался Панегирист.
– Бриллиант или Большой Гапаль, дайте мне его, Эмили-Габриель; хотя бы сейчас, в двух шагах от смерти, повесив его себе на грудь, я могла бы вообразить, что я святая дева, достойная аббатиса, добродетельная монахиня.
– Возьмите его, – сказала Эмили-Габриель, – тем более что он стал таким непривлекательным, с тех пор как я получила его, он холодит мне сердце, истощает тело, поглощает весь свет, все шумы и все запахи. Он словно мстит, что оказался заброшен во время моей болезни, но сейчас я не могу ответить на его призыв, я еще слишком слаба. О, моя прекрасная Жюли, мне бы хотелось сделать для вас в тысячу раз больше, отдать вам свою душу, доверить сердце.
И когда она повесила ленту с Большим Гапалем на шею Жюли, Панегириста охватил бесконечный восторг, он почувствовал, как ангелы, притягивая его к Жюли, возносят его к небесам.
– И как вы меня находите в роли аббатисы? – спросила Жюли.
– Дело сделано, – наклонился Исповедник к Сюзанне, – мы присутствуем при величайшем богохульстве, мы стоим у врат святотатства. Господин Панегирист обладает странным свойством путать порок с добродетелью, поразительная способность вечно попадать пальцем в небо. Говорю вам, эта церемония отвратительна, и, дабы сопротивляться ее мерзости, необходимо все совершенство Эмили-Габриель.
Жюли попросила выпить, потому что хотела, чтобы ей стало весело. На это Исповедник ответил, что это прекрасная мысль, ибо необходимо развеять черную меланхолию. Он сам подал ей рюмку ликера. А господин Панегирист пожелал, чтобы она попробовала вино, название которого он держал в тайне и которое, по его убеждению, весьма подходило для тяжелых моментов в жизни. Жюли нашла его превосходным и захотела пить его по очереди с ликером Исповедника, полагая, будто эта смесь, способствуя большему опьянению, лучше подготовит ее к роковому исходу. Она пила большими глотками, запрокинув голову. И рассказывала о празднествах, которые задавал Принц и которые длились ночь напролет.
– Всю ночь пить и есть? – удивилась Эмили-Габриель.
– …Кататься под столом, изменять самой измене и быть неверной самой неверности. Переворачивать все вверх дном, передвигаться задницей кверху, падать навзничь и ничком. Делать все шиворот-навыворот и выворот-нашиворот. Праздновать Пасху до Вербного воскресенья, ставить телегу впереди лошади.
– Так вам подавали кофе до обеда, а закуски вместо десерта? – спросила Сюзанна, которая не в силах была постичь распорядка подобных пиршеств.
– Мы ели десерты, а вот закуски уже не лезли в глотку, и мы отдавали их тем, кому их всегда не хватает, и которые обжирались, сидя под столом, набивая рты и животы.
Она вспомнила про эликсир молодости, присланный ей Принцем.
– Я хочу выпить его весь, – заявила она, – ведь чтобы омолодить смерть, его понадобится много.
Я поднимаю стакан, – сказала Жюли, – за эту жизнь, которая убила меня, – и воскликнула во весь голос: – Да здравствует смерть!
Она упала.
Все бросились к ней, полагая, что она мертва.
– Слава небесам, жива, – сказал Панегирист, приложив два пальца к шее, на то место, где билась тоненькая жилка.
Ее положили на подушки. Кормилица принесла одеяло.
– Нечего здесь оставаться, – сказал Исповедник, подталкивая Эмили-Габриель к двери, ведущей в соседнюю комнату, – это зрелище вас недостойно. Вам только что, – продолжал он, придвигая к камину два глубоких кресла, – довелось увидеть самую презренную из всех смертей, какую только могут ниспослать небеса, – смерть развратницы. Не позволяйте, чтобы воспоминание об этой сцене отяготило вашу душу, и пусть эта презренная девица, сгинув в преисподней, избавит землю от миазмов зла, что она распространяла, и да пусть ваша святость воссияет во всем величии.
– Святость, господин Исповедник, вы просто преследуете меня этим словом, вы произносите его всегда, стоит мне что-то сказать, заплакать или просто пошевелиться, а я его не понимаю.
– Именно так и распознается истинная святость – ее не осознают. Но, с другой стороны, не стоит и слишком мешкать, ибо если не признать ее вовремя, может случиться, что с ней свыкаются, и она рассеется в воздухе так, что в какой-то момент станет совсем не видна.
Раздался страшный крик.
– Что это? – воскликнула Эмили-Габриель, резко выпрямившись и прижав ладонь к животу.
– Мадемуазель Жюли больше не желает умирать, – объявил взволнованный Панегирист, – она требует противоядия.
– Противоядия?
– Скажите ей, что такового не существует, – раздраженно сказал Исповедник, – и велите, чтобы она прекратила свои капризы. Что с вами, дитя мое? – спросил он у резко побледневшей Эмили-Габриель. – Небольшое недомогание?
– Нет, Месье, сильная боль.
– Скорее сюда, – позвала прибежавшая за помощью Сюзанна, – ноги у нее просто ледяные, руки дрожат, лоб покрыт испариной, началась рвота…
– Замолчите, дочь моя, – оборвал ее Исповедник, – видите, вы же нам мешаете. Закройте дверь.
Крики возобновились, но слышно было, что несчастной уже не хватает дыхания.
– О! – стонала Эмили-Габриель.
– Когда выходит дьявол, – объяснял Исповедник, – самое главное – изгнать его из тела, а он цепляется, не желает выходить, при этом всегда бывает очень больно.
– Какие ужасные крики, ни у одного животного я никогда ничего подобного не слышал.
– Крики – это отличительная особенность человека, животным свойственно молчание, а если говорить о людях, то громче всех кричат проклятые. Заткните уши.
– Я слышу в глубине собственного сердца и крики Жюли, и мольбы Сатаны. Я страдаю и за нее, и за него.
Просунувшись в приоткрытую дверь, Кормилица сообщила:
– Она сейчас прямо как маленький ребенок, ей страшно в темноте, больно, она рыдает.
– Да оставите же вы наконец нас в покое! – воскликнул Исповедник. – В то время как та, другая, рожает дьявола, Мадам производит на свет свою святость!
И добавил, повернувшись к Эмили-Габриель:
– Заклинаю вас, Мадам, оставьте ад, для вас существуют лишь Господь, Рай и Святые!
– Я не могу больше это выносить, – бормотала Эмили-Габриель, – такая боль…
да, боль, которая отпускает по мере того, как сильнее становятся крики, боль, которая через несколько мгновений превращается
… в радость.
– Аллилуйя! – воскликнул Панегирист, широко распахивая дверь, – у нас появилась святая… В самый последний миг, когда все, казалось, было потеряно, когда телесная боль уносила душу и сердце, я увидел, как с небес спускается Ангел, он укротил Дьявола и сбросил его, скованного цепями, на дно пропасти, а Большой Гапаль вспыхнул, как Неопалимая Купина тысячью серебряных звезд, тысячью золотых роз, они омыли рот и глаза Жюли сияющим светом и увенчали ее голову огненным нимбом. В своей сияющей славе она казалась кристальным источником.
Большой Гапаль вернулся к вам, Мадам, – добавил он, протягивая прекрасный бриллиант Эмили-Габриель, – он еще сияет отблеском чуда.