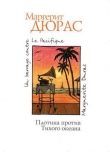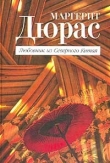Текст книги "Большой Гапаль"
Автор книги: Поль Констан
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
17
МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖЮЛИ
Хорошенькое дело! – воскликнула Жюли. Не желая более выносить свое положение пленницы в деревенской глуши, она решила искать помощи в Париже, позабыв о том, что оказалась здесь именно потому, что ей нужно было из этого Парижа спастись. Она отослала прошение своему любовнику Принцу, умоляя во имя чувств, каковых он более не испытывал, позволить ей вернуться из изгнания. Она пыталась вновь возбудить в нем сладострастие, которому он давно уже предавался совсем в других объятиях. Она жеманилась и манерничала, причем делала это довольно неуклюже, как все черствые особы, не ведающие истинной нежности и разливающие вместо нее клейкий сироп, от которого потом не знаешь как отмыться. В качестве последнего довода она решила прибегнуть к его заботливости, каковой он никогда не проявлял, и сообщила, что тяжело больна: ее трясет жестокая лихорадка, она потеряла аппетит, страдает от головных болей, и вообще деревенский воздух пагубно воздействует на ее красоту.
Принц де О. прислал своего лекаря, который, обследовав Жюли, не нашел у нее ничего, кроме так называемого «недуга Ирен», в завуалированной форме это означало обыкновенное старение.
– Недуг Ирен? – удивилась Жюли, – но мне ведь нет и двадцати!
– У вас наблюдаются симптомы внезапного старения, они могут настигнуть человека в любом возрасте. Для таких необыкновенных особ вроде вас, Мадам, возраст не измеряется числом прожитых лет. Вам следует лечиться белым и красным.
– Что это? Лекарство, микстура?
– Нет, это белила и румяна, – ответил врач.
Все весьма потешались, включая самого Принца де О., который в глубине души опасался, что она осталась такой же прекрасной, какой была в ту пору, когда он прогнал ее. Он объяснил, что она была изнурена гордыней, изъедена скукой, изъязвлена честолюбием: для старости это самая лучшая почва. Он велел отослать ей микстуру от старения, составленную по собственному рецепту: держи, шлюха, это хоть как-то тебя освежит!
– У меня недуг Ирен, – пожаловалась Жюли Демуазель де Пари. – Именно из-за него у меня такое лицо и такая кожа. Мне нужны белила и румяна, чтобы все это скрыть. А потом, когда и румяна не будут помогать, мне придется носить тесемки вокруг головы, черные тесемки на лбу, вокруг щек и шеи.
– Носите лучше манишки и нагрудники.
– Нет, они недостаточно крепкие, недостаточно твердые, недостаточно накрахмаленные.
– Так вам и тесемки будут слишком слабыми.
– Тогда стану носить веревки.
– Может, вам лучше на них повеситься?
Демуазель де Пари порекомендовала ей магазинчик «У Наследницы», который поставлял товар королевам и принцессам. Жюли заказала там пятьдесят баночек румян, сто фунтов пудры и с десяток литров всяческих ароматических притирок, отчего в Париже заговорили, будто она пытается разукрасить изгнание, но что всего приобретенного ею недостаточно, чтобы скрыть свой стыд, гнев и зловонные миазмы души.
Жюли готова была к тому, что ей придется пережить трудный период, и ждала суровых порицаний, но только не этот скотный двор с его вульгарным кудахтаньем! Она недоумевала, почему удары наносятся снизу, причем из стольких мест сразу и от людей, на которых она никогда прежде и смотреть не желала. Буквально каждый позволял себе какую-нибудь колкость, некоторые даже приводили детей, чтобы те тоже имели возможность пнуть своей маленькой ножкой, и поднимали стариков с их смертного ложа, чтобы и они могли плюнуть и запачкать ее. Каждый являлся со своей пригоршней грязи, они копались в своем собственном нутре, чтобы набрать побольше желчи и шлаков, так они отмывались сами. Чуть поодаль деревня воняла гораздо меньше, только смрад гниющих яблок и налипшей на свиней грязи.
Она попыталась найти защиты у Демуазель де Пари, которая выслушивала ее, словно речь шла о каких-то чудесах, и начинала рассказывать всякие парижские байки, а сами они в это время перебирали бриллианты, что были нашиты на подкладку ее платья. В последний вечер Жюли решила устроить прием, на который никто не соизволил явиться. Она прождала целую ночь, красуясь в своем дивном платье, переливающемся ослепительным сиянием. Решив бежать, она перелицевала платье, бриллианты кололи ноги. Она долго надеялась, что по возвращении вновь переделает все как было, пусть эти камни ослепят их всех. Мне это больше не понадобится, – вздохнула она.
Их было так много, что они покрыли всю поверхность стола. Она перебирала их, как шахматные фигуры или игральные кости. Жюли обратила внимание, что если долго играть с бриллиантами вот так, пальцы становятся скрюченными…
– У меня ненависть сидит прямо внутри, – признавалась она Демуазель де Пари, – она меня пожирает и ослепляет, я все время думаю, как отомстить, но все способы кажутся мне недостаточно жестокими, это совсем не то, что я хочу. Почему же мой ум, который так хорошо служит мне в делах, здесь оказывается бессилен? Я мечтаю подвергнуть их такому унижению, причинить всем такую боль, чтобы им стало в тысячу раз хуже, чем мне, но у меня ничего не получается, более того: как если бы все, что я придумываю, оборачивалось против меня и усиливало мою собственную боль. Я убью себя.
Пытаясь как-то успокоить ее, Демуазель де Пари водила ее по саду, где сама в течение стольких лет пыталась рассеять собственную скуку. Она любила один старый вольер, в котором жил сокол. Когда-то его вынул из гнезда некий крестьянин и, мало осведомленный о повадках этих птиц и о правилах дрессировки соколов для охоты, подсунул его курице, поскольку в его представлении любое существо, обладавшее перьями, крыльями и клювом, имело отношение к домашней птице. Но приемная мать выклевала соколу глаз, продемонстрировав таким образом, что этому сыну лазури предпочитает собственных отпрысков. Искалеченный и несчастный, он кормился дохлыми мышами, которых удавалось отбить у кошки, разной падалью и так влачил свое существование, болтался в вольере, словно грязная, мятая тряпка, дрожа от страха перед грозными курами.
Демуазель де Пари подвела Жюли к несчастной птице, спрятавшей голову под крыло.
– Вот вам прекрасный символ, напомнивший мне о трусости Принца, – сказала Жюли, – некто бахвалится перед всеми, возвышается, как король, но только окажется в клетке, дрожит перед обыкновенными курами.
Ей пришла в голову мысль подарить Принцу де О. этого сокола и даже присвоить ему имя – Брут. Они с большой тщательностью подготовили птицу к путешествию, такого, как он был, запаршивевшего, грязного, с пролысинами под левым крылом, где проглядывала убогая плоть, с ощипанным хвостом и страшной дырой на месте выклеванного глаза.
– Но по каким признакам он узнает в этой птице себя? – поинтересовалась Демуазель де Пари.
– Да по всему: такое же убогое, вшивое, общипанное существо, а главное, на глазу у него тоже черная повязка.
Она дождалась ответа. Богато убранная карета, запряженная шестеркой лошадей, с невероятным грохотом въехала во внутренний двор замка. Это была карета Принца де О. Лакей открыл дверцу, другой пододвинул приставную лесенку. Из кареты появилась крошечная мартышка, по моде того времени на ней красовался белый парик, она была одета в платье голубого шелка и намазана румянами до ушей. Она поприветствовала присутствующих, присев в грациозном реверансе, затем, одурев от свободы, испустила пронзительный вопль и тремя огромными прыжками исчезла в саду. С тех пор из окна своей комнаты Жюли могла наблюдать за этой мартышкой, которая, усевшись на самой высокой ветке самого большого дерева, разорвала платье и все приседала и приседала в реверансе. При первых заморозках слуга нашел ее тельце на земле – обезьянка умерла от холода. Милая шуточка, только продолжалась недолго, – пробормотала сквозь зубы Жюли, но Эмили-Габриель потребовала для мартышки погребения по христианскому обряду, на которые согласился и Исповедник, увидевший в этом признак святости, и пожелал обсудить это с Панегиристом.
– Что вы думаете, господин Панегирист, вы ведь наблюдаете эту историю гораздо дольше, чем я?
– Именно так, господин Исповедник, я вообще об этом ничего не думаю, впрочем, это не вина Эмили-Габриель, дело в том, что мое собственное мнение заблудилось и никак не может отыскать дорогу. Судите сами: я назначен Панегиристом Софии-Виктории, я записываю все ее возвышенные речи, отмечаю ее чудесные поступки в течение многих лет. Но в какой-то момент, почти вопреки собственной воле, я все больше начинаю интересоваться Эмили-Габриель, оставляю Софию-Викторию и пропускаю главу. Вы должны понять меня, господин Исповедник, я могу признаться в этом только вам одному: как если бы при Сотворении мира я отсутствовал в момент падения и, оставив Адама и Еву в раю, отыскал их уже на земле.
– Мне кажется, – ответил Исповедник, – вы просто оставили одну судьбу ради другой, показавшейся вам более величественной, надежду, которую дает нам наша малышка Эмили-Габриель, вы предпочли весьма спорным деяниям Софии-Виктории. По правде говоря, меня уже не слишком занимают все эти «Жанетты» с их чересчур мужественной святостью. Вы принадлежите к тем особам, кого пугает кровь и ужасает жестокость.
Панегирист покачал головой:
– Именно в этом я и хотел убедить самого себя вначале, но, увы, я верен Эмили-Габриель не более, чем Софии-Виктории, меня сейчас интересует одна-единственная особа, она непреодолимо влечет меня, она стала моим наваждением, и это Жюли!
– Помилуй Боже! – воскликнул Исповедник, – я-то опасался, что для нас обоих такой особой станет Эмили-Габриель, и, придя вторым, я не хотел становиться вашим соперником. Отныне у каждого своя задача; я займусь Эмили-Габриель, а вы наставляете Жюли на пути святости.
– Святости! – воскликнул Панегирист, – по этой дороге она не пойдет, и я боюсь, как бы, следуя за нею, мне самому не оказаться в аду.
– Господь всемогущ, – произнес Исповедник, – и пути его неисповедимы.
– Эмили-Габриель, – настаивал господин де Танкред, которого новость о пробуждении хозяйки привела в такой восторг, что он добрался до дальнего пруда и там подстрелил оленя. – Вы вновь обрели свое сердце! И если оно способно оплакивать смерть обезьянки, оно не может остаться равнодушным к страданиям человека, умирающего от любви к вам.
– Месье, – отвечала она ему, – вы совсем как мой Исповедник, который, увидев, как я плачу над несчастной обезьянкой, вообразил, что я вновь почувствовала любовь к Господу! Вы ведь знаете, – продолжала она, – я едва не умерла. Болезнь отняла у меня ум, душу и сердце. У меня больше нет веры, нет разума, нет чувств. Можете мне поверить, самая бесплодная пустыня – это цветущий сад по сравнению с моей душой. Я погружена в бескрайнее небытие, но и в этом небытии, которое скрывает от меня то, что видишь в обычном состоянии, изо всего невидимого вы – самый невидимый. Вы стоите передо мной, но я вас не вижу, вы берете мою руку, но я не ощущаю вашей, вы воскрешаете воспоминания, но это не мои воспоминания.
– Но вы же видите Жюли!
– Я вижу ее, потому что она несчастна, а я способна воспринимать людей, лишь когда они страдают.
– Но я страдаю, Мадам.
– Я говорю не о тех страданиях, что исторгают слезы, но о тех, что сжимают горло, от которых вваливаются глаза, немеет рот, пылает в груди, о тех, что застыли немым криком в душе.
– Но я могу кричать.
– Ваши крики не громче криков тех птиц, что вы убиваете, а слезы не горше слез лани, которую вы закололи на охоте. Мне представляется, что страдания, которые вы причиняете другим, делают недействительным ваше собственное. Если угодно знать, крыло королька на вашей шляпе причиняет мне боль.
– Но ведь когда-то вам понравилось перо райской птицы!
– Перья вновь отрастают в раю, а у королька теперь нет его крыла, я слышу, как он плачет, я вижу, как он пытается спрятать порванный бок.
– Мадам, я охочусь! Я же не просто ловлю птиц на лету, чтобы обрывать у них крылья!
– О Месье, я не собираюсь вступать с вами в споры относительно охоты, точно так же, как не стала бы спорить с отцом о войне, у вас на этот счет своя точка зрения, довольно странная, которой я не понимаю, но охотничья команда нравится мне не больше, чем войско, идущее на войну, охотничье оружие – не больше, чем военное, а дичь в вашем ягдташе – не больше, чем военные трофеи. И там, и там я вижу одну лишь смерть, ту же самую смерть, что заливает кровью землю, вырывает глаза, дробит члены. Я вижу только смерть.
– Вы так говорите, потому что вы женщина!
– А вы мужчина. И я буду говорить с вами, как с мужчиной: уходите!
На это господину де Танкреду возразить было нечего. Но, как все особы, которых прогоняют, он решил остаться. Чтобы утолить сердечную боль, он все дни проводил на охоте, в бешеной ярости, но у него появилось тягостное ощущение, что его больше не существует на свете, что он словно растворился в осенних туманах, растаял, как клочья пара над прудом, возле которого подстерегал утку, сбросил листву, как лес. И он подумал: «Я человек одного времени года, я расцвел с вишневыми деревьями, а теперь наступила осень».
18
ИЗГНАНИЕ
Жюли принадлежала к той категории людей, которые ни при каких обстоятельствах не признают себя побежденными и всегда возрождаются к жизни. Когда она увидела, что Эмили-Габриель приходит в себя, надежда вспыхнула в ней, словно соломенный жгут, который обмакнули в смолу. Хвала Господу! – воскликнула она, подняв глаза к небу, к которому прежде не имела привычки обращаться, – наконец-то к ней вернулся разум!
– Вам нужно как можно скорее отправляться в Париж, из которого вообще не следовало уезжать. Примите жезл из рук Кардинала, восстановите аббатство, за его счет, разумеется, обратите своих монахинь к молитвам, а мне позвольте вернуться к моим делам.
– Париж! – вздохнула Эмили-Габриель, – я вообще не хочу туда возвращаться, никогда, я не могу вернуться к Богу в этом состоянии, мне лучше уединиться здесь, вдали от всего, чтобы скрыть от него свою скорбь. Мое сердце больше не бьется, оно стонет, когда я думаю о Париже, когда я думаю о монахинях, о монастыре. Моя боль витает вокруг меня, она везде и нигде. Я словно загнанная, изнуренная кляча, которая не слышит больше окриков и не чувствует ударов хлыста. Я пламя, которое тлеет и умирает под слоем пепла. Я хочу простить, но тотчас же сердце мое оказывается затоплено горечью. Нежность смешана с печалью, ум причиняет горе. Как могу я строить какие бы то ни было планы, ведь я больше не знаю, кто я, я не знаю, кто вы, я не знаю, где мы находимся.
Исповедник увидел, что сейчас его святая подобна эквилибристу на проволоке, который готовится – и страшится – посмотреть вниз. Он взял ее за руку, она приняла. Он повел ее показывать окрестности, которых она не знала, где убогие домики из глины и соломы сбивались в крошечные деревушки. Герцогиня, превратившая свою кровать в центр мирозданья, окончательно позабыла, что находится за дверью ее комнаты. Забвение ведет к опустошению, забвение Герцогини разрушило все.
– Вот люди, – сказал Исповедник, показывая на несчастных существ в лохмотьях, выползающих из каких-то дыр в земле.
– Их много, – заметила Эмили-Габриель, – странно, почему я никогда не видела их раньше.
– Да, их очень много.
– У них такой злобный вид, – сказала Эмили-Габриель, – они кусаются?
– Нет, – ответил священник, – у них нет больше зубов.
Из-за стекол кареты, остановившейся прямо посреди скопления лачуг, Эмили-Габриель созерцала это печальное зрелище, пепельное небо, серые существа, и чувствовала, как в сердце ее начинает таять какая-то льдинка и глаза наполняются слезами.
– О, – произнесла она, поднеся руку к груди и нащупав Большой Гапаль, который был отныне всего лишь кусочком стекла, – я чувствую… я что-то такое чувствую.
– Мадам, я поистине счастлив, ибо то, что вы испытываете, – это очень благородное и чистое чувство, оно называется Жалостью и осеняет лишь тех, кто сподобился особой милости.
– Жалость, – повторила Эмили-Габриель, – совершенно необыкновенное ощущение для особы вроде меня, у которой внутри все сожжено.
– Мадам должна узнать, что сама по себе Жалость бесплодна, если тотчас же за нею не последует Милосердие.
– В самом деле! – вскричала Эмили-Габриель. – Хочу Милосердие, дайте его сюда.
– Вы можете получить его за несколько монет, Мадам, – сказал Исповедник, вкладывая ей в руку кошелек.
– Так, значит, Милосердие можно позвать, как стайку куриц, только вместо зерен разбрасывать деньги?
И бросила пригоршню монет.
Тотчас же бедняки сбились в кучу, они катались по земле, шарили руками в грязи, а те, кому не удалось ничего ухватить, пытались отнять у своих более удачливых сородичей. Закончилось все чудовищной потасовкой.
– Вы правы, господин Исповедник, – задумчиво произнесла Эмили-Габриель, – это ощущение гораздо сильнее, чем предыдущее, оно сжимает горло, и я не могу сдержать слез. Поверьте, это похоже на дождь после сильной засухи, мне хочется испытать его вновь и вновь.
– Вы святая, Мадам, – сказал Исповедник, целуя ей руку. – Но на первый раз эмоций достаточно, иначе столь чувствительное сердце может не выдержать, мы вернемся сюда завтра.
А господин де Танкред, охотившийся на тех же землях, где Эмили-Габриель рассыпала золото, видел, как мимо проезжает карета, запряженная белыми лошадьми, и окрестности озаряются фантастическим светом. С окровавленным ртом – верный охотничьему обычаю перекусывать зубами шеи пойманных голубиц – он кидался в придорожную яму, чтобы она не узнала его или, что еще хуже, вдруг узнав, не бросила ему из проезжающей кареты пригоршню монет.
– Мне нравится, – объясняла она Исповеднику, который во весь опор несся к надежде, – нравится движение кареты, мне кажется, ее ход ослабляет путы, стянувшие мне сердце и душу.
Затем они посетили школу, где учились Жанетты, там пичкали молитвами десяток маленьких девочек, оберегая их чистые души от излишних познаний. Они пасли барашков, радовались единственному доступному им зрелищу – проплывающим по небу облакам и наслаждались единственной музыкой – завыванием ветра в ветвях деревьев. Еще они слышали голоса. При виде Эмили-Габриель все очень обрадовались.
– Это наша святая Маргарита? – спросили они на своем наречии.
– Мадам – ваша хозяйка, – объяснил им Исповедник. – Вы хорошо себя вели?
Они дружно ответили, что весь день пасли своих барашков, оберегали их от волков, следили за облаками, в которых как раз и прятался волк, потому что они ясно слышали его вой в завываниях ветра. Потом они водили хоровод и пели: В лес мы все гулять пойдем, мы пойдем, Волка там мы не найдем, не найдем.
– Это и есть Надежда? – спросила Эмили-Габриель, не в силах скрыть разочарования. – Мне она кажется такой заурядной и пресной.
– Мне тоже раньше так представлялось, – ответил Исповедник, – вы видите сейчас Надежду еще в зачатке. Но у меня есть и другая, восемнадцатилетняя, очень сильная и крепкая, как раз сейчас она учится держаться на лошади.
– Тогда представьте мне ее, пожалуйста, Надежда на лошади подходит мне куда больше. Позвольте уж мне выбрать отчаяние.
– Мадам, – сказал Исповедник, который чувствовал себя немного виноватым, – у отчаяния тоже есть своя прелесть.
Тогда они пошли к женщинам, недавно потерявшим мужей, и мужчинам, недавно потерявшим жен. Они входили в хижины, склонив головы, они вдыхали этот запах, они видели мошек и тараканов и излечивали все это золотом.
– Неужели, – спрашивала Эмили-Габриель, – именно так можно все исправить – нищету, унижение, отчаяние? Вы заметили, Месье, когда мы вынимали кошелек с золотом, их плечи расправлялись, слезы высыхали, а на губах появлялись улыбки? Я готова отдать им все свое состояние, отныне я стану для них рогом изобилия.
И все-таки нашлась одна женщина, которая не оторвалась от тела своего умершего ребенка и отказалась взглянуть на золото, что выложили они на стол. И был еще один мужчина, чей сын погиб на войне, он все бежал и бежал по дороге, стремясь догнать его, он не желал остановиться, хотя они долго преследовали его, вынуждая мужчину бежать быстрее, чем их лошади.
– Как много страданий на свете, – говорила Эмили-Габриель, перевязывая раны, смазывая нарывы, излечивая золотуху и очищая гнойники от налипших мух. – Этот запах нищеты переполняет мне душу.
Ее тревожило только, что Большой Гапаль больше не подавал признаков жизни, хотя к ней самой жизнь уже вернулась; однажды она чуть было не забыла о нем: отдала его плачущему ребенку, а тот стал играть с ним, словно это был простой бутылочный осколок.
Исповедник распустил слух, что хотя к Эмили-Габриель еще не вернулся полностью разум, но она обрела уже свою душу. Хвала Господу! – воскликнула Демуазель де Пари. Исповедник вел дело ловко, он слишком много потерял времени со своими Жанеттами, поэтому теперь желал наверстать упущенное и живо ухватить кусочек. Он представлял, как через год Эмили-Габриель будет причислена к лику святых. Имя, что она носила, переживет века, а то, что подобной чести уже удостоилась София-Виктория, только ускорит дело: ведь книга, в которой велись соответствующие записи, еще лежала раскрытой у Папы на столе. И наконец, поскольку новые вердикты Кардинала тоже благоприятствовали этому, он стал готовиться к поездке в Париж.
Никто легче великих мира сего не даст себя убедить, что они призваны для более возвышенных деяний; они с готовностью уверуют в этот призыв и ответят на него со свойственным им достоинством. Другое дело – простые люди: подозрительные по природе, они с большим трудом верят в свое святое предназначение. Стоило полюбоваться на ту драму, что разворачивалась в хижине, когда он пытался заполучить очередную Жанетту: девчушка в слезах, умирающий старец на жалкой соломенной подстилке, рыдающий у него на руках отец, мать, которую приходилось оттаскивать, и куча малышни, копошащаяся вместе с курами и собаками на земляном полу. Слезы, крики, рыдания и девчонка, уверяющая, что никогда в жизни не слышала никаких голосов. Чтобы заставить их замолчать и все-таки увлечь на путь святости, требовался туго набитый кошелек.
– Господин Панегирист, – поинтересовался Исповедник, – как обстоит дело со святостью Жюли?
– Неважно, я полагаю, – ответил тот, – она поддается ненависти и отчаянию.
– Тогда взгляните на мои успехи.
Он привел его на лужайку, где пытались возвести в сан первую Жанетту. Ей остригли волосы под горшок и обрядили в мужское платье. Самое трудное было взгромоздить ее на лошадь, которая не понимала важности момента и не желала стоять смирно.
– У крестьян имеется такая странность, – объяснял Исповедник, – они совершенно не умеют держаться на лошади, вцепляются ей в гриву, ложатся плашмя на шею.
Жанетта так крепко ухватилось за головку передней луки седла, что всунуть ей в руку орифламму не представлялось никакой возможности. Лошадь отпрянула, и девочка грузно свалилась на землю. Ее вновь водрузили в седло и для пущей прочности привязали веревками. Она казалось не победоносной святой, но несчастной пленницей, молящей о пощаде. Сбившиеся в кучку на краю поля пахари, забывшие про свои борозды, надрывались от смеха.
– С этой не получилось, – прокомментировал Исповедник, – но у вас осталось еще целых девять, опыт – дело наживное…
– Скажем прямо, господин Исповедник, скажем прямо, лучше уж порочность Жюли, чем эти откормленные телеса добродетели, которые мешают им держаться на лошади.
– Так что же делать? – спросил Исповедник.
– Выдать их замуж, – ответил Панегирист.
– Вот это правильно, – одобрил Исповедник, – замужество – лучшее разрешение всех их проблем.
Позабыв о Жанеттах, он с чистой совестью посвятил себя Эмили-Габриель. Всем, кто готов был слушать, он рассказывал, что ее лицо, озаренное внутренним солнцем, сияло так ярко, что даже нищие, клянчившие монетки, забывали о своем презренном занятии, оборачивали свои лица к ее лику, чтобы от него тоже получить хоть немного света…
– Святая, – шептали вокруг.
– Ах, не знаю, – не унимался Исповедник, – трудно пока сказать, – но всем своим видом давал понять, что он не просто сказал это, но провозгласил.