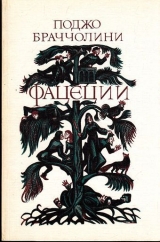
Текст книги "Фацеции"
Автор книги: Поджо Браччолини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
духовной власти.
Если говорить об общей житейской философии, которая
проводится в новеллах, то ее можно формулировать как
прославление удачи. Удача дается энергией, умом, ловкостью,
изворотливостью. Удачи никогда не бывает там, где вместо всех
этих качеств лень, глупость, ротозейство. Эту житейскую
философию создал город, то есть коллектив людей, обладающих
всеми необходимыми качествами для удачи. И в рассказах о
животных, где прославляется хитроумный Ренар-Лис, и в
новеллах, полных насмешки над обманутыми мужьями, над
обойденными простаками, – всюду мы встречаем одни и те же
максимы, которые в совокупности становятся чем-то вроде
системы моральной философии. Это очень реалистическая
мораль. Ее категорический императив совсем не похож на
кантовский. Десять заповедей и иные канонические системы
морали забыты или отрицаются. При охоте за удачей
рекомендуется средствами не стесняться. Средства все хороши,
лишь бы цель была достигнута. А тог, кто зевает или плохо
думает и становится из-за этого жертвой какого-нибудь ловкача,
тот виноват сам, и так, значит, ему и нужно.
В итальянском городе XIV–XV веков не могло быть другой
житейской философии, и она достойно завершает ту идеологию,
которую мы находим в новелле.
IX
Таковы сюжеты и социальные тенденции новеллы как
типичного городского жанра. Поджо усвоил себе и то и другое,
потому что сам был типичный горожанин. Но он внес туда и
свое. Тут второй вопрос, который возникает при изучении
«Фацетий». В чем заключалось то новое, что внес Поджо в
городской рассказ? Это была форма. Поджо в двух отношениях
отошел от установившейся формы новеллы. Он писал не по-
33
итальянски, а по-латыни и при композиции стремился к
предельной краткости.
Предисловие к «Фацетиям» объясняет, почему Поджо избрал
латинский язык. Он хотел попробовать, можно ли поднять
городской жанр – его сюжетом он считал «низменные вещи»,
resinfimae, – до той ступени важности, чтобы он не
дисгармонировал с латинским языком. И еще, можно ли
латинскому языку сообщить такую гибкость, чтобы он оказался
способным передавать вульгарную уличную сценку в народном
квартале маленького городка, перебранку женщин легкого
поведения, эпизоды, связанные с отправлением самых грязных
функций организма, – словом, все, что с такой красочностью
воспроизводили итальянские новеллы. Поджо чувствовал, что
латинский язык эту операцию выдержит, не впадая в пошлость.
Именно Поджо, который был чужд идолопоклонства перед
античным миром и который при всех своих гуманистических
увлечениях не забывал, что довлеет дневи злоба его, который не
был ни буквоедом, ни доктринером, мог это почувствовать.
Через Поджо итальянская литература попробовала дать толчок к
развитию латинского языка, и то, что начали «Фацетии»,
продолжалось в романе Энеа Сильвио Пикколомини («Historia
de Eurialo et Lucretia»), в стихотворениях Джовиано Понтано, в
сочинениях Полициано. Латинский язык, сохраняя всю свою
элегантность и лишь отбрасывая преувеличенную риторическую
красивость, сделался гибок и эластичен настолько, что стал
совершенно свободно говорить о самых современных вещах, о
таких, которых римляне не могли даже предчувствовать.
Полициано подробно описывал по-латыни часовой механизм.
Латинский язык отчасти сделал обязательной и иную
композицию новеллистического материала. Как латинская
книга, «Фацетии» были опытом. Опыт требовал сдержанности и
осторожности. Латинский язык вынуждал на некоторое хотя бы
равнение по античной литературной традиции («Апофтегмы»
Плутарха, сборник Валерия Максима). Отсюда краткость
«Фацетии». На краткость тем более было легко решиться, что
она имела образцы и в итальянской новеллистике. «Cento
novelle antiche» большей частью коротенькие. Среди новелл
Саккетти имеются сборные, составленные из нескольких
остроумных ответов одного и того же лица (напр., Nov. 41),
которые, если разложить их на отдельные эпизоды, как это
делает у себя Поджо, превратятся в такие же крошечные
34
«рассказики», как и в «Фацетиях». Во всяком случае, для
«Фацетии» краткость типична. Сюжет развертывается с
молниеносной быстротой. Действующие лица в большинстве
случаев – если это не исторические персонажи – не
удосуживаются получить даже имени, а так и остаются: муж,
жена, монах, лодочник, купец. В рассказах нет ничего, кроме
самого необходимого для расстановки сюжетных вех. После тех
великолепных образцов художественной новеллы, которые дал
«Декамерон», где типы психологически разработаны, где
ситуации выяснены до конца путем диалогов, где логика
душевных движений, приводящая к трагическим или
комическим исходам, захватывает, Поджо свел новеллу к
миниатюре, скупой, подчас почти афористичной. Он вытряхнул
из нее романтизм, смыл краски и расцветку, оставил один только
динамический сгусток сюжета. По сравнению с новеллою –
фацетия то же, что острая, с карикатурным уклоном графика по
сравнению с колоритной акварелью. Психологическая
обрисовка действующих лиц отсутствует. Ее заменяет
шаблонный, упорно и бесцветно повторяющийся эпитет –
глупый, бестолковый, рассудительный, мудрый, осторожный,
милый, монотонность которого разнообразится время от
времени превосходной степенью. Диалог лаконичен до пределов
лаконичности: он не всегда успевает принять форму прямой
речи и часто остается в рамках неразвернутого конъюнктива
косвенной. Было бы очень интересно провести параллель между
однородными по сюжету новеллами Боккаччо или Саккетти и
«Фацетиями». Например, фацетией о флорентийке с двумя
любовниками и новеллою о Ламбертуччо («Декамерон», VII, 6),
фацетиями о Ридольфо ди Камерино и многочисленными
новеллами Саккетти, посвященными тому же мудрому
кондотьеру 9.
Рядом с композиционными и стилистическими
особенностями в «Фацетиях» бросается в глаза обилие в них, по
сравнению с новеллами, всяких сверхъестественных вещей.
Несколько фацетий посвящены чудесам, причем старательно
подчеркивается, что передают эти рассказы люди,
9 Работа, которая еще не сделана и которая, несомненно, даст много
любопытных наблюдений для теории композиции. «Новеллы» Саккетти и
«Фацетии» интересно сопоставить и целиком. Некоторые анекдоты о Ридольфо
у Саккетти и у Поджо совпадают почти буквально. Возможно, что в руках у
Поджо был список новелл Саккетти. «Декамерон» же он, наверное, хорошо знал.
35
заслуживающие полного доверия. Автор верит не только всем
выдумкам о том, что веретено приросло к пальцам девушки,
ругнувшей святого, или что косцы, вышедшие на работу в
праздник, не могли уйти с поля и были вынуждены мучиться
словно в чистилище, но принимает за чистую монету рассказ
явного мистификатора, мошенника, уверявшего и, кажется,
уверившего всех, в том числе и «неверного» Поджо, что он два
года живет без пищи и питья. И нечистая сила играет в
«Фацетиях» роль, какой ей не дают новеллы. Тут черти и
простые и квалифицированные: оборотни, суккубы и морские
чудовища, пожирающие детей, но погибающие в бою с
воинственными далматскими прачками. Тут призраки
покойников, гуляющие по лесам и поднимающиеся как ни в чем
не бывало на воздух, и много вообще всяких несообразностей.
Совершенно ясно, что этого рода сюжеты, так резко
выпадающие из обычного новеллистического репертуара,
обязаны своим возникновением месту: специфически
клерикальным настроениям папской курии, где подбирали,
особенно при Евгении IV, который верил всем этим небылицам
первый, всевозможные чудесные выдумки. Город эти сюжеты
отметал, куриалы коллекционировали. А Поджо потом заносил
их в свое собрание, чтобы иметь несколько лишних рассказов.
Иной характер носят, разумеется, басни о животных, исконная
часть городской литературы. Тут никто не выдает за чудо, что
лисица или петух разговаривают по-человечески, и все
понимают, что это не более как литературный прием.
Разойдясь с новеллой во взглядах на чудесное и
сверхъестественное, Поджо не пошел по ее стопам и в области
анекдотов, относящихся к историческим лицам недавнего
прошлого. Их у него довольно много. Среди фигур
исторических есть такие, которых он любит. Есть такие,
которых он терпеть не может, например кардинал Анджелотто
Фоски или Фуско, как он называл себя, недостойный любимец
папы Евгения IV, или другой кардинал, кондотьер Джованни
Вителлески, в трагической судьбе которого Поджо сыграл такую
темную роль. Постоянно мелькают и имена живых людей. Это
чаще всего друзья: Лоски, Чинчо, Рацелло, Цуккаро, Никколи.
Поэтому при них – хвалебные эпитеты, которым превосходная
степень не мешает быть однообразными и надоедливыми. Но
иногда это и враги, вроде Филельфо. Тогда эпитеты выбираются
противоположного характера, превосходная степень начинает
36
свирепствовать еще более неудержимо и про людей
рассказываются без стеснения всевозможные гадости. Эта черта
уже чисто гуманистическая. Новелла не знает ее. Она, правда,
иногда смеется над живыми людьми. Но пасквилей на них не
сочиняет. Гуманисту, привыкшему при перестрелке инвективами
не стесняться решительно ничем, кажется вполне естественным
приемы пасквиля перенести и в новеллу. Наряду с чудесами это
– вторая черта «Фацетий», уклоняющаяся от традиций типично
городского жанра. Та обязана своим происхождением
куриальной обстановке, эта – гуманистическим литературным
приемам.
Несмотря на все недочеты сюжетного и композиционного
характера, «Фацетий» в целом нисколько не компрометируют
городской литературы. Ни краткость, ни своеобразие латинской
формы, ни шаблонность эпитетов не мешают самому главному.
В «Фацетиях» и типы и образы резко запоминаются.
Выпуклость их создается не эпитетом, а либо диалогом, который
при всей лаконичности дает представление об особенностях
человека, либо выразительностью эпического приема. Поджо
умеет рассказать эпизод так, что всякие эпитеты, особенно
отрицательные, становятся излишни, и, если бы он был
настоящим художником, он бы это понял. Но Поджо не
художник. Он стилист. Это определяет своеобразие «Фацетий».
Поджо вовсе не собирается протягивать руку к лавровому венку
Боккаччо. Он пробует новый стиль, сообразно той особой
задаче, которую он себе поставил. У него цель вполне
определенная. Он хочет забавлять. Он насмехается над
пороками и недостатками, и хотя у многих фацетий имеется
морализирующая концовка, представляющая иногда изящный
латинский афоризм, но всегда шаблонная и скучная по
содержанию и часто совершенно ненужная, стремится он не
исправлять нравы, а смешить. Этой цели он достигает вполне,
ибо в эту точку бьет у него все – и типы, и ситуации, и диалог.
Жертвы его сатиры – те же персонажи, что и в новелле,
представители классов и профессий, которые враждебны или
неприятны буржуазии: рыцари, крестьяне, чиновники и
духовенство. Но коллекция духовных лиц у Поджо гораздо
богаче, чем в новелле. Кроме монахов всех орденов и
священников папский секретарь сделал предметом смеха многих
высших представителей церкви. Епископы и кардиналы,
антипапы и папы – если, конечно, папа уже умер – так же
37
остроумно и порою беспощадно высмеиваются, как последний
крестьянин. И самая вера католическая, которой служит вся эта
разноцветная рать «лицемеров», подвергается поношению без
всякой сдержки. Обряды и таинства церкви, над которыми
гримасничают, не ощущая никакого благоговения, божье имя,
всуе упоминаемое, явные насмешки над богом, у которого «мало
друзей», глумление над реликвиями и их происхождением никак
не вяжутся с представлением о Поджо как о человеке глубоко и
искренне религиозном. Недаром в эпоху католической реакции
«Фацетии» в числе других книг, «вредных» по содержанию,
обновили папский Индекс. И недаром даже за границей через
сто лет после «Фацетии» имя их автора в устах защитников
католической религии было синонимом безбожника 10.
Инквизиторы понимали в этих вещах толк. Лишь почти
неограниченная свобода слова, царившая при широком и
просвещенном папе Николае V, дала возможность «Фацетиям»
получить распространение и завоевать популярность. Папа и
сам охотно читал книгу своего друга, весело над ней смеялся и
не находил в ней ничего предосудительного. И читали ее все
современники, знавшие по-латыни, – а кто тогда не знал латыни
в кругах сколько-нибудь зажиточной буржуазии! И читали в
подлиннике или в переводах люди следующих поколений. И
читают сейчас. И будут читать 11.
10 В эпоху религиозных войн во Франции в 1549 году монах из монастыря
Фонтевро, Габриэль де Пюи Эрбо, один из публицистов воинствующего
католичества, обвинял Боккаччо, Поджо, Полициано, Помпонио Лето, Клемана
Маро и Рабле в том, что они хотели восстановить язычество.
11 К сожалению, я совершенно лишен возможности сколько-нибудь
обстоятельно коснуться интереснейшего вопроса о литературном наследии
«Фацетии». Влияние книги сказалось очень быстро. Уже немного лет спустя
Мазуччо превратил в новеллу фацетию «Исподни минорита», и можно сказать с
уверенностью, что не было с тех пор в литературе Ренессанса ни одного
сборника новелл или фацетий, которые не использовали бы материала Поджо. И
в Италии, например в «Дневнике» Полициано, приписывавшемся раньше
Лодовико Доменико, и за Альпами, например в «Фацетиях» Генриха Бебеля, и
где угодно – всюду фигурируют понемногу сюжеты и персонажи Поджо. Даже в
Россию дошли через Польшу отклики нашей веселой книжки. О них могли бы
рассказать многое исследователи русской беллетристики XVI–XVII веков. И
потом, сколько раз сюжеты Поджо превращаются из материала, художественно
обработанного крупнейшими мастерами (Рабле, Лафонтен), в беззаботно
мигрирующий фольклор. И возвращаются в литературу обратно. Вопрос,
который тоже ждет своего исследователя.
38
X
В заключение несколько слов о переводе. Переводчик ни в
чем не старался сгладить стилистическую монотонность
«Фацетий» там, где она есть. Бесконечное, надоедливое
повторение эпитетов осталось в неприкосновенном виде.
Неуклюже сопровождающие диалог глаголы: «сказал»,
«говорил», «говорит», «начал», «стал» – нетронуты. Читатель
будет постоянно на них спотыкаться. Но что делать! Это –
Поджо.
Сглаживать и смягчать поневоле пришлось в другом.
Эротические места иногда совершенно непередаваемы. Ведь
есть фацетии, где главное действующее лицо – анатомический
термин. И таких несколько. Эту голую анатомию пришлось
одевать настолько, чтобы придать ей по крайней мере вид
двусмысленности или вуалировать так, чтобы отнять у нее ее
драстическую ясность. Там, где анатомические герои и героини
не принимают непосредственного участия, дело казалось проще
и смягчение, думается, достигалось легче. В XV веке все эти
вещи, не моргнув, проглатывали как папы, так и молодые
девушки, потому что все относились к ним просто. Теперь от
них приходится ограждать человечество без различия пола,
возраста и профессии. Времена меняются.
Но главное, конечно, было не в этом. Главное заключалось в
том, чтобы передать дух латыни Поджо. Ведь несмотря на
заявление о том, что риторические украшения не годятся для
«низменных» сюжетов, гуманистические привычки взяли свое и
риторики в «Фацетиях» оказалось сколько угодно. Длинными
цицероновскими периодами с обильными, замысловато
подчиненными и соподчиненными придаточными
предложениями Поджо любит начинать фацетию, если она не
очень коротенькая. Но и в середине иной раз в нем вспыхивает
темперамент стилиста и начинает плавно литься цветистая
закругленная речь. Если же ему нужно ускорить рассказ, он
уснащает его стремительно скачущими одно за другим
предложениями в praesens historicum, и это дает (например, в
фацетии «Исподни минорита») великолепный «ораторский»
эффект.
И чередование мест простых по стилю с местами, где идет
стиль «украшенный», создает своеобразный затейливый ритм,
порою очень заметный. А иногда сугубо упрощенный народный
39
стиль, в котором старик Плавт помогает разговаривать
феррарским прачкам и придорожным трактирщикам из Романьи,
врывается неожиданно, чтобы произвести особый эффект.
Всем этим вещам переводчик старался найти на русском
языке адекватное выражение, и не ему судить, насколько это ему
удалось.
Так как настоящий перевод представляет собою первую
попытку, то переводчик надеется, что к недочетам его работы,
которых, конечно, наберется немало, отношение будет не
чрезмерно строгое.
40

Фацеции
Предисловие
О том, чтобы завистники не осуждали «Фацеции» вследствие
недостатка красноречия
Мне думается, что будет много людей, которые станут
осуждать эти наши рассказики как за их легкомыслие и за то,
что они недостойны серьезного человека, так и за то, что они
хотели бы видеть в них больше словесных украшений и больше
красноречия. Если я им отвечу, что мне приходилось читать о
том, что наши предки, люди благоразумные и ученые, находили
удовольствие в шутках, играх и побасенках и что за это они
получали не упреки, а похвалу, – мне кажется, я сделаю
достаточно, чтобы заслужить уважение своих критиков. Ибо
какой упрек могу я навлечь на себя за то, что я подражал нашим
предкам в этом, если даже не мог подражать им в другом, и
провожу время, занимаясь писанием, между тем как другие
тратят его в дружеских собраниях и кружках, особенно если мой
труд не является чем-нибудь предосудительным и может
доставить некоторое удовольствие читателям. Ибо вещь
почтенная и почти необходимая, – и люди ученые это одобряют,
– когда мы стараемся свой ум, обремененный разными мыслями
и огорчениями, отвлечь от постоянных забот и направить его с
помощью какой-нибудь шутки на отдых и на веселье. А
стараться вносить красноречие в вещи низменные или в такие, в
которых шутка или чужие слова должны быть схвачены на лету,
41
было бы слишком скучно. Такие вещи нельзя излагать
украшенным стилем. Их нужно передавать так, как они были
сказаны лицами, которые действуют в рассказах.
Некоторые, может быть, подумают, что я стараюсь
оправдаться вследствие недочетов ума. Я согласен. Пусть люди,
которые держатся этого мнения, пересказывают эти мои
рассказы более гладким и более украшенным стилем. Я их
прошу об этом. Этим они обогатят латинский язык в наш век и
сделают его способным передавать сюжеты более легкие.
Упражнение в таких писаниях принесет пользу в деле изучения
красноречия. Что касается меня, то я хотел попробовать,
возможно ли выразить на латинском языке – и не очень
нескладно – многое такое, что считается трудным для передачи
по-латыни и что не требует никаких украшений, никакого
ораторского пафоса. Я буду доволен, если покажется, что я
рассказываю не очень неискусно.
Вообще, пусть лучше воздержатся от чтения моих
рассказиков, – так мне хочется их назвать, – те, которые
представляются чересчур строгими цензорами или чересчур
суровыми ценителями. Я хочу, чтобы меня читали люди легкого
ума, доступные веселью, как читали в древности Луцилия
козентинцы и тарентинцы. Если у моих читателей вкусы
окажутся более грубыми, я не мешаю им думать, что они хотят.
Лишь бы они не обвиняли автора, который написал все это,
чтобы дать отдых своему духу и упражнение своему уму.
42


I
Об одном бедном матросе из Гаэты
Тe жители Гаэты, которые принадлежат к
народу, стараются заработать себе на
существование морским промыслом. Один из
них, очень бедный матрос, в течение пяти лет
пробыл в море в поисках заработка. Дома у него оставались
молодая жена и очень скудная обстановка. Когда он вернулся на
родину, то, едва сойдя на берег, поспешил домой, чтобы увидеть
жену. А она за это время, отчаявшись вновь увидеть своего
мужа, сошлась с другим. Войдя в дом, моряк замечает во многих
местах переделки. Дом стал как будто больше и лучше.
Удивленный, он спрашивает жену, каким образом их жалкий
домишко приобрел такой нарядный вид. Жена тотчас же
отвечает, что ей во всем помог бог, всем помогающий.
«Благословен будь бог, – сказал муж, – за то добро, которое он
нам сделал». Потом он видит спальную комнату, в ней нарядnoe
ложе и другие вещи, более богатые, чем это позволяло
состояние жены, и снова спросил, откуда все это. Жена
43
отвечала: «Милостью божией». И снова муж благодарит бога,
который был так щедр к нему. Тут ему бросаются в глаза
несколько других предметов, которые кажутся ему новыми и
непривычными для его дома. Жена опять объясняет это
щедростью бога. Пока муж удивлялся изобилию божьей к нему
милости, вбегает хорошенький мальчик лет трех и начинает
ласкаться к матери, как это делают дети. Увидев ребенка, муж
спросил, чей он. И жена ответила, что ее. Удивленный моряк
захотел узнать, каким образом в его отсутствие появился
ребенок. Жена стала уверять, что и в этом случае все произошло
милостью божией. Тогда муж в негодовании оттого, что милость
божия изливается на него в столь великом изобилии, что даже
родятся дети, сказал: «Очевидно, я должен очень благодарить
бога за то, что он так хорошо позаботился о моих делах». Ему
казалось, что божьи заботы зашли слишком далеко, раз в его
отсутствие стали появляться дети.
II
О враче, который лечил слабоумных и
безумных
Мы разговаривали о бессмысленных заботах, – чтобы не
сказать: о глупости, – тех, которые держат собак и соколов для
охоты на птиц. Тогда Паоло из Флоренции сказал: «Поделом
смеялся над ними безумный из Милана». Мы стали просить его
рассказать историю. Он начал: «Был некогда в Милане врач,
который пользовал слабоумных и безумных и брался вылечивать
пациентов, порученных его заботам, в определенный срок. А
лечение его было такое: в его доме был двор, а в этом Дворе яма
с грязной, вонючей водой. Сумасшедших, которых к нему
приводили, он сажал голыми в эту лужу и привязывал к столбу.
Одни погружались до колен, другие До подмышек, некоторые
еще глубже, смотря по характеру болезни. Он гноил их
голодными в воде до тех пор, пока они не казались
выздоровевшими. Между другими к нему привели однажды
безумного, которого он погрузил в воду до бедер и который
через две недели начал приходить в себя и стал просить врача,
чтобы он извлек его из воды. Тот избавил его от мук, с тем,
однако, условием, чтобы он не выходил за пределы двора.
Больной повиновался. Через несколько дней он ему позволил
44
ходить по всему дому, с тем, чтобы он не переступал порога
двери, выходящей на улицу. Остальные его товарищи, которых
было много, продолжали оставаться в яме. Больной строго
подчинялся указаниям врача.
Однажды, когда он стоял на пороге двери и не решался
выйти на улицу из страха перед ямою, мимо дома проезжал
молодой всадник с соколом на руке и двумя собаками из породы
тех, которые зовутся охотничьими. Больной стал звать его к
себе. Ему все казалось новым, ибо он не помнил уже того, что
видел раньше, пока был болен. Когда молодой человек подъехал,
безумный ему сказал: «Эй, послушай минутку, прошу тебя:
объясни, пожалуйста, что за штука, на которой ты едешь, и для
чего она тебе?» – «Это лошадь, – отвечал тот. – На ней я езжу на
охоту». – «А то, что ты держишь на руке, как это называется и
для чего оно?» – «Это сокол, он обучен охоте на перепелок и
куропаток». – «А те, что за тобой бегут, что за звери и что они
делают?» – «Собаки, они обучены выслеживать птиц на охоте».
– «А те птицы, для охоты на которых понадобилось столько
вещей, какова им цена, если подсчитать все, что ты добываешь
охотою за год?» – «А я не знаю, – ответил юноша, – думаю, что
не больше шести дукатов». – «А сколько стоит лошадь, собаки и
сокол?» – «Дукатов пятьдесят». Тогда, удивленный глупостью
молодого охотника, безумец воскликнул: «О, уходи скорее,
прошу тебя, беги, пока не вернулся домой наш доктор. Потому
что, если он найдет тебя тут, он сочтет тебя за самого большого
безумца из всех людей и, чтобы тебя вылечить, посадит в лужу,
где сидят остальные больные, и вдобавок в самое глубокое
место, так что ты будешь погружен по самый подбородок».
Этим он хотел показать, что охота самое большое безумие.
Только изредка для людей богатых она может служить телесным
упражнением».
III
О Боначчо деи Гуаски, который вставал
поздно
Боначчо, остроумный молодой человек из фамилии Гуаски,
который был вместе с нами в Констанце, вставал с постели
очень поздно. Когда его товарищи упрекали его за лень и
спрашивали, что он делает так долго в постели, он отвечал им,
45
улыбаясь: «Я слушаю судебное состязание. Каждое утро, как
только я просыпаюсь, ко мне являются две фигуры в женском
одеянии – Прилежание и Лень. Одна убеждает меня вставать,
работать, не терять моего дня в постели. Другая ей возражает и
уговаривает меня оставаться в тепле моего ложа, ибо на дворе
сильный холод, телу нужно давать покой и невозможно все
время работать. Первая вновь излагает свои доводы. Пока они
все спорят и пререкаются, я, как беспристрастный судья, не
склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Я слушаю их спор и
жду, пока они придут к согласию. Вот почему я встаю поздно: я
жду конца спора».
IV
О еврее, которого убедили принять
христианство
Одного еврея уговаривали обратиться в христианскую веру,
но он не мог решиться расстаться со своим имуществом.
«Отдайте его бедным, – говорили ему, – ибо, согласно
евангельскому слову, которое есть истина, вам воздастся во сто
крат». В конце концов он дал себя убедить, принял христианство
и роздал свое имущество нищим. После этого в течение месяца
то один, то другой из христиан наперерыв звали его к себе.
Всюду его ласкали и хвалили за то, что он сделал. А он, живя
изо дня в день, все ждал, когда, согласно обещанию, ему
воздастся сторицею. Скоро людям надоело кормить его,
приглашения становились редки, и он дошел до такого жалкого
состояния, что ему пришлось обратиться в какой-то приют. Там
он заболел кровотечениями из задней части, которые довели его
до последней степени истощения. Он потерял надежду на
излечение, а также и на то, что ему когда-нибудь воздастся во
сто крат. Однажды, когда болезненные ощущения гнали его на
воздух, он встал с постели и отправился на соседний лужок,
чтобы облегчить себе желудок. Удовлетворив нужду, он
принялся искать кругом пучок травы, чтобы утереть себе зад, и
случайно наткнулся рукой на сверток из материи, полный
драгоценных камней. Разбогатев, он обратился за советом к
врачам, выздоровел, купил себе дом, имение и зажил с тех пор в
величайшем довольстве. И все ему говорили: «Ну вот, разве мы
не правильно предсказывали тебе, что господь воздаст тебе во
46
сто крат?» – «Воздать воздал, – отвечал тот, – но перед этим он
допустил, чтобы я изошел кровью через зад чуть не до
последнего издыхания». Это говорится о тех, кто медленно
оказывает благодеяние или медленно отплачивает за сделанное
ему добро.
V
Епископ верхом
Я шел однажды в папский дворец. Тут же проезжал верхом
один из наших епископов и, по-видимому, погруженный в
заботы, не заметил, как кто-то обнажил голову, чтобы его
приветствовать. А тот решил, что это было сделано из гордости
или высокомерия. «Этот, – сказал он, – не оставляет половины
своего осла дома. Он тащит его с собою целиком». Он хотел
этим сказать, что только ослы не отвечают на приветствия.
VI
Замечание Цуккаро
Однажды Цуккаро, остроумнейший человек на свете, и я
проезжали через какой-то город и попали в место, где
справлялась свадьба. Это было на другой день после того, как
молодая вступила под супружеский кров. Мы остановились на
некоторое время, чтобы посмотреть, как танцуют мужчины и
женщины. Тогда Цуккаро сказал, смеясь: «Тут совершилось
сочетание, а у меня уже давно расточение» 12. Это была шутка на
его собственный счет, ибо он, распродав отцовское имущество,
растратил его в пирах и в игре.
VII
Об одном подесте
Некий подеста 13, посланный во Флоренцию, в день своего
приезда собрал почетных людей города в соборе и произнес им
12 Здесь в оригинале непереводимый каламбур: «matrimonium consumarunt,
ego jam patrimonium consumpsi», то есть «тут брак совершили фактически (жена
ведь провела ночь под супружеским кровом), а я растратил имущество».
47
обычную речь, длинную и скучную. Чтобы поднять свое
значение, он начал с того, что был сенатором в Риме. Все, что он
там делал, все, что другие делали и говорили для его
прославления, было очень пространно изложено. После этого он
подробно рассказал о своем отъезде из Рима и о своей свите, о
пути; что в первый день он доехал до Сутри, причем было
передано очень подробно, что он там делал. Дальше следовало
повествование день за днем, куда он приезжал, где его
принимали, что им было совершено. Говорил он несколько
часов и еще не добрался до Сиены. Все были в полном
изнеможении от этого бесконечного и невыносимого
перечисления. Конца не было видно, и казалось, что весь день
пройдет в этих россказнях. Приближалась ночь. Тогда один из
присутствующих, наклонившись к уху подесты, сказал ему
шутки ради: «Господин, час поздний, ускорьте ваше
путешествие. Ибо если сегодня вы не вступите во Флоренцию,
бы потеряете должность, потому что вы должны приступить к
исполнению ваших обязанностей сегодня». Услышав это,
подеста, глупый и многоречивый, сказал наконец, что он прибыл
во Флоренцию.
VIII
О жене, которая обманула своего мужа
Пьетро, мой земляк, рассказал мне однажды забавную
историю, которая рисует очень хорошо женскую хитрость. У
него были делишки с женою крестьянина, не очень умного,
который часто проводил ночь в поле, чтобы избежать своих
кредиторов. Однажды, когда Пьетро был с его женой, в сумерках
явился муж, которого не ждали. Женщина быстро спрятала
любовника под постель и обратившись к мужу, принялась
бранить его за то, что он пришел: «Неужели ты хочешь попасть
в тюрьму? Только что люди подесты обыскали весь дом, чтобы
найти тебя и увести в тюрьму. Я им сказала, что ты обыкновение
13 Подеста – должность, появившаяся во второй половине XII века в очень
многих городах северной и средней Италии. Она характеризует так называемое
«второе устройство» итальянских городов. Первые подесты были посажены в
Ломбардии Фридрихом Барбароссою. Позднее должность эта стала выборною.
На нее избирался на полугодовой срок непременно чужеземец. Подесте
принадлежала высшая судебная и военная власть в городе.
48
проводишь ночь вне дома. Они ушли, но обещали скоро
вернуться». Крестьянин, испуганный, попробовал убежать, но
городские ворота уже были закрыты. Тогда жена сказала ему:
«Что ты делаешь, несчастный! Если ты попадешься, все будет
кончено». И когда он, дрожа, просил совета у жены, она сказала,
скорая на хитрую выдумку: «Полезай в эту голубятню. Ты там
пробудешь ночь, я запру дверь снаружи и уберу лестницу.
Никому не придет в голову, что ты там». Он последовал совету
жены. Она заперла дверь, чтобы муж не мог выйти, убрала
лестницу и вывела из убежища любовника, который стал








