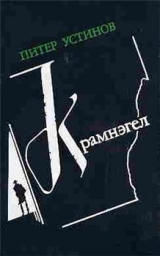
Текст книги "Крамнэгел"
Автор книги: Питер Устинов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Вы хотите знать, что сказал мне тот старикашка? – спросил Крамнэгел.
– Что ж, я помню, как он обозвал демократию гнилым орехом.
– И что же, по-вашему, он хотел этим сказать? – осведомился Крэмп.
– А разве и так не ясно? – Крамнэгел набычился, не веря собственным ушам.
– Я хотел бы знать, как истолковали его слова именно вы.
– По-моему, он хотел сказать, что демократия окочурилась, что демократия обделалась, что демократия – выжатый лимон. Продолжать или хватит?
– Делал ли он какие-либо специфические антиамериканские заявления?
– А то нет! Он заявил, что Соединенные Штаты вторгались в Россию. Заявил, что нам нечего делать во Вьетнаме. Заявил, что он – коммунист. – Но здесь Крамнэгел запнулся. Он вдруг понял, что все это звучит не очень-то провокационно. И сменил тон.
– Дело не в том, что, а в том, как говорил, вы уж мне поверьте. Да он просто издевался и все пытался меня уесть, ясно, нет? У нас дома всегда предупреждают и дипломатов и военных, что в некоторых зарубежных странах, где, значит, люди нам здорово завидуют, такие вещи часто случаются. Перед отъездом за границу у нас даже брошюрки такие выдают, вроде «Как быть хорошим американцем за границей». Там сказано: «Помните, что каждый гражданин является таким же послом нашей страны, как и любой аккредитованный посол США». Именно так и сказано, я сам видел такую брошюрку, и я, значит, изо всех сил старался делать то, что там рекомендуется, только, видно, так уж люди устроены, – стоило мне услышать, как поносят мою страну, да еще кто? – человек, открыто признавшийся, что состоит членом коммунистической партии… и при этом еще и атеист – да, вот еще, он к тому же атеист: мол, на бога и на молитвы у него нет времени, прямо так при всех и заявил! – Крамнэгел понизил голос, как нашкодивший ребенок. – Ну а тут еще виски с пивом и незнакомая обстановка… да просто отсутствие должного самоконтроля – вот и все дела… Так что, когда старик сунулся в карман, я и подумать толком не успел: у нас ведь в полиции, пока не дослужишься до руководящей работы, все время приходится заниматься огневой подготовкой, но я, даже когда стал начальником полиции, все равно ее не бросил, до сих пор раза два в неделю хожу в спортзал, чтоб, значит, сохранять форму, и в тир хожу обязательно, может, я и впрямь чересчур активен для своего положения – кто знает… Ну, в общем, как я увидел, что тот старик лезет в карман за пушкой – я ведь честно думал, что за пушкой, – ну, я и не стал колебаться.
– Во дает!.. – пробормотал Батт О'Фехи.
– О Батт, он может быть таким великолепным! – проворковала Эди. – Я так люблю его!
– Знаю, милая, знаю.
– И такое с вами случилось впервые в жизни? – спросил Крэмп.
– Нет, сэр, – отвечал Крамнэгел.
Судья выпучил глаза и наклонился вперед.
– Не будете ли вы любезны изложить суду обстоятельства, при которых имело место предыдущее происшествие подобного рода? – попросил Крэмп.
– Пожалуйста… Дело было в конце сороковых… в сорок восьмом – сорок девятом, где-то в этом районе… Я, значит, дежурил по участку в деловой части нашего города, а там тогда жуть что творилось… Ну, знаете, ребята из армии возвращались, обученные убивать, а тут ночью податься некуда, днем скучища… ну и мы, конечно, начеку. И вот, значит, на углу Монмут и Седьмой, где ювелирный магазин Зиглера – он там и теперь стоит, – вижу, молодой парень лет двадцати, светловолосый и коротко остриженный, пулей вылетает из двери магазина и бежит по тротуару. Я ведь таких случаев в кино сколько угодно видел, публика тоже – поэтому уже и начала терять к нам доверие. Я и подумать не успел, как револьвер оказался у меня в руке и начал плевать свинцом, а этот юноша – Касс Чокбэрнер его звали, по гроб не забуду – уже лежит на тротуаре метрах в десяти от собственных мозгов. Вот, кажется, и все.
– Он ограбил ювелирную лавку? – спросил судья с жадностью ребенка, слушающего сказку на ночь.
Как было бы легко и приятно ответить «да»!
– Нет, сэр, не ограбил. Он… – Крамнэгел запнулся. Касс Чокбэрнер и старый Джок начали сливаться в его мозгу воедино, в один тяжкий крест, который теперь не снимешь с плеч. – Он только… только обручился, сэр… ваша честь… и просто зашел в лавку купить к свадьбе кольцо, сэр… У него был отличный послужной список, и он собирался жениться на прекрасной девушке… А я его убил, ваша честь.
Зал суда замер. Столь простодушно обвиняя себя, Крамнэгел выглядел не менее достойно, чем Дрейфус, даже еще достойнее, ибо тот всего лишь проявил стойкость, тогда как Крамнэгелу представилась возможность изложить свою вину, хладнокровно ее при этом приуменьшив. И, правильно уловив чутьем момент и обстановку, он не преминул этой возможностью воспользоваться.
Тишину нарушил Крэмп:
– Не будете ли вы добры сообщить суду о последствиях ваших действий?
– Никаких последствий не было, сэр.
– Никаких? – не веря своим ушам, переспросил судья.
– И суда не было?
– Нет, ваша честь, не было.
– Почему?
– Расследование, конечно, имело место.
– Не было суда, несмотря на то, что поведение вашей жертвы не давало вам ни малейшего повода стрелять?
– Не было, сэр. Как я уже сказал, имело место расследование.
– И каков же был его результат?
– Я получил выговор, ваша честь, но я помню, что тогдашний начальник полиции – Ритчи Маккэррон, прекрасный человек и отличный полицейский, просто отличный – вызвал меня к себе в кабинет, и я решил, что сейчас-то меня мордой об стол… думал, так врежут, что захочется мне лучше помереть вместо того парня. А начальник мне сказал – цитирую, насколько точно помню: «Барт, – сказал начальник, – на том, что ты натворил, и погореть недолго, но я не собираюсь полоскать тебе мозги – хоть бессмысленной пальбы я не люблю: мы в городе ее не потерпим – это одна сторона вопроса, а теперь, когда с этим ясно, хочу тебе сказать: на твоем месте я поступил бы точно так же. С каждым постовым это разок-другой случается, и я такому полицейскому доверяю больше, чем человеку, который никогда нигде не оступится. Это все, конечно, строго между нами», – говорит он и угощает меня сигарой. Сигара была зеленая, я к таким не привык, и меня стошнило. А в следующем же списке на повышение была моя фамилия.
– Не хотите ли вы сказать, – заметил судья дребезжащим голосом, – что сейчас с вами и произошла вторая из тех ошибок, которые каждый стоящий полицейский рано или поздно должен совершить?
– Я ничего такого не хотел сказать, ваша честь, – покорно ответил Крамнэгел. – Я, значит, просто рассказал про то, что было, как меня просили.
Судья счел за лучшее объявить перерыв на обед.
8
В маленьком захолустном городке не так-то просто пообедать в день ярмарки, если не заказать места заранее. Сэр Невилл это предвидел и сейчас пробирался к своему месту сквозь толпу фермеров у стойки бара. Уже получив желанные стаканы с выпивкой и держа их над головой, они с грубоватой деликатностью прокладывали себе путь к столикам, громко сообщая друзьям об удачно выполненной наконец миссии. В этом водовороте сэр Невилл внезапно столкнулся лицом к лицу с сэром Аароном, и, словно два мореплавателя, потерпевших кораблекрушение в бурном море, они заговорили, насколько позволял рев стихии.
– Начал он просто катастрофически, но к концу собрался и, по-моему, финишировал весьма солидно. Занятный тип. Совсем из иного мира. Ведь из иного, а?
– Вы заслуживаете величайшей признательности, – отвечал сэр Невилл, которого толкали со всех сторон. – Ведь даже в предусмотренных законом границах вы могли бы допрашивать его намного жестче.
– Делаем, что можем. Но я согласен с вами, главный прокурор: мы не способны его судить. Довольно скоро неизбежно начинаешь задавать себе вопрос: а кого мы вообще способны судить? Вот какую реакцию вызывает парень вроде нашего американского гостя.
– Как, по-вашему, идет процесс?
– Если бы судьей был я, он шел бы вполне прилично. Иногда бывает полезно произвести два столь разных впечатления, какие произвел на суд Крамнэгел… Не знаю, право… Все теперь зависит от старика Плантагенета-Уильямса.
Прибой вынес к ним Элбертса, тот услышал их разговор. Теперь он проследовал за сэром Невиллом в обеденный зал. Они миновали Крэмпа, приютившегося подле стены. Упершись рукой в стену и не давая толпе вдавить себя в Крэмпа, сэр Невилл спросил защитника, чем, по его мнению, может кончиться процесс.
– Не имею ни малейшего представления. Воевать с гуннами куда легче, чем защищать янки. Это все равно что выбивать правду из ребенка: он беспредельно простодушен и всю работу делает сам. Но потом вдруг попадается узелок в веревочке, и он застопоривается на какой-то ужасной ерунде. Он показался мне конченым, когда пытался защищаться, хотя бы потому, что в его положении все равно не победишь, а только произведешь плохое впечатление, – мы-то все это знаем, а ему, к сожалению, пришлось это познать на опыте. С другой стороны, когда он начал объяснять, то был просто великолепен. Просто великолепен! Благороден, как древний римлянин. Не пойму даже, что на него нашло.
– Очевидно, при всей разнице в наших проблемах и традициях человек, поднявшийся до его положения в обществе, должен все же иметь какие-то хорошие качества.
– Это верно, но я ожидал от него большего.
– Тоже правильно. А каковы ваши предположения?
– Старик Плантагенет-Уильямс не выдает своего мнения. Сидит – неприступный, как айсберг. Не знаю, право. – Крэмп хитро улыбнулся. – Не ожидал я вас здесь встретить, главный прокурор. Неужели дело настолько захватывающее?
– Если я скажу, что просто случайно проезжал мимо, вы ведь все равно не поверите. Вы беседовали с сэром Аароном?
– О, да, в туалете. Старый адвокатский трюк. К сожалению, в здешнем туалете три кабинки – я его знаю издавна, – и кабинку номер три занял представитель «Дейли мейл». Правда, через четверть часа ему пришлось капитулировать перед натиском; нас же с сэром Аароном тревожить не решились, поскольку мы люди чересчур почтенные, так что нам удалось перемолвиться словцом. Наши мнения во многом совпадают.
Сэр Невилл был вынужден пригласить Элбертса составить компанию, поскольку тому некуда было деваться, но сэру Невиллу удалось получить лишь крохотный столик – и то лишь в награду за свою предусмотрительность. Удовольствия от проявленной любезности он не получил, ибо Элбертс с его несколько ядовитой изысканностью и повадками всезнайки отнюдь не принадлежал к тому разряду заморских обитателей, которым сэр Невилл мог симпатизировать.
– Да, – начал Элбертс, – с каждым днем я все больше восхищаюсь величием и красотой вашей замечательной страны.
– Очень любезно с вашей стороны, право, – пробормотал в ответ сэр Невилл.
Столь поразительно щедрая лесть казалась наиболее подходящей стрелой для ахиллесовой пяты англичан. Сэр Невилл с куда большим удовольствием предпочел бы отбиваться от какой-нибудь вполне обоснованной критики. Здесь он себя чувствовал на привычной почве. Он сам был настолько полон критицизма, что знал все щелочки в броне и умел в зависимости от желания либо защищаться, либо атаковать.
– Я мог бы получить никому не нужное повышение по службе и стать советником на острове Маврикий или культурным атташе в каком-нибудь Мали, но я предпочел остаться в Лондоне. Я просто с наслаждением – не могу подобрать иного слова – окунаюсь в британский образ жизни, – продолжал Элбертс.
– Что вы говорите!
– Да, да. Конечно, музей Гуггенхейма или Музей современного искусства, возможно, обладают лучшими коллекциями, но где там душа? – Он энергично покачал головой и сам ответил на собственный вопрос: – Нет, мне уж лучше подавайте старушку галерею Тейт с ее паршивым освещением и некоторыми сомнительными шедеврами. – Элбертс постучал себя в грудь двумя пальцами. – Душа, – повторил он. – Она хотя и неохотно, а все-таки присутствует в каждой артерии британской жизни.
Сэр Невилл встревожился. Слова Элбертса произвели на него довольно приятное впечатление, но как-то огорчительно слышать справедливые замечания из уст человека, которому ты уже решил не симпатизировать. В своем роде Элбертс оказывался столь же непонятным, сколь и Крамнэгел. Странные все-таки люди эти американцы.
– Какое впечатление производит на вас процесс? – осведомился сэр Невилл.
– Именно такое, как я только что объяснил. Хотел бы я знать, насколько к этому всему причастны лично вы, сэр Невилл.
– Абсолютно ни насколько. Я к этому процессу не причастен совсем, – отрезал сэр Невилл.
– Вот это и замечательно. Нет никакой возможности открыто признать, что Крамнэгел идиот, не развязав при этом мешок с неприятностями, и все же то, что дело носит ненормальный характер, явственно звучит в каждом вопросе обвинителя и судьи. Если бы все эти нюансы можно было выразить словами, то самым подходящим словом было бы «сговор», ибо во всей атмосфере процесса чувствуется понимание того, что перед судом очутился недоумок, действовавший в момент стресса под влиянием своего замутненного сознания, – человек, которого можно судить лишь по его собственным меркам. Я ощущал эту атмосферу так сильно, что просто был потрясен, услышав, как обвинитель облек мои мысли в слова. Меня это потрясло, потому что в подобном выступлении не было необходимости. Ведь суд и так все уже понял.
– Суд-то, возможно, и понял, но понял ли судья? Вот что нас сейчас тревожит.
– О, разумеется.
– Вы думаете, Крамнэгелу удастся выкрутиться?
– Думаю, есть шансы. Другой вопрос – думаю ли я, что он того заслуживает.
– И что же?
– Думаю, нет.
Сэр Невилл поднял брови.
– Оригинальная точка зрения. Почему же нет?
Улыбка Элбертса получилась мрачноватая, как у человека, знающего, что придется отстаивать заведомо непопулярную точку зрения.
– Не знаю, право, как начать, сэр Невилл. У нас дома сейчас очень много говорят о расизме.
– Как и везде.
– Верно, как и везде. Обычно расизм воспринимается как производное от весьма жестких оценок, базирующихся лишь на цвете кожи. Черные, белые, желтые и краснокожие. Нечто вроде грубой и зловещей игры, в которую, увы, могут играть все, кому не лень. Но расизм – не только это. Я твердо придерживаюсь мнения – это мое убеждение, от которого я ни при каких обстоятельствах не откажусь, – что Америка держится на английских корнях. И полагаю, между тем, что дала Америке Англия и что дала ей Германия, что дали ей Ирландия, и Италия, и евреи, и Швеция, и Голландия, и Япония, такая же разница, как между тем, что дала ей любая из этих стран, и тем, что ей дали негры. Иными словами, между белыми существуют такие же острые расовые противоречия и трения, как и между черными и белыми, особенно если учесть, что мы страдаем привычкой оценивать черных, исходя не из их специфических качеств, а лишь исходя из способности или неспособности выполнять работу белого. Расист, который считает, что из негра не выйдет такого же хорошего полицейского, как из ирландца, не просто белый расист, а ирландский расист, поскольку с таким же предубеждением ирландец относится и к армянам и к пуэрториканцам. В полиции терпимо относятся ко всем национальностям, потому что это демократично и по-американски, но эта терпимость лишь обостряет потаенные предубеждения, из которых и произрастают всякого рода идиотские побасенки, принимаемые всеми на веру, если они достаточно хлесткие, – это тоже демократично, тоже по-американски и все такое прочее. Мы любим говорить о драчливости ирландцев, почему-то мы миримся с драчливостью ирландцев, но ни секунды не потерпим драчливого ливанца. То, что в одном рассматривается как здоровый бойцовский дух, в другом будет рассматриваться как зловещая склонность к насилию и поножовщине. Мы любим говорить о еврейском юморе, но кто когда-либо слышал о финском юморе или о назиданиях турецких мамаш?
– Возможно, у турок просто нет такого института мамаш?
– Есть, и еще какой! Я ведь там работал, и, доложу я вам, сыновняя почтительность у турок – это нечто чудовищное. У каждого хоть мало-мальски стоящего турецкого генерала обязательно есть свирепая мамаша годков эдак под сто.
– Из того, что мне известно о вашей стране – а известно мне позорно мало, – у меня сложилось впечатление, что вы всегда особенно широко открывали двери именно малым народам, которые на ваших берегах обретали свое второе «я»… В частности, я имею в виду ирландцев и евреев. Ведь у себя дома ирландцам не с кем драться, кроме как друг с другом, да иногда с англичанами. Вряд ли такая диета удовлетворит голодный кулак. И чтобы проявить себя подлинными ирландцами в той степени, как им бы хотелось, ирландцам пришлось перебраться в Америку. То же и с евреями. Они ведь больше умеют говорить, чем слушать, – это красною нитью проходит через всю их историю, – и, пожалуй, Иисус Христос не кончил бы так трагически, если бы евреи в его аудитории больше слушали и меньше говорили, а римляне – наоборот: больше говорили и меньше слушали. Так это или не так, но факт остается фактом: в Израиле, где у них нет другой аудитории, кроме арабов, евреям изощряться в своем юморе бесполезно. Их юмор требует более широкой публики, вот они и двинулись в Америку, чтобы всем проповедовать свое кисло-сладкое восприятие жизни. А вот такие меньшинства, как русские, имеют предостаточно местного колорита и у себя дома – от Достоевского до Сибири и обратно, – поэтому тем из них, кто прибыл в Америку, нет особой необходимости так уж держаться за свою специфику.
– Интересное утверждение, сэр Невилл, и все же это не совсем верно.
– Ничто не бывает «совсем верно», в противном случае не стало бы нужды в законах.
– И разговаривать тоже было бы не о чем.
– Вот именно.
Элбертс улыбнулся.
– С англичанином невозможно быть серьезным.
– С англичанами всегда можно быть серьезным, – строго поправил его сэр Невилл.
– Что действительно трудно – это быть глубокомысленным. Отсюда и Оскар Уайльд.
– Но он был ирландец.
– Однако писал об англичанах и для англичан.
Элбертс поиграл вилкой.
– Крамнэгел, – сказал он, – просто образец ограниченного провинциального деспота, который вечно болтает о правах и равных возможностях; помогает друзьям и гадит тем, кто не проявляет по отношению к нему должной почтительности; бьет ниже пояса, когда никто не видит; пускает слезу, глядя на флаг, не доверяет неграм, мексиканцам и евреям; любит поговорить о равенстве всех рас; носит зеленое в день святого Патрика [17]17
17 марта, в день святого Патрика, покровителя Ирландии, принято надевать что-либо зеленое.
[Закрыть]и излишне рьяно мажет лоб пеплом в черную среду. [18]18
Первый день великого поста в римско-католической и протестантских церквах.
[Закрыть]Он ничего не дает обществу, но зато много берет и мнит себя воплощением мужества, чистоты и благочестия.
Сэр Невилл рассмеялся.
– О боже, ну и изобразили же вы его! Ваш Крамнэгел (надеюсь, я выговариваю фамилию правильно) кажется мне одним из тех сентиментальных, бравых и безжалостных людей, которых сотрудник Скотленд-Ярда, занимавшийся им и ведущий его дело, причисляет к разряду «фельдфебелей». А вы ведь знаете, как ведет себя унтер, случись ему очутиться среди тех, кто, по его мнению, занимает более высокое положение в силу удачи или происхождения, – он начинает чваниться и из кожи вон лезет, пытаясь показать, что всем обязан только себе, не то что некоторые, которых он мог бы назвать. «Не то что некоторые» – это расхожая фраза унтеров. Подобная черта характерна для людей такого рода в любой стране, и мы способны распознать ее, как и вы. Я сразу вижу человека, приученного думать своей головой, он и думает своей головой, пытаясь угадать, каких мыслей ждут от него те, кто учил его думать; понимаете, о чем я? Этот человек получает власть и, прежде чем отдавать приказы, вспоминает, какие приказы получал сам, и отдает их соответственно как свои собственные. Возможно, я клевещу на него, а возможно, сужу, исходя из того, что мне известно о его английском эквиваленте. Поэтому причины, на основании которых вы его осуждаете, я не могу признать достаточно вескими. Нам нужны собаки, чтобы защищать наши дома, нам нужны люди, чтобы воевать на наших войнах. Мы, черт возьми, сами во всем виноваты. Иногда собака согрешит от избытка усердия и укусит хозяина. Иногда фельдфебель потеряет ориентировку и начнет воевать в пивной. Как я уже сказал, мы во всем виноваты сами. Хотели создать таких людей и создали их!
Элбертс прикрыл глаза, всем видом выражая благоговейную почтительность.
– Все это лишь укрепляет меня в высоком мнении о вашей стране.
– Что «это»? – теперь сэр Невилл рассердился.
– Разрази гром Генри Джеймса, его треклятый котелок и преклонение перед королевой… или тогда был король?
– Да то, что, невзирая на все приведенные доказательства и все эти игры в суде, вы умудряетесь сохранять подобное великодушие.
– Вы говорите, как отец-пилигрим, решивший первым воспользоваться обратным билетом.
– Именно таковым я и являюсь, хоть и ношу маску личного помощника генерального консула Соединенных Штатов, будучи по званию консулом первого ранга. – И Элбертс покачал головой над собственной шуткой, пряча от сэра Невилла взгляд.
Вслед за стремительным обменом репликами наступило молчание, во время которого сэр Невилл размышлял о судье. В вопросах общественных личное мнение в силу хрупкости ценится не слишком высоко. Как часто в театре он искренне наслаждался первым актом и в прекраснейшем настроении выходил в буфет, где общее мнение оказывалось куда более сдержанным. В итоге приходилось либо отстаивать свою точку зрения, либо малодушно уступать по ряду вопросов, чтобы не быть невежливым. Дискуссия в антракте неизбежно сказывалась на отношении по второму акту, чистота восприятия исчезала. В конце спектакля он аплодировал, если полученное удовольствие все же оправдывало подобное выражение восторга, иди же начинал лучше понимать ход мыслей других людей и покидал театр уже не таким расстроенным, а по большей части обеспокоенным самим собой. После этого все светские разговоры о той пьесе воспринимались как вдруг открывшаяся старая рана. Необходимость защищать ее или осуждать с помощью аргументов, которые пришли в голову не ему первому, утомляла. И он с удивительной быстротой забывал, что происходило на сцене, что вызывало тогда его восторг и заставляло ожесточенно спорить, и лишь повторял то, что говорил уже раньше. Так постепенно привычка подрывает память. Потому-то сэр Невилл, несмотря на частые приглашения, боялся театральных премьер как огня.
В юриспруденции же каждый процесс – премьера, избежать этого невозможно. И вот теперь, когда наступил антракт, он, сидя над деревенским пирогом и сосисками с пикулями, все пытался угадать, что там черкает на полях программки великий критик. Сэр Невилл окинул соседние столики быстрым взглядом. Разумеется, судьи Плантагенета-Уильямса оказаться здесь не могло, но сэр Невилл все равно поискал его глазами. Судья, наверное, заперся в своих покоях, чтобы оградить себя от давления извне и от сквозняков, жует бутерброд без корочки, потягивает чай и раскладывает все по кристально чистым полочкам своих непостижимо упорядоченных мыслей.
Процесс закончился быстро. Свидетелей было мало, и в силу не зависевших от них обстоятельств они не могли припомнить ничего из случившегося с той сжатой четкостью, которой всегда требует хороший судебный процесс, в противовес расплывчатой неопределенности и путанице, с какою происходят в жизни события. И сэр Аарон и Крэмп оправдали возлагавшиеся на них надежды, причем сэр Аарон сделал особый упор на постигшее подсудимого невезение, выразившееся в том, что многолетняя практика обращения с огнестрельным оружием взяла верх над алкогольным опьянением и пуля нашла цель. Сэр Аарон признал даже, что дело Крамнэгела не лишено элементов личной трагедии – элементов, которые должны смущать всех, ибо перед каждым нормальным человеком время от времени неизбежно встает вопрос: «Где пределы моего терпения? Где пределы моей выдержки? На что я способен, если в моем присутствии начнут поносить все, что для меня свято? До какой степени я способен владеть собой, если выпью лишнего? Когда я, изрядно выпив, веду свою машину домой, вижу ли я сквозь лобовое стекло реальный мир или навязанную алкоголем фантазию?»
Временами судья моргал от изумления, не веря своим ушам, не в состоянии понять, на чьей стороне выступает сэр Аарон, вовсю используя свой викторианский дар нагнетания ужаса: ведь если так пойдет и дальше, Крэмпу вообще не придется ничего говорить.
Крэмп попросил присяжных поставить себя на место американского полицейского, оказавшегося за границей, но присяжные единодушно отвергли это предложение. С поистине беспредельным упорством описывал он им умственное состояние человека, ищущего утешения в одном-единственном стаканчике после ужасной аварии, в которую он попал; описал Крэмп и то, как единственный стаканчик перерос в серию стаканчиков – исключительно потому, что в сложившейся ситуации уклониться от участия в выпивке было бы просто невежливо. И то, как разговор – вначале невинный и веселый – перешел в ожесточенный спор, когда спорщиков разгорячил алкоголь.
– Спиртное, виски растревожило тот тихий омут, который таится в глубине души каждого из нас, омут, воды которого обычно удерживаются в покое полученным нами воспитанием, чувством гражданской ответственности и образованием, но которые, если их взбаламутить, выносят на поверхность все, что есть в наших душах первобытного, всю скопившуюся там ненависть, агрессивность, болезненные воспоминания детства, кошмары – всю атавистическую темень, восходящую к каиновой печати. – На этой страшной фразе он сделал паузу и обвел присяжных взглядом непроницаемых голубых глаз, вызвав у каждого чувство неловкости. – Такой омут, такие мутные воды таятся в душе каждого из нас.
– Однако здесь не то место, где избавляются от них, – прошептал сэр Невилл Элбертсу, который вдруг весь затрясся от бурного, хоть и сдавленного приступа смеха, так что сэр Невилл сразу же пожалел о своей шуточке.
Завершая речь в защиту своего клиента, Крэмп решительно отверг обвинение в предумышленном убийстве: при данных обстоятельствах это просто смехотворно, хотя с формальной точки зрения и нет другого обвинения, которое можно было бы выдвинуть против подсудимого. По мнению защитника, действия подсудимого еще можно бы рассматривать как непредумышленное убийство, да и то на подобной точке зрения способны настаивать только лишь исключительно безжалостные и бездушные люди. Он искоса взглянул на судью, чье лицо хранило беспристрастное выражение. Разумеется, безнаказанным оставлять беспричинное убийство в общественном месте, да и в других местах, нельзя никак, признал защитник. Но перед нами достойный слуга общества, человек, занимающий в своих родных краях ответственнейшее положение и добившийся в порученном ему деле больших успехов, которым воздали должное его сограждане, наградив его этим завидным свидетельством (здесь Крэмп полностью привел текст памятного адреса, слегка морщась от «неоклассицизмов» в выражениях). В силу сложившихся обстоятельств человек этот, прожив на свете более полувека, ни разу в жизни не выезжал за пределы Соединенных Штатов. И если в проблемах своего края он разбирается до тонкостей, то представления о жизни в других краях не имеет никакого. И посему присяжные – пусть даже из одного уважения к нашему великому союзнику, который всегда был важнейшим, а иногда и просто единственным оплотом демократии в нашем резко разделенном мире, – должны счесть своим священным долгом оправдать одного из ответственных должностных лиц великой союзной державы, запутавшегося в трагической ловушке вдали от родных берегов, – человека, которому грозит тяжкое наказание не за преступление, как убедительно показали все: представленные суду факты, а всего лишь за совершенную им ошибку.
– Понравилось бы вам, если бы местный главный констебль был арестован американской полицией и предстал перед американским судом, совершив подобное глупейшее преступление?
В зале суда стояла тишина, и что-то в характере этой тишины подсказало Крэмпу, что многие из присутствующих не имели бы ничего против подобной ситуации. Поэтому он быстро вернулся к прежней – менее умозрительной, более риторической – аргументации и закончил свою речь на высокопарной ноте, которая вполне была бы под стать высокопарно-мрачному стилю сэра Аарона, не прозвучи она в устах Крэмпа с оттенком раздражения. Раскрасневшись, весь дергаясь, он взмахнул несколькими листами чистой бумаги и уселся на место, стиснув зубами желтый карандаш взамен отсутствующей трубки. По его подбородку потекла струйка слюны, отчего он сразу стал похожим на огромного младенца в белом чепчике; в глазах его по-прежнему не отражалось ничего.
Судья начал заключительную речь. Голос его звучал бесстрастно, но манера ласкать языком каждое слово свидетельствовала о былом умении наслаждаться вещами, абсолютно безразличными большинству других людей. Если этого старичка как следует выбить, подумалось сэру Невиллу, то из него поднимется облачко библиотечной пыли и навечно повиснет в воздухе.
– Если вы решите, – заявил он присяжным, произнося слова нараспев, как детский стишок, – если вы решите, что перед вами человек, вошедший в пивную с желанием убить и удовлетворивший это желание, лишив жизни свою несчастную жертву, то возможен лишь один вердикт: виновен в предумышленном убийстве. Из показаний свидетелей следует, что подсудимый никоим образом не мог быть ранее знаком с убитым, следовательно, нет никакого сомнения в том, что их встреча носила случайный характер, характер встречи двух людей, которым довелось утолять жажду – или, вернее сказать, предаваться слабости – в одном и том же заведении. Поскольку подсудимый не проявил никаких признаков ненормальности, за исключением склонности чересчур поспешно хвататься за оружие, с которым, как нам стало известно, ему позволено расхаживать у себя дома, то не возникает и предположения, что мы имеем дело с сумасшедшим, страдающим манией убийства первого встречного. Следовательно, нельзя предполагать, что подсудимый мог бы совершить предумышленное убийство ранее неизвестного ему лица. С другой стороны, вы можете посмотреть на это и так, что – как весьма красноречиво показал защитник и в чем его, к некоторому нашему удивлению, поддержал королевский прокурор – перед вами стоит человек, занимающий высокий официальный пост в дружественной нам стране и волею несчастного случая забредший далеко от родных и привычных ему мест. Если этому поверить, то здесь перед нами стоит заблудшая овца с золотой душой и безупречной репутацией, хотя эта овца уже и заблудилась однажды в том же направлении, что и сейчас, и притом в тех краях, где ей следовало бы от этого воздержаться и где наказание, как мы поняли, заменили поощрением и повышением по службе. Но как бы там ни было, сей вопрос, слава богу, лежит за пределами нашей юрисдикции и, следовательно, за пределами нашего суждения, хотя нам, пожалуй, вполне позволительно заметить, исходя из представлений о жизни в нашей относительно безопасной сфере существования, что поощрение и продвижение по службе являются сомнительным методом пресечения произвольных убийств. И если подсудимый вскормлен на подобного рода интеллектуальной диете, то нет ничего удивительного в том, что наш образ мышления не пришелся ему по вкусу. Персонажи «Алисы в стране чудес» тоже, вне всякого сомнения, испытывали бы подобные затруднения, попытайся они приспособиться к жизни в Англии, и мы сочли бы своим долгом позволить чувству жалости умерить выносимое порицание. Вполне естественно, что человеку, вздумавшему играть в гольф, схватив за ноги фламинго вместо клюшки, придется иметь дело с Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения: более того, играя подобным образом, он вряд ли добьется на поле успеха, и – такова уж человеческая натура – он оставит фламинго в покое скорее по этой причине, нежели из боязни преследования со стороны Королевского общества. Волшебные сказки всегда доставляют нам безграничное удовольствие. Особенно с возрастом, когда перед нами все больше и больше раскрывается литературный и житейский подтекст этих полетов фантазии и границы между нею и реальностью становятся все более расплывчатыми. Я всегда готов верить сказкам, и все же мы обязаны спросить себя: правдоподобна ли, допустима ли вообще мысль о том, чтобы иностранец был совсем уж незнаком с образом жизни в других странах и прибегал к оружию в качестве последнего аргумента в политической дискуссии с незнакомым ему человеком? И даже если подобная мысль покажется нам допустимой и приемлемой, должны ли мы проявлять к такому человеку особую снисходительность, учитывая его высокое положение на родине, или же, напротив, должны ожидать от него более высоких стандартов поведения? Если мы осуждаем простого человека с улицы, когда он не знает, что к чему, то может ли закон подходить с иными мерками к ответственному лицу, которому сам бог велел это знать? Можно ли вообще трактовать закон по-разному в зависимости от обстоятельств? Давайте предложим Алисе спросить об этом Червонную даму. Если же вы поверите, как нас только что просили поверить, что этот высокопоставленный «простак за границей» ввязался в кабаке в острую дискуссию и прибег к оружию для утверждения своей точки зрения только потому, что привык к подобной аргументации, как и к поощрениям и к повышениям по службе за ее применение, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести оправдательный вердикт. Есть, однако, и альтернатива. Если вы считаете, что перед вами стоит человек, у которого не хватило ума заявить об имевшемся у него оружии при таможенном досмотре, – а это само по себе исключило бы все дальнейшие проблемы, – если вы видите в нем человека столь наивного и искренне считающего, что начальник полиции автоматически остается начальником полиции, куда бы он ни приехал, человека ограниченного, лишенного живости ума, тщеславного, задиристого, грубоватого, в чем-то добросердечного дурака и очень во многом избалованного ребенка, то следует вынести вердикт одновременно и строгий и милосердный. Если вы верите, что он зашел в пивную с единственной целью провести время, пока не вернется его жена, и начал невоздержанно пить исключительно под влиянием той атмосферы любезной щедрости, которая часто возникает при случайных знакомствах в барах и пивных, и что затем он оказался втянутым в дискуссию, которая становилась все более и более ожесточенной и бессмысленной и которая закончилась тем, что он застрелил беззащитного человека, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести вердикт: «Виновен в непредумышленном убийстве». И последнее. Если вы верите, что подсудимый – в невежестве своем и под воздействием алкоголя – искренне считал, будто его жертва пыталась достать оружие для нападения, тогда еще можно квалифицировать его действия как акт самообороны. Если же вы полагаете, что есть большая и очевидная разница между тем, как человек лезет в карман за носовым платком, и тем, как он лезет в карман за огнестрельным оружием, – разница в скорости, характере и манере движения, которую не может не заметить даже изрядно выпивший человек, то не может быть иного вердикта, кроме: «Виновен в непредумышленном убийстве». Помните: ни в чем не повинный человек вошел в ту пивную одновременно с подсудимым. Но один из них вышел оттуда живым, а другой расстался там с жизнью.








