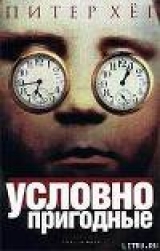
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Теперь они не забудут об этом,– сказал он.
Он не взглянул ни на фотографии, ни на меня – он смотрел в окно на луну.
– О чем ты?
– Теперь они знают, что я не буду терпеть все что угодно.
У нас почти не оставалось времени, пришлось говорить без обиняков.
– Они выглядят не очень-то живыми,– сказал я.
– Все в порядке,– сказал он,– это просто им на память.
Напечатанные на машинке бумаги оказались полицейскими протоколами, приложенными к заявлению юриста Управления по делам детей и молодежи, который всегда обязан присутствовать при допросах детей до пятнадцати лет, у меня он тоже был. Времени читать это сейчас не было. Оставались только бумаги из школы Биля.
Это было несколько писем из различных инстанций, я пытался прочитать их, но не получилось. Мы слишком задержались, скоро придут уборщицы, и мне очень мешала рука, к тому же эти письма были написаны слишком тяжелым языком, чтобы можно было прочитать их за короткое время. Появилось такое же чувство, как и при проведении стандартизированных тестов на чтение,– осознание того, насколько ты медлителен. Но главная трудность возникла из-за Августа.
Он стоял рядом со мной и смотрел из окна, замкнувшись в себе,– смотреть его документы было все равно что заглядывать внутрь него.
Однако кое-чего я все-таки не мог не заметить. Два письма были от Баунсбак-Коля, начальника Копенгагенского отдела образования. Это было первое, на что я обратил внимание. Второе было то, ради чего мы пришли. Это была бумага об испытательном сроке Августа. Я прочитал ее несколько раз, чтобы выучить наизусть.
– Ты здесь на неограниченный срок,– сказал я,– ты под надзором.
Я прочитал ему вслух: «…после консультаций с Управлением по делам детей и молодежи, Министерством образования, Датским педагогическим институтом, Копенгагенским отделом образования и Высшей датской педагогической школой управление не возражает против того, чтобы школа приняла Августа Йоона в свой интернат под надзор на неопределенный срок».
– Почему они спрашивали так много людей? – сказал он.– Зачем это?
Я ничего не ответил, не было времени над этим задумываться.
– Твой испытательный срок никогда не закончится,– сказал я,– тебе надо держаться, у нас все получится, мы что-нибудь придумаем.
И тут я увидел третью бумагу. Она была похожа на свидетельство о судимости, оно было на имя Августа. Это было невозможно: если тебе меньше пятнадцати, ты не можешь оказаться в списках осужденных – я об этом все знал, таковы были правила. И тут я увидел, откуда оно. Эта была выписка из Государственного отдела регистрации правонарушений. В ней содержалось краткое изложение дела Августа.
Это казалось невероятным. К документам Государственного отдела регистрации правонарушений имели доступ только наблюдатель Попечительского совета по делам детей и молодежи и полиция, которая использовала их вместе со списками осужденных. Данные о тех, кто не мог получить отметку в свидетельстве о судимости, потому что им, например, еще не исполнилось пятнадцати лет, заносились в Государственный отдел регистрации правонарушений, это случалось, например, каждый раз, когда тебя приводили на допрос в полицию, даже если ты и был вне подозрений. Эти сведения должны были быть строго конфиденциальными. И тем не менее в бумагах лежала выписка об Августе.
Я положил его дело на место. На секунду я зажег свет, чтобы убедиться в том, что он не накапал на пол или на ковер. И тут я увидел, что в одном из ящиков стола был нажимной цилиндровый замок.
Ничего странного в этом не было. Биль был директором школы, в его столе должен был быть запирающийся ящик для марок и, возможно, незначительных сумм. Не было никакого смысла смотреть, что там, к тому же мы торопились.
И все же я не удержался – взял со стола скрепку и открыл ящик при помощи ее и плоского ключа. Не знаю, почему я это сделал, наверное по привычке.
Может быть, это было и не по привычке. Может быть, это была попытка заглянуть в Биля.
Во всех школьных бумагах речь всегда шла о других, а не о нем, во всех без исключения. И никогда он ничего не говорил о самом себе.
Именно поэтому все зачитывались его воспоминаниями, в библиотеке было четыре экземпляра, давали их на неделю, книга постоянно в течение девяти месяцев была на руках, ее брали и те, кто вообще никогда ничего не читал, даже то, что задавали. И даже в его воспоминаниях не было ни слова о нем самом.
Возникла мысль, а вдруг в ящике окажется что-то о нем самом.
Это был неглубокий ящик. В нем лежала стопка чистых листков школьных бланков. Под стопкой лежали два листка такой же бумаги, но они были исписаны.
Я посмотрел на Августа. Он уже совсем засыпал, усевшись на стул, и уже начинал вертеться так, как вертелся, когда начинались его кошмары. Так как я был уверен, что он ничего не видит, я взял два нижних листка. Потом снова закрыл ящик.
Я поднял Августа, но из-за руки мог только поддерживать его. Ноги его двигались, а все остальное тело спало.
5
– Где находится завтра?
Вот такой вопрос она мне задала.
Когда дети плачут, с ними говорят о завтрашнем дне. Если они ушиблись и никак не могут успокоиться, даже после того, как их взяли на руки, то им рассказывают о том, куда они завтра пойдут, кого они завтра увидят. Их внимание отвлекают от слез и переносят на день вперед – в их жизнь привносят время.
Женщина может сделать это с особой осторожностью. Ничего особенно не обещая, не отворачиваясь от боли, она бережно берет ребенка с собой в будущее. Как будто пытаясь сказать, что все мы должны узнать, что такое время. Что, может быть, все-таки возможно стать взрослым и не понести при этом потерь.
Сам я никогда не говорю с ребенком о времени. Мы говорим о другом, и не так уж много, и никогда не говорим о завтрашнем дне. Мне это кажется невозможным – завтра мы можем быть стерты с лица земли, ты знаешь, что сам ты множество раз не мог сдержать обещание, а если говоришь о времени, всегда что-то обещаешь. Поэтому лучше ничего не говорить, совсем ничего.
И все же она довольно часто приходит ко мне. Изредка для того, чтобы получить какое-нибудь объяснение, но чаще всего для того, чтобы самой что-нибудь сказать.
Когда она подходит ко мне, я сажусь на пол – кажется неправильным стоять, возвышаясь над ней, когда она обращается ко мне. Поэтому я сажусь, тогда наши головы оказываются на одном уровне.
– Где находится завтра?
Я знал, что она имеет в виду. Ей были понятны изменения в пространстве, в разных местах все выглядит по-разному. Теперь в ее жизнь привнесли время, но она его не понимает. И она попыталась объяснить его при помощи пространства, которое она постигла.
Катарина говорила то же самое во время своего телефонного звонка после того, как нас полностью разлучили. Говорила в основном она, потому что она меньше рисковала.
Она сказала, что задумалась о том, как мы вспоминаем свое прошлое. Мы представляем себе череду событий и дат, сказала она, с того момента, где мы сейчас находимся, и в обратном порядке. То есть временную линию. Она может быть очень разного цвета, в зависимости от того, что с тобой происходило, например, если ты потерял кого-нибудь, она может стать черной, в других местах – светлее. В некоторых местах этой линии время пойдет быстрее, в других – медленнее. Но все равно в далеком прошлом оно будет представлять собой линию.
Однако самое начало невозможно представить, во всяком случае, у нее не получается, а как это у меня? Она попросила меня подумать об этом.
Для нее, сказала она, а может быть, и для всех линия растворялась, когда она уходила совсем далеко. Когда ты доходил до самого детства, то уже больше не было линии, а был скорее целый пейзаж событий, невозможно было вспомнить их последовательность, может быть, ее и не было, они были словно разбросаны по какой-то равнине. Она считала, что эта равнина относится к той поре, когда время еще не вошло в ее мир.
Она попросила меня подумать об этом.
– Может быть, спросим Августа? – сказала она.– Как это у него, у него тоже равнина или нет?
Когда я сидел на полу перед ребенком и девочка спрашивала меня о завтрашнем дне, я понял, что она все еще стоит на равнине, но уже собирается входить в те туннели, в которых находится время.
Я так хотел понять ее, я старался понять, можно ли на ее лице увидеть время. Но я ничего не мог сказать ей, не мог дать ответ. Я сам не знал, где находится завтра.
– Я не знаю,– сказал я.
И тут я увидел, что ей и не нужен был ответ, что это было неважно. Важно было то, что я сел на пол, чтобы послушать ее.
Она не двигалась. Я почувствовал, что, возможно, никогда так и не станет важно, что я ей говорю, что она никогда не будет оценивать это и относиться к этому очень серьезно. Что можно позволить себе быть медлительным и неточным, и даже не очень знающим, и при этом тебя не накажут, что она все равно сразу не уйдет, а постоит с тобой минутку.
Я спросил Августа о том, как он помнит прошлое.
Была ночь через семь дней после того, как я побывал у него. Они проверяли его несколько раз за вечер, перед тем как погасить свет. У меня ушла неделя на то, чтобы понять их расписание. Оказалось, что оно очень жесткое, Флаккедам и новая инспекторша по очереди приходили раз в час, в начале каждого часа, именно благодаря этой регулярности я и смог обойти их.
Я приходил сразу же после того, как ему давали лекарство в девять часов, теперь у нас было время до 21.30, когда Флаккедам делал обход и гасил свет.
Он лежал на спине и смотрел в потолок.
– Они стали давать мне три нитразепама,– сказал он,– тебе надо поторапливаться, если ты хочешь мне что-то сказать.
Мне нечего было сказать, я просто стоял и смотрел на него, кожа его была похожа на бумагу. В Общине диаконис было отделение, куда принимали брошенных грудных детей, кроме этого, там были дети в кувезе, они были меньше остальных и все же были похожи на стариков. Очень маленькие и все-таки очень старые. Вот на такого ребенка он и был похож.
Два пальца у меня на руке были скреплены пластырем, так сломанный палец меньше болел. Мизинец вообще-то надо было положить в гипс, но тогда бы у них могли возникнуть подозрения. Август делал вид, что не замечает моих пальцев.
Похоже было, что у него температура, я потрогал его лоб, следя при этом за его руками, он был скорее холодным.
– Что бывает, если совсем перестать есть? – спросил он.
– Два дня чувствуешь голод,– ответил я,– потом два дня, когда чувствуешь себе так плохо, будто заболел, потом становится хорошо. Пока ты совсем не потеряешь силы и они не обнаружат это и не начнут кормить тебя насильно.
В школе Нёдебогорд учились и девочки, у некоторых из них была анорексия. Но они надевали по два свитера и прятали на животе подушку, поэтому случалось, что их разоблачали так поздно, что едва удавалось их спасти; об этом я ему ничего не сказал, не было никакого смысла обнадеживать его.
Он начал уставать. Он спросил меня, виделся ли я с Катариной; я сказал, что она попросила меня кое о чем его спросить, и объяснил ему, как, по ее мнению, человек помнит свое прошлое,– а как он помнит свое?
Так же как и мы, сказал он, он тоже помнит линию, ничего особенного тут нет.
Я почувствовал, что тут что-то не так.
– А где она начинается? – спросил я.– Что ты помнишь первым?
– Первое, что я помню,– кабинет,– ответил он,– как я стою в кабинете и смотрю на тебя, там все и начинается.
– Это было всего лишь два с половиной месяца назад,– возразил я,– а что было раньше?
– Раньше ничего не было,– ответил он,– только дыра.
Я не хотел больше задавать вопросов. Я стоял рядом с ним и молчал.
Он заснул. Глаза полностью не закрылись, между веками осталась щелочка, сквозь которую был виден зрачок, притом что по его дыханию было ясно, что он спит. То есть он спал с полуоткрытыми глазами. Это выглядело как-то неправильно, я дотронулся до его век и осторожно их закрыл.
Я бы хотел побыть с ним подольше, ко это было невозможно – в любую минуту мог появиться Флаккедам.
Он спал, в этом я был уверен, и все-таки какая-то его часть не спала – один из тех людей, которые находились внутри него. Когда я уже был у двери, он позвал меня, говорил он шепотом.
– Если ты помнишь,– прошептал он,– и у тебя есть прошлое, то тебя можно обвинить и наказать. Если ты ничего не помнишь, то есть для тебя не существует времени, как для других людей, то ты становишься чем-то вроде сумасшедшего, и тогда вместо наказания ты попадаешь под надзор,– тогда у тебя есть какой-то шанс.
На следующее утро меня позвали в кабинет Биля, Фредхоя тоже вызвали туда, они сказали, что пришел ответ из Совета по вопросам охраны детства, а затем школа совместно с Управлением по делам детей и молодежи приняла решение о моей дальнейшей судьбе: в течение нескольких ближайших недель мне подберут подходящий интернат для детей с отклонениями – это было окончательное решение, его утвердил судья.
6
Девятый класс, в котором училась Катарина, по утрам стоял через два ряда от нас. Фредхой проверял все ряды, перед тем как появлялся Биль и мы начинали петь. У всех классов были постоянные места, однако всегда было трудно соблюдать идеальный порядок по краям, на границе рядов,– тот, кто приходил последним, не мог протиснуться на свое место, а вставал сбоку.
Через девять дней после того, как нас полностью разлучили, Катарина пришла в самый последний момент, но при этом все-таки без опоздания, она оказалась немного впереди меня, почти рядом с Фредхоем. Это притупило их внимание. Невозможно было представить себе, что она на что-нибудь решится.
Каждый ученик по утрам приносил с собой свой собственный песенник, он обязательно должен был быть в переплете – во избежание преждевременного износа. Она открыла свой песенник так, что я не мог не заметить написанные в нем слова, но держала его так, что никому другому не было их видно. Буквы были очень маленькие – меньше был риск, что ее замысел раскроют. Все время, пока мы пели, я пытался разобрать, что там написано,– она спрашивала: «Как зовут твоего опекуна?»
Всем детям-сиротам и всем детям, которых забрали из дома, лишив их родителей родительских прав, назначали опекуна – таков был закон.
Обычно это был юрист из Совета по вопросам охраны детства, своего я однажды видел, это было, когда Комитет по социальным вопросам назначил мне неопределенный срок пребывания в интернате Химмельбьергхус,– тогда именно она сообщила мне об этом. Она сказала все как есть, что она одновременно назначена опекуном двухсот-трехсот детей, то есть формально она была мне и матерью, и отцом, но однако больше мы встречаться не сможем, если только я не захочу жениться до восемнадцати лет или если у меня не появится имущество, которым надо будет распоряжаться. С тех пор я ее не видел.
Это было слишком сложно объяснять Катарине. Я просто написал в своем песеннике: «Йоханна Буль. Совет по вопросам охраны детства», а через три дня перешел на один ряд назад и поднял книгу повыше. Никто ничего не заметил.
На следующий день меня позвали к телефону – мне позвонили.
В школе в распоряжении учеников было два телефона, оба они находились в жилом корпусе: один – на половине мальчиков, другой – на половине девочек.
Оба телефона соединялись с коммутатором школы в приемной Биля, но это были телефоны-автоматы, по ним разрешалось звонить во время большой перемены с 11.40 до 12.30 и по окончании обязательного приготовления уроков с 20.15 до 20.50. Позвонили мне в 12.05, я был в это время во дворе, и за мной пришел один из учеников младших классов, его послал Флаккедам. Он сказал, что меня зовет к телефону мой опекун.
Трубка лежала на маленьком столике с телефонными книгами. Впервые за все проведенное в школе Биля время мне позвонили, если не считать двух случаев, когда звонил представитель Попечительского совета, сам же я никогда никому не звонил. Телефон висел на стене, никакой кабинки не было, это было хорошо: после случая с Вальсангом мне не очень нравились тесные помещения.
Это была Катарина.
Телефоны установили, когда я пробыл в школе год. До этого трудно было получить разрешение позвонить, на то должны были найтись какие-нибудь веские причины, к тому же разрешали звонить только из канцелярии школы: ты разговаривал, чувствуя постоянное напряжение, люди проходили мимо, секретарю было слышно каждое твое слово, и при этом ты понимал, что занимаешь школьный телефон. Во время утреннего пения Биль как-то сказал, что телефоны существуют только для передачи коротких и жизненно важных сообщений.
Должно быть, Катарина позвонила на школьный коммутатор и представилась Йоханной Буль. Это было единственно возможным объяснением. Она позвонила с телефона девочек в приемную, а они решили, что звонят из города, и соединили ее с отделением мальчиков.
Какое-то время мы вообще ничего не говорили. Мы просто стояли и молчали. Мне было слышно ее дыхание, равномерное, отчетливое, почти как часы. А я уже думал, что никогда больше не смогу поговорить с ней, никогда в жизни.
– Как ты там? – спросила она.
– Ничего,– ответил я.– Но Август плох.
Без всякого предупреждения раздался щелчок, и соединение было прервано. Наверное, кто-то спугнул ее.
Она позвонила мне снова.
Это было на следующий день, после приготовления уроков. На этот раз я сам взял трубку – я стоял рядом с телефоном, когда он зазвонил, можно сказать, что я ждал звонка.
После летних каникул моей обязанностью было регулярно выносить кухонные отходы в большие мусорные баки за жилым корпусом. К этой работе все стремились: выполнялась она быстро, к тому же мусорные баки находились в закутке, где можно было какое-то время постоять и где тебя никто не видел. Эту работу мне дали в награду за то, что в течение двух лет у меня не было наказаний и замечаний.
После катастрофы в церкви меня перевели в помещение, где я должен был выполнять любую подвернувшуюся работу; никаких объяснений этому не было дано, но ясно было, что они хотели постоянно держать меня под наблюдением. В каком-то смысле я почувствовал облегчение: из-за того, что случилось с пальцами, стало трудно выполнять тяжелую работу. В тот день, когда позвонила Катарина, я смазывал дверные петли. Занимался я этим и после ужина – надо было быть поблизости от телефона.
В королевском воспитательном доме было запрещено звонить ученикам из города, за исключением случаев смерти близких или чего-нибудь в этом роде. Телефонные звонки могли ослабить ту сопротивляемость, которую в учениках старалась воспитать школа.
Следовательно, к телефону могли позвать, только когда с родственниками произошло что-то действительно страшное. Или когда тебе звонили из отдела социального обеспечения или полиции, что было еще хуже.
Поэтому все привыкли к мысли о том, что телефон – это часть надзора за учениками. И что им пользуются исключительно учителя и администрация школы.
Когда я оказался у телефона, а на другом конце провода была Катарина, все вдруг стало иначе, почти наоборот.
Обычно здесь бывала очередь, в тот день никого не было. Когда телефон зазвонил, я поднял трубку, прежде чем кто-нибудь успел услышать звонок.
Она запыхалась. Она, должно быть, дождалась, пока рядом никого не будет, и бросилась к телефону. Всю осень она работала в саду, теперь они, наверное, и ее перевели в здание.
Я снова подумал о том, что дыхание – как часы, измеряющие то короткое время, когда мы можем быть вместе.
Я ничего не говорил, мы просто стояли, вслушиваясь в дыхание друг друга.
А потом она рассказала мне, что прошлое помнишь как линию, которая в конце заканчивается на равнине. Время от времени автомат начинал пищать, и тогда она опускала еще одну монетку,– откуда она их взяла?
– Мы можем встретиться?
Это я продумал во всех деталях, на тот случай, если она спросит. Есть только одна возможность, сказал я,– встретиться ночью. Я бы помог ей вылезти из окна и спуститься вниз, сможет ли она?
– Меня перевели,– сказала она.– Теперь я сплю в комнате новой инспекторши.
Она сказала это совсем тихо, и все же показалось, что мимо промчалось что-то огромное, вроде поезда, и поезд этот унес с собой последнюю возможность ее увидеть.
– Через несколько дней я уезжаю,– сказал я.– В интернат для умственно отсталых.
Трубку положили. Как и в прошлый раз, не было никакого звука, только что она была здесь – и вот ее нет.
Я постоял некоторое время у телефона, но больше он не зазвонил.
7
Два дня подряд я на большой перемене сидел в библиотеке.
Если бы все было как обычно, мне бы это запретили, но поскольку пошел снег, ритм жизни школы изменился.
Снег падал медленно, но не прекращался ни на минуту, они не успевали убирать его. Сгребать снег лопатой, посыпать дорожки песком и солью поручили Андерсену, помогали ему те интернатские ученики, которых назначили для работы на улице. Двор был покрыт коркой льда, и повсюду стояли большие снежные сугробы. В связи с этим младшим школьникам на переменах разрешили сидеть в классах, у всех уходило больше времени на то, чтобы подняться наверх из-за того, что одежда была мокрой, и вообще заметно было изменение расписания школы.
И Фредхой, и Карин Эре видели меня в библиотеке, но ничего мне не сказали, может быть, они считали, что я и так достаточно наказан и что больше со мной уже ничего нельзя сделать.
Я сидел, разглядывая старые номера «Синей книги», ежегодного журнала школы, в каждом номере были фотографии классов, я нашел старые фотографии ее класса. Все фотографии, начиная с первого года.
В эти дни я видел ее и по утрам, когда мы пели. Было больно вот так прямо смотреть на нее – на фотографии смотреть было легче.
Раньше девочки завязывали волосы в хвостики, у нее тоже был хвостик, а так она была похожа на саму себя.
С одним исключением – она улыбалась. Было восемь фотографий, с 1963 по 1971-й, на фотографии 1970 года ее не было, школу фотографировали в апреле, когда она исчезла. На первых семи фотографиях она улыбалась. Не так чтобы уж очень, но улыбка все-таки была заметна. Так, что было видно, из какой она семьи и какое у нее было детство. Можно было понять, почему она говорила о светлой равнине.
Потом шла та фотография, на которой ее не было. А потом – последняя фотография, прошлогодняя. На ней она не улыбалась. И одежда была другой. Она была видна только по пояс, на ней был один из ее больших свитеров.
Я положил альбомы в один ряд, так чтобы можно было смотреть на них одновременно. Слоено на линию времени.
Неизбежно приходила в голову мысль о том, что было бы, если бы мы были знакомы тогда. Как бы все получилось? Мы бы встретились несколько раз, она могла бы пригласить меня домой, я мог бы познакомиться с ее родителями, и, когда произошла катастрофа, я мог бы помочь ей.
Вот что я думал – думал, что мог бы помочь ей. Я, который и самому себе не мог помочь.
Я смотрел на фотографии, и в конце концов стало казаться, что я вырос вместе с ней. Как будто я не начал расти, попав в школу Биля, рывками и с температурой, но всегда был рядом с ней, и мы спокойно выросли вместе, так что теперь составляем единое целое.
Прежде я никогда подолгу не разглядывал фотографии. Можно было предположить, что они изменятся, когда на них направишь свет внимания. Что они станут слабее, словно страх. Но этого не произошло. Наоборот, они становились все глубже и глубже. Я сидел, глядя на них два дня подряд, я бы пошел туда и на третий день, если бы снова не пошел снег и нас не отправили бегать.








