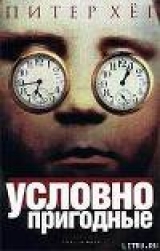
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
11
В интернате Химмельбьергхус, когда я второй раз отказался бежать, меня заставили выпить «солигнум». Было такое средство для обработки дерева, которым покрывали стены сараев и которое поэтому было легко достать. В нем содержались различные яды для борьбы с грибком, поэтому мне мгновенно стало плохо, и начальство это сразу же обнаружило. Никто не хотел, чтобы этот случай стал известен за пределами школы,– они бы сами промыли мне желудок, но в школе не было необходимого оборудования, тогда медсестра заставила меня принять медный купорос. Никто ничего мне не объяснил – надо было просто его проглотить. Этот факт и то, как он на меня подействовал, я хорошо запомнил.
Медный купорос представлял собой синие кристаллики, я взял примерно столовую ложку из шкафа в художественном классе. Карин Эре при этом находилась там же, но стояла ко мне спиной.
В шкафу хранились различные химические вещества, лак, бензин, чернила для заправки фломастеров, а также медный купорос, который использовался при окраске шелка для создания узоров. Я уже давно заметил его и понял, что это такое, но раньше мне он был ни к чему.
Шкаф был, как правило, на замке, однако во время уроков его открывали. Никто меня не видел, хотя в комнате было полно людей, было понятно почему. Когда я протянул руку и приоткрыл маленькую баночку, я почувствовал, что и время, и место были настолько запретными и невероятными, что я как будто стал невидимым.
Чуть позже на этом же уроке я взял еще и белый халат из шкафа. Это был один из халатов Карин Эре, в нескольких местах немного запачканный краской. Это тоже оказалось совсем несложно. Похоже было, она не видит меня. Поскольку все знали, что я уезжаю из школы, я словно перестал для них существовать.
То, что я задумал, должно было произойти на уроке Фредхоя – это был спаренный урок физики.
Фредхой умел разбираться в учениках. Биль был во всех смыслах значительнее, но Фредхой был самым опасным, потому что его спокойствие, чувство юмора и разумный подход к проблемам заставляли поверить, что он на стороне учеников. И тем не менее он все видел, все понимал и представлял собой смертельную опасность.
Для любого другого учителя можно было найти оправдание или разыграть сцену, изображая, что тебе стало плохо, и тебе бы разрешили уйти. С Фредхоем это было невозможно.
Сейчас его уже нет в живых, он умер несколько лет назад. Когда я узнал об этом, прошло уже много лет после его смерти. Говорили, что с ним случился удар.
В каком-то смысле неудивительно, что именно это стало причиной его смерти. Внутри него всегда чувствовалось какое-то большое давление.
Для меня он и сейчас живой. Он часто приходит ко мне в лабораторию, когда я работаю. Он всегда любезен, точен, забавен, тщательно одет и умен.
И тогда возникает желание склониться перед ним и поблагодарить его за то, что он мне дал, за знания и юмор и нечто другое, вызывающее доверие. Я так и сделал: поклонился, поблагодарил и вспомнил его дружеское отношение.
И тогда пришел страх.
От тех людей, которые открыты и понятны, есть возможность защититься. Например, Биль или Карин Эре – перед ними ты мог чувствовать один лишь страх.
Защититься от Фредхоя было почти невозможно. Он излучал дружелюбие, и это заставляло тебя как бы приблизиться к нему и опереться на него. Хотя ты и знал, что делать этого нельзя, но казалось, что он хочет тебя защитить,– и ты доверялся ему.
И вскоре обнаруживалось: что-то не так.
Я проглотил медный купорос за пять минут до урока – все было рассчитано. Когда я взял его в рот, то тело вспомнило и воспротивилось, но я заставил себя проглотить его.
Реакция наступила через двадцать минут, то есть намного позже, чем в прошлый раз. Она была бурной, если бы я не знал заранее, как это может быть, то был бы потрясен, но у меня уже был опыт.
Это не была обычная тошнота со рвотой, которая все усиливалась,– это было как внезапная болезнь: появились галлюцинации, меня бросило в пот. Фредхой сразу же обратил на меня внимание, по лицу его было видно, как плохо я, должно быть, выгляжу, и у него не возникло никаких подозрений. Потом последовал спазм желудка пять или шесть раз подряд, и он полностью опустошился. Я успел подбежать к раковине, ничего не испачкав.
После этого все было кончено, по прошлому разу я знал, что буду чувствовать слабость, но в остальном все будет нормально.
Однако выглядел я по-прежнему плохо, Фредхой попросил дежурную проводить меня ко мне в комнату. Когда мы спустились на первый этаж, я отправил ее назад. Потом надел часы Катарины и поднялся на шестой этаж.
Дверь в санчасть не была закрыта на ключ. Август лежал на ближайшей к двери кровати. Он был укрыт одеялом, я откинул его – они привязали его ремнями. Он был таким худым, что я не поверил своим глазам. В остальном не было ничего необычного, лечение было таким же, как в случае с девочками, страдавшими анорексией в Нёдебогорде: две капельницы с солевым раствором и сахарным раствором и шланг в носу для кормления через зонд. Кроме ремней на руках и на груди у него был ремень на лбу, чтобы он не мог сбить с себя зонд. Он был где-то далеко: должно быть, ему дали какое-то сильное снотворное.
Глаза его были полуоткрыты, но он спал. Я прикрыл его веки и прошептал ему, хотя он не слышал меня, что ему не надо беспокоиться. Потом мне пришлось уйти: времени больше не было.
В дверях канцелярии было маленькое стеклянное окошечко, сил у меня после медного купороса было немного, но я все-таки подпрыгнул – в помещении никого не было. Я подергал дверь, она была закрыта, но на простой замок.
Я занял позицию перед кабинетом Биля, мне было неизвестно, там он или нет.
Катарина дала следующие инструкции. Раздастся телефонный звонок, между двадцатью пятью минутами и половиной. Канцелярия в это время будет закрыта, секретарша будет в Фонде помощи детям-сиротам королевы Каролины Амалии, который частично финансировал школу, а также оплатил новый переходящий кубок, туда она ходила на заседание каждую среду и четверг. Когда раздастся звонок, мне надо открыть дверь, войти в кабинет и переключить звонок на телефон в отделении девочек.
До этого момента я должен ждать в коридоре.
Таков был план Катарины, другого она придумать не могла, самой ей никогда не приходилось ждать в коридоре на шестом этаже.
Поскольку учительская находилась в конце коридора, мимо все время ходили люди. К тому же в санчасти лежал Август, у него кто-то должен дежурить, школьная медсестра или Флаккедам,– кто-то же должен его постоянно проверять. У меня не было никаких законных оснований стоять в коридоре, я был у всех на виду – сейчас меня увидят и потребуют объяснений.
Поэтому я встал перед кабинетом Биля, это было самое страшное место, но другого выхода не было. Я стоял вытянувшись в струнку, не касаясь стен, убрав руки за спину и опустив голову. Мимо проходили учителя, я на них не смотрел, а они не останавливались. Они считали, что я жду, пока меня вызовут в кабинет Биля для наказания.
Телефон молчал. Я простоял, пока часы не показали тридцать пять минут и даже еще немного. Потом надо было уходить, чтобы не оказаться прямо посреди потока учителей, который пойдет мне навстречу, когда раздастся звонок на большую перемену.
Спускаясь по лестнице, я увидел Флаккедама.
На всякий случай я взглянул в образованную перилами шахту – где-то внизу была видна его рука. Я успел отпереть дверь в коридор на четвертом этаже и спрятаться в учебной ткацкой мастерской, выжидая, пока он пройдет.
Может быть, он шел наверх, чтобы проверить Августа. Я видел только одну его руку, этого было достаточно, чтобы узнать его. Хотя в его руке кое-что изменилось, два крайних пальца были в гипсе. Значит, они все-таки на некоторое время потеряли контроль над Августом.
В эту ночь я опять не спал. Из-за медного купороса я ничего не ел весь день. Всю ночь я просидел, глядя в окно на парк, на школьные здания и думая об Августе. Может быть, пойти к нему, снять его шланги и ремни и сесть рядом с ним, чтобы он понял, что мы не забыли о нем, и мог заснуть. Но повсюду лежал снег, Флаккедам заметил бы следы, и все было бы кончено.
И все-таки я бы пошел. Если бы меня не остановило то, что сказала Катарина.
Я не видел ее с тех пор, как она рассказала мне о своем плане тогда на складе, даже мельком не видел. Но перед тем, как мы расстались, она подарила мне часы и сама застегнула ремешок на руке, а потом она положила руки мне на плечи и, пристально глядя на меня сквозь тьму, сказала: «Два раза, мы попробуем два раза».
Темнота становилась все гуще, тут появилась мысль о том, что все, что мы делаем, напрасно,– в тот момент я был близок к тому, чтобы сдаться.
Я хотел домой.
В интернате Химмельбьергхус и в «Сухой корке» душевые были устроены совершенно одинаково, три душа в ряд, в первом была горячая вода, а в двух последних – холодная, все вставали в ряд, намыливались у раковин, а потом, в довольно быстром темпе, проходили через души. В стене было окошечко, за ним стоял Вальсанг, наблюдая за нами и не рискуя при этом намокнуть.
Однако бывало, что ты оказывался последним, а остальные уже прошли. Тогда можно было подольше постоять под горячей водой. И начинало казаться, что ты дома.
Теперь, сидя в темноте, я мечтал об этом. Я сознательно избегал мыслей о Катарине и Августе. Если бы я не испытывал такой слабости, я попытался бы попасть в душевую. Я думал, что раз уж все было напрасно, то, может быть, стало бы легче, если оказаться под горячим душем, как в «Сухой корке», и почувствовать свое тело и живот, без всяких судорог, и можно было бы отпустить время и сдаться.
* * *
В какой-то момент к утру стал появляться свет. У него не было какого-то определенного источника, он вырастал на внешней стороне предметов, на деревьях и камнях, словно серебряное покрытие, еще очень слабый, но однако ясно заметный, словно пассивное сопротивление темноте.
И тут появился Оскар Хумлум.
Он влетел в окно, по-прежнему с той же веревкой, которая была и тогда, и спрыгнул на пол тяжело, но проворно.
– Как ты здесь оказался? – спросил я.
Он ничего не сказал, и тогда я ответил за него – он всегда хотел, чтобы я отвечал за него. Я все-таки был ближе к словам, чем он.
– Это потому, что время приостановилось – сказал я.
По его лицу я видел, что так оно и есть.
Он встал немного позади меня, мы вместе смотрели на свет, и тут я вспомнил то, что долгое время не вспоминалось.
Мы должны были мыться, Вальсанг наблюдал сквозь окошко, Хумлум зашел в душевую передо мной. Он прошел через горячий душ, как будто его не существовало, и, встав под первый холодный, остался там. Он не двигался, он просто стоял, а его кожа сначала стала красной, а потом белой, он стоял, опустив глаза, я знал, что он стоит там, чтобы я подольше мог побыть в горячем душе и чтобы меня оттуда не погнали дальше. Я закрыл глаза, горячая вода закрыла меня стеной,– дольше, чем в тот день, мне никогда не приходилось там стоять.
Я посмотрел на Хумлума, он стоял в полутьме, опустив глаза, как стоял тогда. Я не мог не думать об Августе, который лежал в санчасти, о Катарине, которая спала рядом с новой инспекторшей, и стало ясно, что невозможно сдаться и все бросить. Ведь и тогда тоже – я наконец подтолкнул его дальше, а сам встал под первый холодный душ, а затем под второй, а потом вышел.
12
Звонок раздался ровно в половине, в этот момент секретарша была в канцелярии – мы оказались на грани катастрофы.
У нас снова был урок с Фредхоем с 10.50 до 11.40, то есть в то время, когда я, согласно плану, должен был уйти из класса. Нам не везло, но ничего не поделаешь – всем естественнонаучным дисциплинам отводилось в расписании больше времени, чем каким-либо другим.
Однако все оказалось не так уж плохо. Поскольку я не выспался, второй день ничего не ел, и к тому же на меня все еще действовал медный купорос, выглядел я не лучшим образом. Когда я подошел в Фредхою и прямо сказал ему, что плохо себя чувствую, он разрешил мне уйти.
– Это уже второй день подряд,– сказал он.– Поговорим после урока.
После урока ничего уже не будет, подумал я, хотя и не очень ясно было, что должно произойти,– после урока школьное время перестанет существовать.
Я поднялся на шестой этаж, по пути мне никто не встретился, я прошел мимо санчасти, не заглянув туда.
Дверь в канцелярию была открыта, я услышал, как секретарша там с кем-то говорит. Это не было предусмотрено планом, Катарина показала на расписание: в среду и четверг с 11.00 до 12.00 ее нет.
Сначала я остановился. Мы все привыкли к тому, что школьное расписание непогрешимо, – когда я учился в школе, в расписание классов почти никогда не вносили изменений. Если ты сталкивался с изменением, то начинал чувствовать свою беспомощность.
Тогда я пошел в санчасть – у меня оставалось всего несколько минут. Август спал, но на этот раз мне пришлось разбудить его, я очень резко потряс его, и он довольно быстро проснулся. Из-за шлангов в носу он не мог говорить.
– Я пришел,– сказал я,– ты должен помочь мне.
Времени для объяснений не было. Я частично освободил его от ремней и дал ему в руки его банку с мочой.
– Скоро зазвонит телефон,– сказал я,– потом ты медленно сосчитаешь до трех, а затем начнешь шуметь, но не очень громко.
Когда я вышел в коридор, была ровно половика. Вокруг не было ни души. Мы двигались по узким туннелям времени и пространства, существовавшим только в это мгновение; через несколько минут раздастся телефонный звонок, все сбегутся – и тогда всему конец. Но в настоящий момент в потоке времени, между секундами, нам удалось освободить себе место.
Тут зазвонил телефон, и я вошел в канцелярию.
– Частная школа Биля,– сказала она.
– Мне кажется, он сейчас задохнется,– сказал я.
Секретарша работала в этой школе уже несколько лет, говорили, что она дальняя родственница Биля, при любых других обстоятельствах она бы сначала закончила разговор и не стала бы вести себя таким образом в присутствии ученика. Но теперь ситуация изменилась, все в школе вышло из равновесия, все чувствовали приближение чего-то неизвестного,– услышав меня, она замерла.
В это мгновение из санчасти раздался звук, это он бросил банку на пол, звук был тревожным, но при этом не слишком громким – как раз таким, как надо.
Я почувствовал, что она начинает терять самообладание. Однако ей хватило выдержки, чтобы сказать в трубку: «Минутку». Потом она выбежала.
Я взял трубку, это был мужской голос.
– Я бы хотел поговорить с Хессен,– сказал он.
Катарина описала мне, как выглядит панель коммутатора, она находилась слева от письменного стола, она сказала, что на ней все четко и понятно написано, так что думать не надо будет, и так оно и оказалось,– если бы надо было думать, я бы пропал.
К коммутатору вели три провода, я не знал, по какому он говорит, я вытащил все три, когда я вытаскивал третий, связь прервалась, этот последний провод я и вставил в тот контакт, на котором было написано: «Телефон учеников». Катарина сказала, что он зазвонит автоматически и чтобы я слушал в наушники. Однако она не могла предусмотреть, что секретарша будет прямо за дверью.
Я слышал, как зазвонил телефон, слышал, как сняли трубку. Потом сказали: «Кабинет психологии».
Это был голос Катарины.
– Это Баунсбак-Коль, – сказал он. – Хессен на месте?
Она ответила так, как будто не слышала вопроса.
– Все так, как мы и сообщали,– сказала она,– у нас большие сложности, мы просим вас немедленно приехать.
– Это совершенно исключено,– ответил он.
– Это касается Августа Йоона, о котором мы сообщали, речь идет о насильственных действиях.
– Я хочу поговорить с Хессен,– настаивал он.
Я запомнил его в день вручения наград на стадионе Гладсаксе, у него была служебная машина с шофером. Хорошо одетый и величественный. Похоже было, что он звонит из своего кабинета.
Мое положение стало еще сложнее, когда я услышал другой звук. Я стоял спиной к двери в кабинет Биля. Оттуда и доносился его голос. По нашему плану его не должно было там быть, но тем не менее он был там.
Теперь я находился в большой опасности, зажатый между секретаршей, Билем и начальником отдела образования.
– Мы снимаем с себя всякую ответственность, – заявила Катарина.– Все рушится.
Он требовал Хессен, а она ему не ответила. Это был голос Катарины, и тем не менее это была не она. Один из тех людей, которые скрывались в ней и которых я никогда не смогу понять, взял верх.
Мне было слышно его дыхание.
– Я сейчас приеду,– сказал он.– Переключите меня на канцелярию.
Я переставил контакт туда, где он был прежде.
– Канцелярия,– ответил я.
– Позовите Биля.
Он не поверил ей. Ему нужна была определенность.
– Его вызвали,– сказал я.– Произошел несчастный случай.
Мне было слышно, как секретарша бежит по коридору. Я положил трубку. Она вошла в дверь.
– Ему плохо,– сказала она,– надо найти Флаккедама.
– Я как раз собирался вниз к нему,– ответил я.– Я попрошу его сразу же подняться сюда.
Она едва понимала, что я говорю.
– Он такой худой,– сказала она.
13
Не могло быть и речи о том, чтобы теперь возвращаться в класс или в жилой корпус. Фредхой хотел поговорить со мной – возможно, он ищет меня. Не было ни одного места в школе, где бы я мог отсидеться, чувствуя себя в безопасности. Я спустился на лестницу между первым и вторым этажами, напротив младших классов, здесь мне будет видно, когда пойдет кто-нибудь из учителей, и я успею спрятаться. Когда прозвенел звонок, означающий конец времени, отведенного на обед, я влился в общий поток, который вынес меня во двор. Дежурным преподавателем был Флаэ Биль, но он не проявлял никаких признаков беспокойства. В какой-то момент в воротах появился Фредхой, но я пригнулся, а когда снова поднял голову, он уже исчез,– если все ученики собирались вместе, их оказывалось так много, и все были так похожи, что среди них трудно было найти кого-нибудь одного.
Но Катарину я увидел, а когда Флаэ оказался в противоположном конце двора, мы оба подошли к черте, разделяющей двор. Мы шли рядом по обе стороны черты от стены к зданию школы, не глядя друг на друга.
– Он может появиться в любой момент,– сказала она.– Когда прозвенит звонок, не ходи на урок, отправляйся в южный двор встречать его.
– Они будут искать меня,– сказал я.– И тебя тоже.
– Только после урока.
– Времени не хватит,– сказал я.
Вокруг нас играли в пятнашки. Асфальт был покрыт ледяной коркой, все бегали парами, взявшись за руки. Каждая пара состояла из мальчика и девочки. Было скользко, поэтому трудно было крепко держаться друг за друга и пришлось снять рукавички. То есть девочку держали за руку, касаясь ладонью ее ладони. К тому же приближалось Рождество, это усиливало ощущение всеобщей расслабленности.
Мы смотрели, как они играют, еще недавно мы играли вместе с ними, а теперь они вдруг стали казаться совсем далекими. Дело было не только в том, что меня исключили и я скоро отсюда уеду, а поэтому не имело никакого смысла особенно думать о них. Дело было в другом: в Катарине, и в том поцелуе, и в Августе, и в том, что мы уже почти поняли все, и в том, что обратного пути не было.
– Я хочу тебя кое о чем спросить,– сказала она,– ты можешь переставить школьные часы, те, что звонят с урока и на урок?
В воспитательном доме о начале и конце урока возвещал маленький колокольчик, который висел под навесом рядом со зданием школы. Для того чтобы интернатские дети знали о том, что пора в столовую или спать, использовался звонок большего размера, который висел перед входом. Оба эти звонка были подарками королевской семьи. Работа «звонаря», то есть того, кто должен был звонить в звонок, нравилась всем, но звонарем назначали только кого-нибудь из старшеклассников, того, кто как-нибудь особенно отличился.
Пока я был в воспитательном доме, ни разу не случалось, чтобы кто-нибудь другой, кроме звонаря, коснулся звонка. Но поскольку звонки висели у всех на виду, было все-таки назначено официальное наказание для тех, кто, не имея на это права, притронется к звонку, этим наказанием было немедленное исключение.
В школе Биля никто не говорил о возможности такого наказания, звонки были у всех на виду, а сами часы никто не видел, мысль о том, чтобы как-нибудь добраться до них, никому не приходила в голову. Пока Катарина не упомянула об этом, ни я, ни кто-нибудь другой не мог себе такого представить.
– Часы не висят в кабинете Биля,– сказала она.– И в канцелярии их тоже нет. Они должны быть в учительской или за той дверью, которая находится между санчастью и кабинетом Фредхоя.
– Может быть, они у Андерсена? – предположил я.
Она покачала головой.
– Это слишком важно,– возразила она.– Их никогда бы не повесили рядом с землей. Их будут держать на свету. Поблизости от Биля и Фредхоя.
Я ничего не сказал, ничего ей не ответил. Но казалось, она этого и не ждала. Все было кончено. Но в эти последние мгновения мы находились в лаборатории, и все еще было возможно.
Она обернулась ко мне. Потом переступила через черту и подошла вплотную.
– Переставь их на десять минут назад,– сказала она.– Тогда мы все успеем. И обязательно что-нибудь произойдет, возникнет нечто вроде хаоса. При этом десять минут – это не очень много. Это будет ровно столько, сколько нужно.
* * *
Мы вместе прошли через физкультурный зал, а потом в обход к южной лестнице незадолго до звонка, чтобы нас не увидел дежурный учитель. Когда мы расставались, она коснулась моей руки.
Начальник отдела образования появился сразу же после звонка, он сам был за рулем, на меня он даже не взглянул.
Я провел его вверх по лестнице и открыл дверь в кабинет. Катарина сидела за письменным столом, там, где обычно сидела Хессен.
– Где Биль? – спросил он.
Сначала она ему не ответила. Она встала и протянула ему руку, он вынужден был пожать ее.
– Катарина,– сказала она.– Я ассистент Хессен.
В это мгновение я другими глазами взглянул на ее одежду. На ней был большой серый свитер. Сидя за письменным столом, она была теперь похожа на более взрослого человека.
Я не слышал, что еще он сказал. Я вышел на лестницу и закрыл за собой дверь.
В дверях, ведущих в коридор шестого этажа, были стеклянные окошки, я постоял, ожидая, пока в коридоре станет пусто, а потом пошел в санчасть за Августом. Он был в совершенно бессознательном состоянии, я освободил ремни и поставил его на ноги, он все время падал, я несколько раз похлопал его ладонью. Он наполовину открыл глаза, хорошо, что хоть это получилось, – на большее времени у нас не было.
Было не совсем ясно, в каком виде надо его демонстрировать, но я подумал, что все должно быть как на приеме у врача, то есть без одежды, в одних трусах. На нем была больничная рубаха, застегивающаяся на груди, и гольфы, их я снял. Я решил, что шланги и бутылочки, прикрепленные к нему, могут сослужить хорошую службу, так что их я оставил, и те, которые были с иголками, и те, которые торчали у него из носа и изо рта. Одному мне было не унести все бутылки: там был солевой раствор, глюкоза и раствор Рингера, который назначали и девочкам в школе Нёдебогорд,– ему пришлось самому нести их. Возможно, сознание того, что на нем лежит какая-то ответственность, поможет ему не заснуть по пути.
Я отпер дверь в маленькую комнатку, примыкавшую к кабинету Хессен. Оттуда мы могли наблюдать через зеркало для занятий гимнастикой Менсендик за Катариной и начальником отдела образования.
Он сидел лицом к нам. У него были седые волосы и бакенбарды, как у Грундтвига, однако он был меньше его и более гладким. Губы его двигались, но нам ничего не было слышно. Я очень осторожно приоткрыл дверь.
– Мы привели его сюда,– сказала Катарина,– чтобы вы сами могли взглянуть на него.
Один из шлангов выпал из коса Августа, в нем не было зонда, так что он, должно быть, предполагался для чего-нибудь другого, может быть для кислорода,– в Нёдебогорде, как правило, давали кислород. Этим шлангом я теперь связал ему руки за спиной – не крепко, только для виду.
– Это ни к чему,– сказал Баунсбак-Коль,– я читал его бумаги.
Я надел белый халат. Это была моя собственная идея, в план это не входило. Потом я открыл дверь и, подтолкнув Августа, поставил его посередине комнаты.
Начальник отдела образования вскочил со стула и отпрянул. Напрасно я беспокоился, что он увидит пятна краски на халате,– на меня он вообще не смотрел.
– Добрый день, дружок,– сказал он Августу,– меня зовут Баунсбак-Коль.
На это Август ничего не ответил – казалось, он спит стоя.
– Я связал ему руки,– сказал я,– никакой опасности нет, к тому же ему дали четыре таблетки нитразепама.
– Мне говорили, что дела у тебя идут получше,– пробормотал он.
На это Август тоже ничего не ответил.
– Выведите его,– сказал Баунсбак-Коль.
Он так и не посмотрел прямо на Августа. Он не мог заставить себя это сделать.
– Он напал на учителя,– заявила Катарина,– он отказывается принимать пищу. Мы госпитализировали его по красному заключению. Он сломал два пальца инспектору Флаккедаму, когда мы несли его сюда наверх. Мы наблюдаем за ним двадцать четыре часа в сутки. Мы больше не можем брать на себя ответственность. Нам необходимо сделать заявление о состоянии дел.
Он повернулся к окну, где за парком виднелся Копенгаген.
– Это, наверное, уже знает весь город,– сказал он.– Уже, наверное, давно поставили в известность Хордрупа?
Лектор семинарии, выпускник теологического факультета Оге Хордруп был инспектором Министерства образования, я видел его только однажды, тогда, когда он произносил речь на открытии жилого корпуса и новых туалетов.
– Вас первого поставили в известность,– возразила Катарина.– Мы считаем, что следует как можно меньше говорить об этом.
– Все происходит на расстоянии менее трех километров птичьего полета от Фолькетинга,– сказал он.– Все это обрушится на меня.
Он засунул руку в карман, я думал, чтобы достать носовой платок, но оказалось, что ему понадобилась расческа, он причесал и волосы, и бакенбарды, не очень понимая при этом, что он делает.
– Все зашло слишком далеко,– продолжал он.– Я еще несколько месяцев назад говорил об этом Билю. Этого надо отправить назад в Сандбьерггорд. Самых трудных из остальных надо поместить туда, откуда они приехали, я сам об этом позабочусь. Но мы не можем полностью остановить все. Слишком уж велики ожидания. В самых высоких сферах.
Я скорее чувствовал его, чем слышал слова. Он разговорился, я понимал, что сейчас наступит кульминация.
– Что говорит Биль? – спросил он.
Катарина не успела ответить ему. Не было никакого перехода – только что он говорил и вдруг закричал как сумасшедший:
– Что, черт побери, говорит Биль?
Никогда до этого взрослые не ругались в школе, не использовали бранные слова, ни разу, это было незыблемым правилом.
– Извините,– пробормотал он,– извините…
Я вывел Августа из комнаты и прикрыл за нами дверь, но не стал ее совсем закрывать. Посадив его на стул, я очень осторожно снял пластырь и убрал капельницы. Он начал сам вытаскивать зонд из горла.
Баунсбак-Коль сел напротив Катарины.
– Это, естественно, на моей ответственности,– сказал он.
Он смотрел прямо на зеркало, я знал, что он не может увидеть нас. Теперь он казался очень усталым.
– Я прочитал его бумаги,– сказал он,– я не понимаю этого. Это ожесточение. Насилие. И все это между родителями и детьми.
– Вы никогда не били своих детей? – спросила Катарина.
Сначала он замер. Потом ответил медленно, как будто был ошеломлен вопросом, а может быть, и своим собственным ответом.
– Я шлепал их,– ответил он.– Такое случается. Но они никогда не давали сдачи.
Он закрыл глаза. Я знал, что сейчас он вспоминает фотографии из полицейского протокола.
Когда он снова заговорил, голос его был тоненьким, как у ребенка.
– Мы все время видим это в газетах. Все чаще и чаще. Дети, которых невозможно понять. Теперь вот его документы лежат на моем письменном столе. Откуда это берется? Эта жестокость. Почему это происходит? Разве это не ваша специальность? Разве вы здесь работаете не для того, чтобы объяснять это?
Она не отвечала ему.
– Это выше моих сил,– произнес он.
Я вспомнил о часах. С тех пор как Катарина подарила мне часы, я постоянно вспоминал о времени. Похоже, что я начинал излечиваться от своей болезни, теперь, когда все равно было уже поздно.
У меня оставалось семь минут.
– Невозможно было противостоять Билю,– сказал он.– С самого первого совещания в министерстве это было fait accompli. Наверное, вы тоже это заметили.
– Я не присутствовала при этом,– ответила Катарина.
– Да, это верно. Там была Хессен. «Человек – это божественный эксперимент, который показывает, как дух и прах могут сливаться воедино». Увлекательно, не так ли? Это Грундтвиг, предисловие к «Скандинавской мифологии». На этом он построил свою речь. От нас требовалось только продолжать этот эксперимент. Сделать школу «Мастерской Солнца», это тоже Грундтвиг, из «Утра нового года». Начинаешь верить всему, что он говорит. «Мы действуем, надеясь на величие грядущих дней». Вы, наверное, это читали, он несколько раз об этом писал.
– Где?
– В ходатайствах.
– Где они? – спросила она.
Он ее не понял.
– Они стоят в том же порядке, что и циркуляры министерства, по датам, с ноября по декабрь шестьдесят девятого года, на полках в канцелярии, там они и собраны, я сам там их несколько раз смотрел.
Минуту назад казалось, что он был на грани срыва. Теперь он постепенно приходил в себя.
– Казалось, что успех в этом деле гарантирован. Он всех увлек. Меня, министра, управление, Фонд помощи детям-сиротам, Педагогический институт, Хордрупа. Деньги нашли. Все было запущено. Вся затея кажется такой перспективной. И тут начинаются эти срывы. В спецшколах они, во всяком случае, никому не видны. Но это-то известная школа, образцовая, в пригороде Копенгагена. А теперь уже получены и частично использованы средства, теперь это не остановить, слишком большие силы задействованы, слишком многое поставлено на карту.
Я встал – оставалось четыре минуты.
– Если бы только в этом было дело,– сказал он.– Но ведь надо подумать и о детях. Например, вот об этом мальчугане. Во что его втравили?
Он закрыл лицо ладонями. Я пошел к двери.
– Мне пора,– сказал он.
В коридоре никого не было. Дверь в учительскую была в самом конце коридора. Я открыл ее и вошел.
Ученикам нечего делать в учительской. Раньше я тут никогда не бывал.
Учительская была большой. Диваны, стулья с обивкой. В классах стояли деревянные стулья или парты, учительский стул был обит кожей, но нигде в других помещениях не было мебели с обивкой.
Пахло кофе и хорошей едой. Не бутербродами, не тем, что готовят на кухне в жилом корпусе. Вкусной едой.








