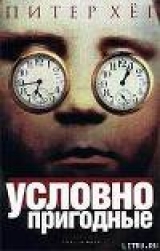
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
4
Частная школа Билл пользовалась хорошей репутацией. Всегда отмечали, что преподавание в школе ведется на высоком профессиональном уровне.
И все же время от времени в школу принимали отдельных слабых учеников, которым, например, требовались дополнительные уроки,– со временем этих учеников подтягивали до уровня всего класса.
Об этом все знали, ведь это соответствовало идеям, на основе которых создавалась школа.
Кроме этого, за последние годы в школу приняли нескольких учеников на особых условиях. Этому не было никакого объяснения.
Таким образом попал в школу я. И Август тоже.
Он появился 3 октября. К этому моменту мы с Катариной из осторожности не говорили друг с другом уже неделю и два дня.
Я увидел его утром, на первом уроке, в кабинете Билл. Меня вызвали из класса, в кабинете были Биль, Фредхой и Флаккедам. Август стоял перед Флаккедамом, он был на голову ниже меня.
– Это Август,– сказал Биль.
Потом Флаккедам его вывел.
В руках у Биля было личное дело Августа.
– С ним произошел несчастный случай,– сказал он,– после этого у него стало плохо с памятью. Он будет учиться в вашем классе. Ты будешь сидеть с ним за одной партой.
Что-то здесь было не так – они выглядели слишком сосредоточенными.
– Он потерял отца,– сказал Биль,– его мать все еще лежит в больнице. Говорить об этом нельзя.
В тот момент, когда я выходил из комнаты, он положил дело Августа на место.
Мы знали, что обо всех учениках собирают сведения и что на каждого заведено личное дело. Но неизвестно было, где они хранятся,– я и сейчас не хотел знать где,– но не мог не видеть этого.
Они лежали в деревянном сундуке, на крышке была резная эмблема школы: Хугин и Мунин, вороны Одина. Каждое утро они улетают с Валгаллы, а вечером возвращаются, садятся на плечи Одина и нашептывают ему на ухо о том, что видели.
Когда я выходил из дверей, открытая крышка сундука была обращена ко мне. Трудно было не заметить, что она закрывалась всего лишь на обычный мебельный замок с тремя-четырьмя цилиндриками.
На воронов я тоже обратил внимание. Здесь они были похожи на хищных птиц.
Это никак не отвечало идее. По идее, должна возникать мысль о том, что вороны, подобно детям и молодежи школьного возраста, собирают знания и опыт, а затем добросовестно используют их в отношениях с начальством. И к тому же здесь присутствовала тема птичьего полета и использовалась скандинавская мифология – получался прекрасный образ.
И все же в тот момент, когда Биль укладывал бумаги Августа назад в сундук, нельзя было не подумать о том, что эти вороны означают также наблюдение и контроль. А со временем еще и наказание или вознаграждение.
В тот же день мне удалось поговорить с Катариной.
В школе всегда учились двести сорок человек, не больше,– это помогало поддерживать высокий профессиональный уровень и давало возможность ученикам и учителям находиться в тесном контакте.
Это означало, что большинство учителей знали почти всех учеников и было очень трудно избежать контроля. Даже в интернате Химмельбьергхус, где на двадцать четыре ученика были заведующий, его заместитель, шесть ассистентов, педагог, медсестра и сторож, потому что мы считались такими дефективными,– даже там за нами наблюдали не так хорошо, как в школе Биля, где было почти невозможно оказаться в одиночестве.
Единственный момент, когда им трудно было избежать хаоса, наступал при перемещении учеников с места на место. Например, сразу после звонка.
Два учителя наблюдали за тем, как ученики поднимались в классы: один стоял под аркой, а другой – на лестнице между вторым и третьим этажами. Со своих постов они видели почти всю школу, за исключением участка лестницы между первым и вторым этажами. Там я и встретился с Катариной.
На площадке в одном из углов находился треугольный стул, он был прикреплен к стене. Если прислониться к нему, то ты оказывался вне поля зрения дежурных учителей и в стороне от потока учеников, поднимавшихся наверх.
* * *
– Мне надо поговорить с тобой,– сказала она. – Ты рассказывал о воспитательном доме.
Она говорила так, как будто нас только что прервали. Мы стояли очень близко друг к другу. Ничего особенного о том времени я рассказать не мог, лишь покачал головой.
Она прислонилась ко мне. Нас окружали поднимавшиеся наверх ученики, шум был непереносимым – она не обращала на него никакого внимания.
– Я хотела сказать об отце,– проговорила она.
Я не хотел этого слышать, но она все же сказала это.
– Он не мог вынести того, что ее больше нет, он повесился. Что ты скажешь?
Я сказал, что не знаю, что тут думать,– но как же те, кого покидают, что же с ними, как же им быть? Кто о них подумает?
– А ты никогда никого не покидал? – спросила она.– Тот твой друг, ты когда-нибудь встречаешься с ним, почему он не попал сюда с тобой?
Это она говорила о Хумлуме. Мы остались одни на лестнице – скоро нас хватятся.
Я не хотел ей этого рассказывать, и если все-таки рассказал, то не по каким-то особенным причинам. Просто она слушала, и все получилось само собой – тут ничего нельзя было поделать.
В воспитательном доме у всех были постоянные обязанности после уроков, например работа на кухне, вынос мусора при необходимости, работа в помещении и в саду. Кроме этого, кой-какие особые поручения, одним из особых поручений было подстригать газон перед домом Вальсанга.
Как правило, это предлагали только тем, кто переходил в шестой класс. Меня он попросил в середине пятого, то есть за полгода до того, как меня перевели.
Тем, кто бывал у него, разрешалось брать что угодно из холодильника – на совершенно законных основаниях. Приходишь туда после уроков, подстригаешь траву и ешь то, что лежит в холодильнике.
А потом он обычно предлагал остаться у него на ночь, и от этого предложения никто не отказывался.
Об этом никогда не говорили, даже ученики не обсуждали это – ну, ночевали у него, и что? – никто от этого не пострадал.
Сначала я отказался, но через это все должны были пройти.
Он был учителем датского языка и литературы, вечером он поставил мне пластинку с какой-то музыкой, потом я пошел в комнату для гостей, где он постелил мне постель.
Пока я лежал в ожидании, что он придет, начались судороги, они и раньше бывали, только не такие сильные.
Потом пропало ощущение времени: я перестал понимать, минута прошла или час,– тогда-то мне и стало ясно, что я болен.
В конце концов я ушел до того, как он появился. Он закрыл меня снаружи, но это был всего лишь замок для тонкой двери между внутренними помещениями – такие замки легко открыть кусочком изогнутой стальной проволоки.
С этого дня я знал, что слишком слаб, чтобы выдержать жизнь в этом интернате.
После случившегося он стал очень внимателен – не зол, просто очень часто оказывался поблизости. Два раза, в душевых, он чуть было не добрался до меня.
Поговорить об этом было не с кем, даже заикнуться об этом было нельзя – остальные у него уже побывали, и Хумлум тоже, и никто от этого не пострадал.
Сейчас я расскажу о том, что случилось.
Я проходил мимо телефонной будки на втором этаже, это было после обеда, он открыл дверь, втащил меня внутрь и толкнул к полке с телефонными книгами. Он попросил меня найти номер телефона – забыл свои очки для чтения.
Мне трудно продолжать – тогда, когда я рассказывал Катарине, тоже было трудно. У меня просто не получается сейчас все сказать, сначала я попробую рассказать кое-что другое.
Мы боролись за то, чтобы получить оценку 13, – это была высшая цель, выше, чем попасть в школьную сборную, выше, чем быть замеченным с одной из посудомоек.
Для большинства эта школа была последним шансом, они знали, что уже почти погибли. У них не было родственников, или же они с пятилетнего возраста бродили без присмотра с ключом на шее, или же были как Гумми, которому и ключа-то не давали – и ему приходилось спать на коврике. Воспалением легких он болел столько раз, что занятия спортом и возможность защищаться были исключены, а спасался он только тем, что не съедал свои конфеты сразу, а продавал их втридорога в конце месяца. «Сухая корка» была последним звонком, а потом интернат для умственно отсталых и – конец.
Им был дан последний шанс, потому что у них оказались способности к учебе, но надо было удержаться, поэтому все сидели с миллиметровкой и двумя черновиками и прописями, даже если нам давали простое задание на вычисление. Линии, что мы чертили, были теми жесткими рамками, которых в свое время нам не хватало и внутри которых теперь надо было удержаться. С помощью точности и аккуратности. Это была последняя и единственная возможность.
Как, например, умение быстро и точно находить что-нибудь в справочнике. У нас были упражнения на быстрый поиск в телефонной книге – они проводились на уроках Вальсанга.
Я пытался найти номер телефона, я действительно пытался. Хотя и знал, что он это сказал просто так, я старался изо всех сил. Хотя он уже расстегнул ширинку и вынул свой член, а напряжение в будке возрастало и у меня начались судороги.
Все время убегать невозможно. Не было другого выхода – только стараться оттолкнуть его и одновременно другой рукой листать телефонную книгу, делая то, что он велел.
Дверь телефонной будки представляла собой стальную раму с матовым стеклом, Вальсанг держал ее свободной рукой, чтобы она не открылась, – Хумлум разбил стекло одним из огнетушителей, в которые раз в год набиралась вода, в них было сорок литров плюс вес стали.
Это было безосколочное стекло, оно словно растворилось, покрыв нас крупными пылинками.
Снаружи стояла толпа учеников, человек тридцать-сорок. Некоторые из старших боялись, они сначала не хотели идти с Хумлумом, потому что это было связано с Вальсангом, но Хумлум заставил их – нужны были свидетели. Они не хотели смотреть и старались отвести взгляд. И все же им пришлось смотреть на нас.
Они стояли совсем тихо, между ними и будкой был узкий проход, через него мы и прошли, сначала Вальсанг и я, потом Хумлум с огнетушителем, а они медленно пошли за нами,– мы отправились в канцелярию.
В обычное время, в то самое, которое показывают часы, осознаешь какие-то определенные истины. Если отпустить время, начинаешь понимать какие-то другие.
Именно такую возможность давала болезнь. Когда начинало происходить что-то важное, можно было отпустить время – и пережить насыщенное мгновение, полное осознания. Как будто приближаешься к черной дыре. Если подойдешь слишком близко, тебя затянет туда. Но если окажешься рядом, придет понимание.
Еще пока мы шли в канцелярию, появилась мысль о том, что нам надо бы использовать все это, чтобы что-нибудь получить взамен. Чтобы можно было надавить на них и вырваться отсюда.
Это я рассказал Катарине. Пока мы стояли в полном одиночестве на лестнице.
– Почему же он не ушел с тобой? – спросила она.
– Он не захотел,– ответил я.– Когда дошло до дела, он просто сказал: «Спасайся сам».
Она спросила меня, вижусь ли я с ним.
– Он навещает меня,– сказал я.– Но об этом никто не знает.
5
В классе нас рассаживали в три колонки лицом к кафедре. С краю, у окна, там, где свет, сидели только девочки. На среднем ряду – и мальчики, и девочки, у двери – только мальчики.
Там они и освободили три парты. Средняя была для нас с Августом.
То есть перед нами и позади нас были пустые парты. За пустую парту позади нас сел Флаккедам.
Для Августа был установлен целый ряд правил, но прошло какое-то время, прежде чем я догадался, каких именно. Ему было запрещено вставать без разрешения и делать резкие движения. В тех случаях, когда он все-таки нарушал запрет, Флаккедам мгновенно оказывался за его спиной.
Так что мы сидели совсем одни у самой стены, а перед нами и за нами никого не было. При этом Августу было приказано сидеть неподвижно. Напрашивалась мысль, что у него одновременно было и меньше и больше места, чем у кого-нибудь другого в школе.
Никто ничего так и не объяснил.
Частная школа Биля была платным учебным заведением.
Всем было известно, что учителя при приеме на работу проходили тщательный отбор. Желающих работать в школе всегда было много, каждого из соискателей вызывали для серьезной беседы. Но Фредхой, который был заместителем директора, как-то на уроке рассказал, что некоторым из претендентов отказывали еще до беседы, еще в приемной, потому что они выглядели неряшливо или же явились не вовремя. После целого ряда бесед отбирался один-единственный на вакантное место. Это было важно для школы. Высокая квалификация учителей и тщательный отбор.
Нечто подобное происходило и с учениками. Нам довольно часто говорили о том, что существует большой список желающих попасть в школу.
Для каждого класса имелся такой список очередников. Он был таким длинным, что в любой момент число учеников можно было удвоить. Но этого не делали. Согласно идеям Грундтвига, школы должны быть довольно маленькими. К тому же это было необходимым условием поддержания высокого профессионального уровня.
Таким образом, списки желающих просто хранились в школе. А когда возникала необходимость попросить родителей какого-нибудь ученика забрать его из школы или же кто-то уходил по другой причине, то брали следующего претендента из списка.
Чтобы в классе было не более восемнадцати человек. Притом что в обычных школах бывало до тридцати шести учеников в каждом классе, у Биля было только восемнадцать. Это было необходимо для поддержания высокого уровня.
Списки очередников означали, что школе не надо никого удерживать. Все знали, что у школы кет никакой нужды задерживать кого-нибудь. Что касается необходимости платить за обучение, то, по мнению Фредхоя, это было гарантией того, что только родители, действительно заинтересованные в судьбе своих детей, будут отдавать их в эту школу. А чтобы и бедные семьи могли отдавать сюда своих способных детей, предоставлялась возможность ходатайствовать о бесплатном или частично оплачиваемом месте.
То есть учеников отбирали благодаря заботе их родителей. И за пределами каждого класса, в очереди, на их места претендовали по меньшей мере восемнадцать других учеников – это всем было известно.
Поэтому было совершенно непонятно, как они могли принять Августа.
Это было как некий знак.
Почему они взяли его?
Уже когда взяли такого, как Карстен Суттон, это было невозможно понять. Или меня, имевшего средние способности или ниже и получившего бесплатное место, меня, который начал часто опаздывать, хотя они еще и не представляли себе, как плохо обстоят дела на самом деле.
Но почему они взяли Августа, было необъяснимо. Ведь у них есть списки желающих поступить сюда, и никого им не надо удерживать. Почему же они взяли такого, как он?
Именно эта неясность окончательно убедила меня в том, что должен быть какой-то план. Но и задолго до всего этого у меня уже несколько раз возникали смутные подозрения.
Первый знак был дан после года моего пребывания в школе, когда мы узнали о скрытом дарвинизме. Когда нам это сообщили, моя прошлая жизнь полностью прояснилась.
Мы с Оскаром Хумлумом, хотя и не знали этого, шли одними и теми же путями задолго до того, как встретились.
В этом не было ничего удивительного, напротив, это было совершенно обычным делом – ведь для детей-сирот в Дании все заранее определено. Через всю страну проходило несколько невидимых туннелей, шли они поблизости друг от друга, совершенно параллельно. Поэтому, когда мы с Хумлумом встретились, мы не особенно много говорили о прошлом. Молчали мы не только потому, что не хотели быть назойливыми, но и потому, что знали: в каком-то смысле мы шли вместе, хотя и не видели друг друга.
Сначала попадаешь в дом ребенка, там ты так мал, что в памяти ничего не остается, но из своего личного дела я знаю, что побывал в двух таких домах.
Потом оказываешься в детском доме; мы оба с Хумлумом были в домах, находившихся в ведении Общины диаконис, я был в детском доме на Петер Бангс Вай, между футбольными площадками и церковью Флинтхольм, Хумлум был в Эсбьерге. Казалось бы, должен был помнить так много с тех пор, но помнишь только чтение вслух и наказание за то, что оскверняешь свой рот ругательствами: управляющая, сестра Рагна, засовывала твою голову в унитаз, предварительно воспользовавшись им.
Следовало бы помнить больше. Но в памяти сохранилось только это.
В детском доме тебя держали как можно дольше; только если решали, что больше тебе здесь уже никак нельзя оставаться, тебя переводили. Оттуда можно было попасть в заведение только одного типа – в распределительный центр под наблюдение на какое-то время. Я оказался в Брогорсвенге, в районе Гентофте, это было в 1966 году, я совершенно не помню, почему именно там,– знаю, что управляющая, сестра Рагна, в моем деле написала: «Несговорчивый, отказывается надевать брюки гольф».
Так там написано, но вспомнить самому что-нибудь невозможно.
Однажды я показал эту запись Хумлуму. Это было зимой, ночью, мы сидели в туалете, прислонившись к батарее.
– Я хорошо их помню,– сказал он,– брюки гольф и высокие клетчатые чулки, остальные в школе носили высокие сапоги и исландские свитера. Ничего другого не было, это было словно кожа, и в конце концов хотелось сорвать ее, сорвать свою кожу, правда?
Он ничего не сказал о том, отказывался ли он сам носить их.
Начиная с распределительного центра все шло хуже, так как ты становился старше и возрастал выбор мест, куда тебя могли отправить. Я попал в школу-интернат для детей, которые по развитию были ниже среднего уровня, а оттуда в Нёдебогорд – дом для детей с психическими отклонениями.
Это случилось в 1967 году, мне было, наверное, 10 лет. К этому времени у меня уже были разные правонарушения, в основном бродячий образ жизни, взломы и другие вещи, о которых я не хочу говорить, и случаи нападений.
В это время появилась возможность посмотреть кое-какие записи в своем личном деле – это было в русле новых педагогических течений; мне показал его представитель управления. Там так все прямо и было написано: «проблемы в поведении и общении», «неумение приспособиться к школе», «воспитательные проблемы», «асоциальный», «склонность к бродячему образу жизни».
– Что делать,– сказал он,– поедешь в Нёдебогорд, пока не освободится место в исправительном доме в Ютландии.
«Исправительный дом» – это было неофициальное название, однако неофициальное название не оставляло никаких сомнений в том, что это такое. Это были интернаты и школы для трудных детей, где персонал правил твердой рукой и где был накоплен опыт работы с совсем юными правонарушителями, к тому же имелись все необходимые для этого условия. Когда я пробыл два месяца в Нёдебогорде, освободилось место в интернате Химмельбьергхус, и меня перевели туда. Мы с Хумлумом несколько раз говорили о том, как бы все было, если бы его перевели вместе со мной и мы встретились бы в Химмельбьергхус, а не в «Сухой корке» год спустя.
Однако этого не произошло, поскольку он за два года до этого перестал разговаривать.
Про меня они всегда говорили, что я не умственно отсталый. Никто не мог предположить, что у меня могут быть большие способности к учебе, но и сказать с уверенностью, что я слабоумный, никто не мог. В отношении Хумлума у них, очевидно, не было полной ясности, к тому же в какой-то момент он перестал разговаривать, полтора года он ничего не говорил, ни слова.
Он никогда не был особенно разговорчивым, потом он тоже говорил не очень много, он так и не объяснил мне, почему перестал говорить, а просто сказал, что у него стал болеть рот.
При взгляде на него не возникало сомнений, что это правда. Ему действительно было больно много говорить. В какой-то момент он вообще замолчал.
Они послали его сначала в колонию-распределитель, а затем в Копенгаген, где находились детские психологические клиники. Там он сначала попал в детскую клинику на Лэсёгаде, в дневной стационар, где собирали самые сложные случаи и где его зачислили в «категорию 3».
Интернатский ребенок мог попасть в одну из четырех категорий – других вариантов не было. Можно было оказаться «средних способностей» – это была категория 1 – или «умственно отсталым» – категория 2; и первая и вторая категории могли сочетаться или не сочетаться с «общими проблемами адаптации». А можно было оказаться в категории 3, как Хумлум, это называлось «трудновоспитуемый с невротическими или другими болезненными расстройствами»; категория 4 означала «дебильный, или ниже границы слабоумия».
3 – это было очень опасно. Если в исправительном доме или в интернате для детей с психическими расстройствами определяли, что ребенок с трудом дотягивает до третьей категории, для него оставалась только одна возможность – учреждение для слабоумных. Самое последнее в системе опеки над слабоумными было карантинное заключение в закрытом отделении, где привязывали к кровати и делали по три укола в день.
И все-таки Хумлум добровольно пошел на это и стал категорией 3. Он рассказывал мне, что это было хорошее время: они обследовали его по понедельникам и средам, в остальное время не трогали, в школу он ходил только два раза в неделю, кормили хорошо, после обеда давали что-нибудь сладкое, а если он просил – еще и добавку.
Я точно не понял, сколько это продолжалось,– по меньшей мере года полтора, он попал в детскую психологическую амбулаторию организации «Спаси ребенка», а под конец оказался в детской психологической клинике Копенгагенского университета. Там они стали проверять его, чтобы определить, не перешел ли он в категорию дебилов, то есть в четвертую, и тут он испугался и снова заговорил. Тогда его рекомендовали перевести в распределитель для слабоумных детей Сентралмишон на улице Герсонсвай в Хеллерупе. Чтобы не попасть туда, он сделал все от него зависящее, и обнаружилось, что у него есть способности к учебе, так что вместо распределителя для слабоумных его отправили в воспитательный дом для тестирования.
– Мне надо было здорово постараться,– сказал он.
Он прошел тестирование, и его приняли – за год до меня.
Пребывая в молчании такое долгое время, он научился погружаться в себя. Он рассказывал мне, что это был единственный период в его жизни, когда он крепко спал по ночам, весь мир изменился. Время, сказал он, оно начало течь, как бывает, когда погружаешься в себя.
Именно он впервые предположил, что должен быть какой-то план. В каком-то смысле все интернаты были одинаковы. В некоторых ты был под охраной, в некоторых были одни мастерские, а в других – другие. Однако ощущение было тем же самым. Все они были как будто пронизаны жестким, очень жестким временем.
Это и сам я раньше замечал, но не мог высказать. Пока Хумлум не сказал.
– Должен быть какой-то план, – сказал он, – иначе почему так важно быть точным, как ты думаешь?
Я просто слушал, мне нечего было сказать.
– Когда погружаешься в себя,– сказал он,– или если на долгое время перестаешь говорить, то что-то происходит: время становится другим, оно исчезает и возвращается только тогда, когда снова заговоришь.
После того как он это произнес, прошло три года, прежде чем снова зашла речь о времени. Это случилось, когда Катарина в лаборатории сказала, что мы должны его исследовать.
К тому времени прошел уже год после того, как Биль подал нам знак, раскрыв план помощи условно пригодным.
Это произошло в тот момент, когда казалось, что никакого выхода нет.
В «Сухой корке» существовало правило об обязательной поездке домой на выходные раз в три недели, и они отправили меня в Хёве, в колонию для детей-инвалидов. Ничего хорошего из этого не вышло, это учреждение использовалось для содержания детей, которые раньше входили в банды в Копенгагене, а теперь были рассредоточены по разным учреждениям; в колонии они образовали новые банды, они привыкли так существовать. В последний раз мне там выбили четыре нижних зуба и подвергли сексуальному надругательству. Мне вставили серебряные зубы. Я ни за что не хотел снова оказаться там.
В школе Биля я нашел возможность иногда уходить. На большой перемене я сел и написал письмо самому себе от имени моей опекунши на одной из тех пишущих машинок, которые использовались для преподавания в старших классах. В письме было написано, что я приглашен к ней домой в гости, я показал его и получил разрешение уехать. В пятницу вечером после ужина я отправился в Копенгаген. Можно было делать что угодно, наблюдать за людьми или просто гулять по улицам – это было здорово. А поздним вечером – просто возвратиться назад в школу.
И все же я не мог спать – не знаю почему, просто не мог, иногда все выходные я не мог сомкнуть глаз. В понедельник утром чувствовалась страшная усталость, и так продолжалось всю неделю.
То, что я говорю об этих выходных,– неправда. Обычно я никуда не уезжал. Обычно я просто стоял у ворот и смотрел, как мимо проезжают машины. Школа и флигель были пусты, все разъезжались по домам, оставался только я. Мне было совсем не весело.
На следующей неделе я не мог готовить уроки и был равнодушен ко всему.
В это время и был дан знак.
Это случилось на уроке биологии. Биль рассказывал о дарвинизме, о выживании наиболее приспособленных. Это происходит и сейчас, сказал он, и в обществе, но тут закон действует иначе, поскольку мы смягчаем последствия.
После того как он это сказал, наступила пауза. Это было насыщенное мгновение.
Он ни на кого конкретно не смотрел, он никогда прямо не обращался к кому-либо. Но, возможно, в это мгновение именно я понимал его лучше всех.
Тем, кто был внутри этой жизни, то есть большинству, было трудно осознать, что он имел в виду, они лишь чувствовали радость оттого, что они – внутри и относятся к наиболее приспособленным.
Для тех, кто находился вне этой жизни, почти все было заполнено страхом и отчаянием – я все это знаю.
Понять это можно лучше всего, когда находишься на границе между двумя состояниями.
Существовал закон – вот что было ясно. Он кого-то предпочитал, кого-то обрекал на гибель. Но для тех, кто находился на границе, они пытались смягчить последствия. Таким предоставлялся шанс. Частная школа Биля была этим шансом.
Понять это лучше всего можно, когда тебя объявляют условно пригодным для выживания.
Биль очень редко замолкал посреди урока. Но, проговорив это, он остановился. Это не было запланировано заранее, это была непроизвольно возникшая пауза. Мы приблизились к чему-то очень важному.
«Прислушивайтесь к паузам. Они говорят больше слов».
Скрытый дарвинизм. План, который угадывался за временем, состоял в естественном отборе. Время было тем орудием, которое осуществляло этот отбор. Чувствовалось огромное облегчение, потому что все встало на свои места.
И лишь много позже, после встречи с Катариной, появилась мысль, что не все тогда прояснилось.








