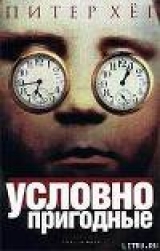
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
В комнате находились кухарка в халате и двое новых учителей, которые проверяли какие-то работы. У одного из окон стоял Фредхой.
– Извините,– сказал я,– меня послали с сообщением для Хессен.
И закрыл за собой дверь.
На стенах висели картины, это сразу же бросалось в глаза, в классах не разрешалось ничего вешать на стены – ведь нельзя было допустить преждевременного износа. Я заметил также большие электрические часы. Но ничего, что было бы похоже на школьные часы со звонком.
Я побежал по коридору к двери рядом с кабинетом Фредхоя, той, о которой говорила Катарина, и отпер ее своим ключом. Потом вошел и снова закрыл ее на ключ.
Комната была очень узкая, но длинная. На стене слева от меня за стеклом висел маленький круглый приборчик с кнопкой, надпись гласила, что это пожарная сигнализация, рядом была прикреплен листок – это была инструкция по эвакуации.
Кроме сигнализации, в комнате были только часы.
Они висели на стене. Так высоко, что ни одно живое существо не могло бы достать их. Сам механизм был спрятан в закрытой коробке. В крышке было стеклянное окошечко. Виден был сам циферблат и длинный маятник. Под циферблатом находилось зубчатое колесо того типа, который мне раньше не встречался. У меня оставалось две минуты.
Я снял ботинки и носки и, упираясь ногами в обе стены, взобрался наверх.
За год до этого две девочки, которые учились на класс старше нас, пришли в школу босиком.
Биль увидел их, естественно, уже во дворе, однако дал им пройти мимо. Первый урок прошел без всяких замечаний.
Во время утреннего пения им не разрешили встать вместе со всеми – Фредхой поставил их рядом с кафедрой. Потом появился Биль. Он провел пение как обычно, все понимали, что сейчас что-то будет, все знали этих девочек: для школьной постановки они написали песенку, которую запретили, об одной из них поговаривали, что в прошлом году у нее была гонорея.
Когда закончили петь гимн, в зале стало тихо. Биль подождал, пока все полностью не сосредоточили свое внимание на нем. А потом он сказал, что в школе приветствуется умная и обоснованная критика установленного порядка, однако тот путь, который выбрали эти так называемые хиппи, бесплоден и бездарен. Что касается длинных волос и босых ног, каждый может думать, что ему заблагорассудится. Но вне всякого сомнения тот факт, что это негигиенично и что это просто-напросто свинство, которого никто здесь в школе не потерпит. А теперь он просит стоящих рядом с ним девочек отправиться домой и хорошенько поразмыслить над этим, и пусть не возвращаются, пока у них не появится уверенность в том, что они все поняли.
Именно этот случай вспомнился мне в тот момент, вот почему мне пришлось преодолевать себя, ступая по стенам,– до этого мне не приходилось касаться их даже рукой. А тут – ногами, да к тому же босыми.
На часах было написано «Бюрк», я изо всех сил уперся в стены и открыл крышку.
Они были мертвы. Они двигались, но все же не были живыми – так мне показалось. И все же трудно было притронуться к ним.
К коробке шли электрические провода, но шли они не к механизму, механизм предполагал ручной завод, на дне коробки лежали два ключа, а у часов был храповой механизм. Над храповым механизмом был маленький циферблат с секундной стрелкой – оставалась еще минута.
На задней стенке ящика были приклеены листочки бумаги с напечатанными на немецком языке предостережениями, которые я мог только частично разобрать, однако мне были понятны восклицательные знаки и подчеркивания и то, что это инструкция для завода часов. Кроме ключей, на дне ящика лежала коробка с предохранителями на 250 мА и записка с информацией о том, когда часы регулировали в последний раз. Их подводили примерно на одну минуту в конце каждого месяца.
Я попробовал отодвинуть назад минутную стрелку. Это у меня не получилось, она словно примерзла, я ничего не мог поделать.
Шестеренка под механизмом была соединена с какой-то механикой, которую так сразу понять было невозможно. Однако было ясно, что она должна быть как-то связана со звонком, который был электрическим, в ящике было реле с маркой производителя, «Традания, Дания», сам механизм был немецким, так что эти часы были результатом немецко-датского сотрудничества.
На шестеренке были деления от одного до двадцати четырех, на каждый час приходилось по двенадцати маленьких отверстий, а в тех отверстиях, которые соответствовали времени звонка с урока или на урок, торчали очень маленькие винтики. Таким образом, часы были сконструированы, чтобы звонок работал с точностью плюс-минус несколько минут.
На дне ящика лежала также маленькая отвертка. С ее помощью я убрал те винтики, которые сейчас, через десять секунд, должны были завершить цикл.
И тут дверь открылась – и вошел Фредхой. Он смотрел прямо перед собой. Затем подошел к окну и посмотрел на улицу. Потом снова пошел к двери.
Он не взглянул наверх, не увидел меня.
Это не было везением. Дело было в том, что ему это не пришло в голову, такая мысль даже не могла у него появиться.
Ни при каких обстоятельствах не могла. Он никогда не искал детей наверху. Они всегда были под ним. Внизу в классе, или внизу во дворе, или внизу в зале, или внизу в церкви,– всегда внизу. Он больше уже не мог поднять голову к потолку и к свету. Во всяком случае, не для того, чтобы увидеть ребенка.
Я посмотрел на него сверху. Так, как я никогда раньше не смотрел на учителя. Я увидел у него перхоть. На голове и на пиджаке.
Он вышел и запер за собой дверь.
Я переставил винтики на весь оставшийся день – их было десять. Теперь из школьного дня и вселенной исчезло десять минут, как будто их никогда и не было. Трудно было удерживаться там, но я себя заставил. Однако, когда я закончил, сил, чтобы слезть вниз, у меня уже не осталось: на последнем отрезке я свалился и сначала не мог подняться. И тут рядом со мной уселся Оскар Хумлум.
Сперва я его не заметил, но он, должно быть, все время был со мной.
– Теперь мы скоро будем дома,– сказал я.
Он показал на мою ногу – она в один миг распухла. Засунуть ее в ботинок не получилось, но носок мне как-то удалось натянуть.
Я сказал ему, что теперь мне пора отправляться домой, с Августом и Катариной,– и не хочет ли он с нами? Что он об этом думает?
Он покачал головой. Может быть, из-за того места ученика на шведском пароме, может быть, из-за чего-нибудь другого. Он собрался уходить.
Я позвал его, он остановился и обернулся.
– Я должен тебе кое-что сказать,– прошептал я.– После того как мы встретились, после того как мы в первый раз посидели в соседних кабинках, прижавшись к батарее, после этого я уже никогда больше не чувствовал себя совершенно одиноким, даже после того, как ты меня оставил. До этого в моей жизни особенно ничего и не было. Но если однажды кто-то ради тебя стоял под холодным душем, чтобы ты сам мог побыть под горячим, ты уже больше никогда не будешь совсем одинок.
Я отпер дверь в коридор и решил, что все пропало.
Дверь в канцелярию хлопнула, и оттуда выбежала секретарша. Я понимал, что сейчас мне придется завести ее в комнату с часами и заставить хотя бы на какое-то время успокоиться, любыми средствами, но больше ни о чем я подумать не успел.
Она меня вообще не заметила. Она перебежала наискосок через коридор и выбежала на южную лестницу, слышно было, как стучат ее каблуки.
За ней из канцелярии вышла Катарина.
Мы немного постояли друг перед другом в этом коридоре – самом ужасном месте из всех возможных,– попав в маленький водоворот времени.
– Я сказала, что какая-то машина разбита,– объяснила она,– машина, похожая на ее машину, я сказала, что какой-то «таунус» задним ходом въехал в нее, что за рулем был начальник отдела образования, потом он уехал, я сказала, что «маскот» смят в гармошку, пусть спустится и посмотрит.
Под мышкой у нее была большая картонная папка. На ней было написано несколько дат, она держала папку, так, что мне их не было видно. Но я знал, что это окажется ноябрь и декабрь 1969 года.
– Если начинаешь лгать,– сказала она,– то постепенно становится все проще и проще.
Август немного пришел в себя. Когда мы открыли дверь, он приложил палец к губам. Он показывал на громкоговоритель.
Я подошел к нему очень тихо. Из него доносился звук, треск, который то усиливался, то пропадал, нельзя было определить, то ли ищут нас, то ли что-то произошло, просто был слышен какой-то шум.
Когда я отошел от него, Катарина стояла у шкафа с архивными документами, разглядывая его.
– Можно его открыть? – спросила она.
Сначала мне показалось, что нет, но потом я все-таки открыл его.
Она нашла наши личные дела. Потом посчитала остальные.
– Шестьдесят,– сказала она.– Они тестируют шестьдесят учеников. Для чего?
– Мне холодно,– сказал Август.
Мы поделили имевшуюся в нашем распоряжении одежду, Катарина дала ему сапоги и колготки, так что осталась в одном платье с голыми ногами, потом она надела мои ботинки, которые я все равно не мог надеть из-за распухшей ноги, Август надел свое нижнее белье, и я дал ему свой свитер.
Из глубины громкоговорителя до нас доносились жалобные голоса. Катарина подошла к окну.
– У Кластерсена был урок с нашим классом в большом зале,– сказала она.
Большой зал был предназначен для игры в футбол, в нем действовало другое время. Чтобы извлечь максимальную пользу из урока физкультуры, для мытья под душем и переодевания Кластерсен использовал перемены до и после урока. Поэтому в большом зале не было звонка, он вел урок по часам с секундомером. Душ и раздевалка находились в главном здании, они были закрыты во время урока, чтобы кто-нибудь посторонний не мог проникнуть туда и что-нибудь испортить или украсть. И вот теперь Кластерсен отправил учеников в душ, а они обнаружили, что главное здание закрыто, поскольку звонок не прозвенел, как ему было положено, и поэтому дежурный преподаватель не отпер двери. Они ждали на снегу, в шортах и спортивных тапочках.
И тут в громкоговорителе раздался голос Биля.
– Андерсен,– сказал он,– поднимитесь, пожалуйста, ко мне в кабинет.
Впервые кто-то разыскивал кого-то по громкоговорителю.
– У него выходной день,– сказала Катарина, – у Андерсена выходной день.
У нее перед глазами не было расписания, и все-таки она это знала, должно быть, она выучила его наизусть.
– Они хотят, чтобы он открыл им комнату с часами,– предположил я.
– Почему они сами не откроют ее?
– Они не могут,– ответил я.– Я сломал ключ, он застрял в замке.
В эту минуту раздался звонок.
Сразу после звонка возникла пауза. Потом настала тишина. Она была почти абсолютной.
Тишины не должно было быть, должны были звучать голоса и шум шагов в коридоре, но мы ничего не слышали – школа будто вымерла. Я видел по лицам Катарины и Августа, что они ничего не понимают.
– Дело в учителях,– объяснил я,– они в замешательстве, звонок прозвенел на десять минут позже. Они не понимают: это звонок с урока или на урок, к тому же ни у кого не было перемены, сейчас они не знают, что делать. Пройдет минута, и все выйдут в коридоры.
– Тут еще и другое,– сказал Август.
Он встал, мой свитер доходил ему до коленок.
– Они боятся выпускать всех во двор. Они знают, какая неразбериха бывает во дворе. На уроках ты как мертвый. Но во дворе все кипит, вы разве не замечали, что дежурный учитель всегда держится в сторонке? Вообще, они могут управлять всем только при помощи звонка. Он как нож, единственное, что может резать. Без него им снова не загнать всех наверх. Сейчас они не знают, работает он или нет. Они боятся отправлять всех во двор.
Он нетвердо стоял на ногах, особенно в сапогах Катарины. Но я уже и раньше замечал: если он начинал что-нибудь, все равно что, он никогда не останавливался, пока не налетал на какое-нибудь препятствие.
– Вот сейчас они сидят у кафедры и делают вид, что ничего не произошло. Но всем понятно, что что-то не так, давление в классе нарастает и нарастает. И тут появляется одна мысль: учитель-то только один, а нас самих двадцать, никому не устоять против двадцати, даже в младших классах, если они всерьез на что-нибудь решатся. Можно посмотреть по сторонам, фантазия придет тебе на помощь, у каждого есть точилка для карандаша, ведь они у всех должны быть, и ты вытаскиваешь лезвие, оно маленькое, но похоже на бритвенное, встаешь и идешь к кафедре, и все – конец, через минуту он будет лежать на полу, а ты становишься свободным…
– Да,– сказала Катарина,– с ремнями на руках и ногах, двумя капельницами и резиновым шлангом в носу.
Он побывал где-то очень далеко, но мгновенно спустился на землю и в один миг подскочил к ней.
– Что там было с твоим отцом и твоей матерью, сестренка? – спросил он.
Я успел встать между ними, он смотрел прямо на меня, он, который так редко смотрел на кого-нибудь.
Внутри него победил другой человек – возникла опасность.
И все-таки я не мог ударить, я не мог ударить ребенка, что бы ни случилось.
Я протянул ему левую руку, ту, где пальцы были скреплены пластырем, я не пытался защищаться.
– Ну, сломай их теперь в другом месте,– сказал я.
Он остановился и замкнулся в себе, он не смотрел на руку.
– Это не я сделал,– сказал он.– Чего мы ждем, что теперь будет?
В это мгновение в громкоговорителе снова послышался голос Биля.
– Сейчас 13.00,-произнес он.– Все классы незамедлительно спускаются во двор. До 13.20 объявляется перемена.
Катарина вслушивалась, всем телом устремившись к звуку.
– Он боится,– заметила она.
Она заговорила у самого громкоговорителя, я закрыл ей рот рукой.
Голос послышался снова, так отчетливо, как будто Биль стоял рядом с нами.
– Прошу всех учителей, кроме дежурного по двору, немедленно подняться в учительскую.
Катарина убрала мою руку.
– Ты кое-что говорил,– сказала она.– «Время – это то, что необходимо крепко держать». Они боятся пауз.
Мы по-прежнему стояли рядом с громкоговорителем, лучше бы нам было помолчать.
– Он не боится,– возразил я.– Он сам говорил о значащих паузах.
– Это не те паузы. Сейчас все иначе. Это паузы, которые не поддаются контролю. Время и все их планы развалились.
Тут снова послышался голос Биля, но договорить до конца ему не удалось.
– Сообщение всем классам. Если кто-нибудь видел или сейчас видит Питера из седьмого класса, Августа Йоона…
Больше ему ничего сказать не удалось. Август ударил только один раз, но его кулак пробил ткань и разбил ту решетку, которая за ней скрывалась. Потом он взялся за рамку и боднул ее головой, от этого лопнула мембрана, и громкоговоритель оторвался. Тут я подскочил к нему и оттащил его, из руки у него шла кровь, громкоговоритель висел на проводах, связь была прервана.
Теперь мы слушали здание. Далекие голоса, топот ног по лестнице. Мы стояли совсем тихо, прислушиваясь к звукам. Потом мы посмотрели на Катарину.
До этого момента это был ее план. То, что последует дальше, мы в тот день на складе не обсуждали.
– Что теперь? – спросил Август.
В какой-то степени мы конечно же рассчитывали на нее.
Она не ответила, она просто стояла выпрямившись и смотрела на нас. И тогда я понял, что у нее нет ответа на этот вопрос.
– Я знаю, о чем ты думала,– сказал Август.– Ты думала, что, наверное, появится какой-нибудь выход.
Я все время следил за ним, но он был спокоен. Казалось, он сдался.
– Ты думала, что есть же какие-то родственники, у тебя, наверное, есть дядюшка в каком-нибудь министерстве, который может приехать и поговорить с Билем, так ведь? А после этой школы будет другая, та, где учатся двоюродные сестры, школа Буссе или Классенске Легатсколе. Но вот что я скажу тебе, для нас, для меня и для дурачка Питера, для нас…
Сначала он не мог выговорить это, оно до предела заполнило его тело, сделав его твердым как камень. Потом он обмяк, и ему удалось выдавить из себя:
– Для нас не будет ничего,– произнес он.– Одна дыра.
Выражение ее лица никак не изменилось. Казалось, что ее глаза потемнели, стали почти черными. Потом из них побежали слезы. Никаких изменений в лице – просто поток слез из темных глазниц.
Пришло мое время защитить их.
– Мы отправляемся домой,– сказал я.
Мы собирались отправиться в путь. Складывая бумаги, она сразу же заметила это.
– Где дело Августа? – спросила она.
– Я положил его назад,– ответил я.
Невозможно было объяснить ей это. Ей так было важно знать. Никогда не удастся заставить ее понять, что в некоторых случаях бывает лучше не знать.
Она ничего не сказала. Может быть, она все-таки поняла.
Мы послушали у двери, подождав, пока последний учитель пройдет по коридору, а потом спустились по южной лестнице. Мы никого не встретили, во дворе тоже было пусто. Был риск, что нас могут увидеть из дома Андерсена. Однако нам повезло, мы прошли вдоль всего главного здания и большого зала и вышли в парк, и нас никто не окликнул.
Снег кончился, теперь стоял туман, мы вошли в этот туман и исчезли.
14
Август шел спотыкаясь, мы взяли его за руки, мои носки не спасали от снега, но после того, как я постарался не чувствовать ноги, я перестал замечать и больную ступню, которая совсем распухла.
Мы ничего не видели, кроме белого снега, несколько раз я терял направление, тогда показывался Хумлум, всего лишь на миг, чтобы показать нам, что мы идем правильно.
С самого начала было предопределено, что так все и будет. Будет странствие через пустынные и бесплодные края, но переносить это будет легче, потому что ты будешь идти с ними, такими близкими тебе женщиной и ребенком. И наконец ты придешь к той земле, которая стала землей обетованной.
Теперь она выступила из тумана, мы увидели надпись «Склад», но мы понимали, что надпись эта всегда существовала для отвлечения внимания, уже давно было задумано, что мы попадем сюда.
Все выглядело так, как в тот раз, когда мы с Катариной сидели здесь.
Я закрыл дверь на задвижку и поставил вокруг стола ящики, чтобы все выглядело по-домашнему. Мешал холод. Я подумал, не зажечь ли огонь, но здесь не было вытяжки, и они бы заметили свет, к тому же повсюду стояли канистры с бензином для газонокосилок. Но в одном из шкафов я нашел старые номера «Мира природы», мы засунули их Августу под майку и в колготки. Ему к этому моменту стало хуже, но это скоро пройдет – ведь теперь мы можем ухаживать за ним.
Мы уселись вокруг стола. Оба они устали и сидели, чуть не падая. Вскоре они заснули.
Я охранял их сон. Я привел их сюда, теперь я отвечал за них. Август сидел прислонившись к стене в углу, Катарина положила голову на стол. Я слышал их дыхание. Быстрое дыхание Августа, более медленное Катарины. Я оберегал их, женщину и ребенка,– ничего дурного с ними не случится.
И тут я увидел Оскара Хумлума, он сидел немного в стороне.
– Поспи,– сказал он,– я подежурю.
Я немного вздремнул, но что-то разбудило меня – на меня смотрел Оскар.
– Это голод,– сказал он,– поэтому ты не можешь спать. Он приходит волнами. Когда он приходит, ты должен почувствовать его. Не думать о чем-либо другом, не думать о еде, а направить на него свет внимания.
Я попробовал: голод появился, а потом отступил от меня.
– Откуда ты это знаешь,– спросил я,– ведь тогда ты этого не знал?
– Я тоже стал старше,– ответил он,– это тот шанс, который появляется у тебя оттого, что время идет и ты растешь. Боль не становится меньше. Но тебе становится легче справляться с ней.
Теперь я заметил, что он выглядит старше и спокойнее.
– Оставайся здесь с нами,– сказал я,– навсегда. Никто никогда тебя не сможет исключить.
Он ничего не ответил, он просто дал мне понять, что надо поспать.
Когда я проснулся, Август пришел в себя, он читал ходатайства и дела – Катарина оставила их на столе. Он был в беспокойном состоянии.
Он хотел, чтобы я забрал бумаги, я не взял их, он протянул их Катарине.
– Я прочитал их, пока вы спали,– сказал он.
И начал читать вслух:
«В Управление общеобразовательных школ. Настоящим частная школа Биля просит Управление о разрешении на проведение школой того эксперимента, предварительный план которого обсуждался на собрании в управлении 11 ноября 1969 года и который более подробно излагается ниже».
Он опустил бумагу.
– Вот оно – доказательство,– сказал он.
Он стал рыться в стопке бумаг, если он зачитывал что-нибудь, то медленно и с трудом, голос как будто ощупью искал слова.
«В качестве ректора частной школы Биля настоящим письмом я ходатайствую об утверждении Министерством образования прилагаемого подробно изложенного экспериментального проекта, а также о выделении Министерством средств для покрытия расходов, связанных с проведением проекта».
– Это заговор,– сказал он.– Все рассчитано. Они собрали людей. Теперь их должны уничтожить.
– Свести вместе,– поправила Катарина.– Они хотят взять детей из воспитательных домов и тюрем для малолетних преступников и поместить их в обычную школу. Сведение вместе. В этом и состоит их план.
Оскар делал мне какие-то знаки, и я услышал звук. Это лаял ротвейлер Андерсена. Однако он успокаивающе помахал мне.
Август продолжал, он полностью погрузился в бумаги: «…после совещания со специалистами в области педагогики и психологии настоящим мы просим Фонд помощи детям-сиротам о покрытии расходов в связи с приемом на работу инспектора интернатского отделения, поскольку…»
Он остановился.
– Это Флаккедам,– сказал он.– Эксперимент начинается с этого. А затем распространяется. Почему из этого делают тайну – здесь написано, что это секретно. Зачем это?
Это были те же выписки, которые лежали в его личном деле в кабинете Биля.
– Это из Государственного отдела регистрации правонарушений,– сказал я.– Должно быть, они получили одобрение Министерства юстиции, они секретные.
– Он пишет, что все это ради детей,– сказала она.– Чтобы у них была возможность как можно дольше оставаться детьми. И чтобы их не отягощала ответственность взрослых. Он всегда так считал.
– Да,– сказал я.– Это же он говорил, когда запретил создавать ученический совет.
Август теперь совсем разволновался и не мог сидеть на месте, он встал, руки его касались шкафов, он ощупью двигался вдоль них. Оскар больше не смотрел на меня, он смотрел на Катарину.
– Он пишет, что этот эксперимент опережает свое время,– сказала она.– Что он принадлежит будущему. Что он опережает общественное мнение. Поэтому лучше проводить его так, чтобы никто не знал об этом. И рассказать о нем только тогда, когда будут убедительные результаты.
Август исчез где-то в глубине склада, его не было видно, слышно было только, как он бродит где-то в темноте.
– У них ничего не получилось,– сказала она.– Они, наверное, думали, что могут помочь, сделать из школы «Мастерскую Солнца», как он говорил. Превратить ее в лабораторию, где больше не существует разницы между больными и нормальными. Вот поэтому вас и приняли. Вот поэтому появилась Хессен и проводилось это бесконечное тестирование. Вот почему они приняли на работу Флаккедама. Чтобы обеспечить безопасность.
Теперь мне были видны его глаза, где-то в темноте они вбирали в себя весь оставшийся в помещении свет, сверкая, словно глаза хищника.
– А как же звездочки Карин Эре? – спросил я.– А все полученные нами удары? А оценки и расписание? Этому-то ведь по-прежнему нет объяснения?
– Да,– сказала она.– За их планом скрывается какой-то другой. А о нем мы ничего не знаем.
– Кто же тогда знает? – спросил Август.
– Кто-то больший, чем они.
Неожиданно он оказался перед ней, я хотел что-то предпринять, но не успел. Для Хумлума это тоже было неожиданностью, он тоже не успел подняться с места.
– Нет ничего выше, чем они,– сказал Август.– Они все рассчитали. Вот почему они должны исчезнуть, любым способом…
Вот в этом-то и состояла его стратегия. Ненависть. Но она должна была быть обращена на кого-нибудь, она не могла существовать просто так, сама по себе. А те, кого ненавидишь, должны были быть ответственными. Иначе они не будут ни в чем виноваты.
– Это не поможет,– сказала она.– За ними стоит нечто большее.
У нее был очень настороженный вид. Не только из-за него, но из-за чего-то другого, чего-то вокруг нас. Она была близка к чему-то важному.
– За ними дыра!
Он прокричал это. Затем обернулся и ладонью разбил стекло в шкафу. Потом прижал ладонь к осколкам стекла, которые остались в раме, и начал поворачивать ее. Только тогда к нему подбежал Хумлум и оттащил его в сторону, потом подоспел я.
Катарина стояла выпрямившись, она не сдвинулась с места. Одной рукой я держал его, другой снял с себя рубашку, оторвал от нее рукав и обвязал ему руку. Потом он отошел от меня.
Он шел вдоль шкафов и смотрел через стекло на вещи на полках, на чучела животных. Ему надо было за что-нибудь держаться, чтобы не упасть.
– Все как дома,– сказал он,– по двенадцать штук всего, со старых времен. И все закрыто, а то испачкается. У кого-нибудь есть покурить?
Я протянул ему пачку – это была его собственная – и спички. Я спрятал их перед тем, как пришли за его вещами, после того как его положили в изолятор.
Он сам зажег сигарету, но потом она выпала у него из рук, он наклонился и поднял ее. Втянул в себя дым и закашлялся.
– Черт побери, как хорошо,– сказал он.
Он держал сигарету перевязанной рукой, повязка была уже мокрой. Когда все устроится, я сделаю ему настоящую повязку и промою рану.
– Теперь ей приходится ездить на автобусе, – сказал он,– это я про маму, хотя она это ненавидит. Стоять там, держась за поручни, к которым прикасались другие люди. Хотя она и в перчатках в сеточку. Когда я вернусь, я куплю ей машину.
Казалось, что он говорит во сне. Катарина отвела его назад к столу и усадила. На лбу у него выступил сильный пот, она одной рукой поддерживала его затылок, ладонью другой руки вытирала пот.
– Никто не имеет права трогать меня,– сказал он.
Но он не стал противиться.
Мы сидели вокруг стола. Август склонился к Катарине. Она не трогала его. Просто придвинулась поближе, чтобы ему было удобнее сидеть.
В темноте были слышны какие-то звуки, я посмотрел на Оскара Хумлума, он покачал головой.
– Еще рано,– сказал он.
Август и Катарина сидели, глядя на меня,– все было в порядке. Они меня не оценивали, не желали, чтобы я сделал что-то большее. Я привел их сюда, и все было так, как и должно было быть.
Я понял, как они по-своему чисты, и неважно, что они до этого сделали. Каждый из них по-своему попытался быть самим собой. Не то что я, который никогда ничего из себя не представлял и поэтому всю свою жизнь пытался стать другим. Чтобы попасть внутрь – в настоящую жизнь.
Я видел, что они и это понимают. Что они это понимают и что все в порядке. Что я, несмотря ни на что, все равно имею для них значение.
И тогда куда-то исчезло время. Я увидел, какой Август маленький, как тот ребенок, который появится у меня позднее, хотя он тогда и был старше. В это мгновение они оба слились в одно целое, он и ребенок, и с тех пор стало невозможно их полностью разделить.
Я протянул руку над столом и погладил его по голове, он позволил мне это сделать, под моей рукой его волосы стали теплыми и совсем мягкими. Скоро он заснул. Катарина смотрела на меня.
Я огляделся.
– Хумлум,– сказал я ей.
Она кивнула, как будто уже знала это.
– «Спасайся сам»,– это было последнее, что он сказал. Он знал, что оба мы не сможем выбраться оттуда. На школе было бы вроде как слишком большое пятно, если бы пришлось выставить нас обоих. Он стоял, держа веревку в руках. Потом он наклонил голову и прислушался к звуку поезда – он не очень хорошо видел. Однажды зимой, в туалете, он рассказал мне, что когда ему было девять лет, он жил в приемной семье на Генфоренингсплас. Его будили в половине четвертого утра и отправляли в прачечную Н. Л. Денс, где все делали вид, что ему четырнадцать лет, чтобы это не считалось детским трудом, и где он возил одежду от стиральной машины к гладильщице. Человек, работавший на стиральной машине, был пьян с раннего утра, и однажды что-то случилось с одним краном, и в глаза Хумлуму попала чистящая жидкость, и тогда его забрали из семьи. Но с тех пор он довольно плохо видел, поэтому он определял поезд по звуку, и сейчас тоже.
– Я останусь здесь,– сказал я.– Если ты никуда не поедешь, я тоже останусь здесь.
Он улыбнулся, он меня не слышал – был уже в другом мире.
Вообще-то он оттолкнулся, как обычно, правильно рассчитав время. Но к концу своего полета он задержался и повис. Это последнее мгновение своей жизни он растянул на такое долгое время, что оно задержало обратный полет, но наконец он, словно маятник, двинулся назад – и тут подошел поезд.
Катарина ничего не сказала, она просто кивнула.
Я не поднимал взгляд на Оскара, это было лишним, мы оба знали, что надо было рассказать ей всю правду.
Август что-то произнес. Из-за температуры это прозвучало так, как будто он находился где-то в дальней комнате.
– Может, бывает так, что ты рождаешься не в той семье,– сказал он.– Может, надо было бы тебе оказаться в другом месте.
Это он сказал, но мы все подумали об этом, все четверо, и Оскар тоже.
– Можно ли изменить то, что было? – спросил он.
Это был такой мирный вопрос. Словно ребенок задает вопрос своей матери, и все-таки скорее на равных. Так она и ответила ему.
– Тогда,– сказала она,– когда это случилось с моими родителями, мне казалось, что никогда не перестанет быть больно. Что радость никогда не вернется. Но теперь стало лучше, теперь она все-таки иногда приходит. Так что в каком-то смысле можно.
– А то, что ты сделал с другими?
На это она ему не ответила. Где-то в темноте залаяла собака.
– Я боюсь собак,– сказал он.
* * *
Мне захотелось почитать им.
В школе «Сухая корка» нам не читали вслух, считалось, что от чтения становятся неженками, в интернате Химмельбьергхус тоже так считали. Но в Общине диаконис нам читали.
Узнав, что такое чтение, я уже не смог забыть о нем. Мне было все равно, что читали: сегодняшнюю проповедь из Христианской газеты по утрам или Библию по вечерам – я так ждал этого. Читала управляющая, сестра Рагна, она стояла с книгой в конце спальни. Это помогало заснуть. Всегда самым трудным было войти в ночь. Когда светло, легче удерживать все на расстоянии. Когда становится темно, все обрушивается на тебя.
Я хотел почитать им вслух. Именно сейчас для Августа наступал самый тяжелый момент дня. И у нас не было для него никаких лекарств. Мне хотелось смягчить его путь в темноту.
У нас был «Мир природы», но читать это было невозможно. И единственное, что пришло мне на ум, была Библия, но это тоже не годилось – слишком уж это было близко к диаконисам и к Билю.
Тогда я решил говорить о том, что приходило на ум.
– Мы возьмем корабль,– сказал я,– достаточно большой, чтобы на нем можно было жить, и поплывем на юг, где становится теплее. На корабле невозможно никого исключить, у тебя всегда есть право быть там, где ты есть, и все всегда вместе. По вечерам мы можем сидеть и слушать, как плещется вода. Когда мне исполнится двадцать один год, мы тебя усыновим.








