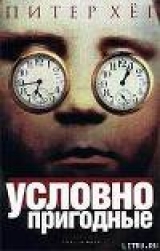
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
На следующую ночь я написал письмо своему опекуну, на это ушло полночи, я подробно написал о том, что мне необходимо выйти отсюда, хотя бы на несколько часов как-нибудь днем, чтобы увидеть, где похоронен Август,– можно ли это устроить?
Ответа я не получил. Когда прошла неделя, я позвонил ей в кабинет, уже по ее голосу было ясно, что это исключено.
– Он похоронен в общей могиле на кладбище Биспебьерг,– сказала она,– так решили родственники, там нечего смотреть.
– И все-таки мне это надо,– настаивал я.
Охранник разглядывал меня, разрешение на выход давали очень редко, и только при согласии опекуна и учреждения и в сопровождении охранника.
– Ты совсем не понимаешь, в каком ты положении,– сказала она.– Самое раннее через полгода.
На следующий день я отправил ей еще одно письмо, я спрашивал ее: не может ли она снять три фотокопии с того листка, который я ей посылаю, тогда я ей буду всю жизнь благодарен, и не могла бы она послать мне их назад в конверте Совета по вопросам охраны детства?
Письмо от нее пришло два дня спустя, может быть, она хотела хоть что-то сделать, раз уж не смогла помочь мне получить разрешение на выход, думаю, что так; этой мелкой услугой она как бы просила прощения.
Все личные письма вскрывались и проверялись перед выдачей на предмет наличия наркотиков, но поскольку она послала официальный конверт, мне его выдали невскрытым.
На следующий вечер я ненадолго ушел из интерната.
Была пятница, в Сандбьерггорде устроили праздник, играл оркестр, пригласили исправительное учреждение для девочек из Раунсборга. Приехали пятнадцать девочек и с ними двадцать женщин-педагогов и ассистентов, впервые за всю историю интерната сюда приехали девочки – все в результате новых веяний в педагогике.
Все их внимание было направлено на актовый зал, где играл оркестр, и на то, чтобы никто не пил и не нарушал другие правила. Они даже не могли себе представить, что кто-либо в такой момент попытается уйти из школы.
На воротах была охрана, но это мне не помешало, обычно забор освещался, но они перенесли все прожекторы в зал для освещения сцены. Все вокруг было окутано темнотой, времени у меня было достаточно.
В наружном и внутреннем заборе были двери, на обеих были обычные висячие замки, усиленные цепью. С собой я на всякий случай прихватил маленькую дрель из мастерской, при помощи этой дрели я и высверлил их.
Из интерната я пошел на Калунборгское шоссе и поднял руку – слишком рискованно было ехать на автобусе, у интерната была договоренность с транспортной компанией Западной Зеландии о том, что они будут сообщать обо всех тех, кто похож на интернатских и кто сел в автобус поблизости от Раунсборга.
Мне попались два хороших водителя и один плохой,– когда он положил руку мне на колено, я сказал:
– Сейчас я засуну палец в рот, меня вырвет, и я испачкаю всю твою машину– Это заставило его отпрянуть; как правило, такое помогает.
Меня высадили на Олекистевай, остаток пути оттуда я шел вдоль озера Дамхуссёэн.
Было не холодно, скорее тепло, сумерки опустились совсем недавно, и хотя уже стало темно, свет еще не полностью исчез, а был словно окутан ночью. Так я думал. В жизни, наверное, всегда бывают светлые ночи, но наступает момент, когда ты впервые осознаешь это,– со мной это произошло в ту ночь.
Ворота в парк были закрыты, но не была закрыта маленькая калитка, я прошел мимо склада, который был отремонтирован и покрашен, на ближайших деревьях были следы огня, в остальном все было как и раньше.
В жилом корпусе нигде не горел свет, ни у Флаккедама, ни в комнате нового инспектора, в главном здании было освещено лишь одно окно – наверху, в квартире Биля.
В двери под аркой поставили новый замок, я пытался воспользоваться своей копией из тонкой пластинки, она не подходила, тогда я высверлил замок по краю цилиндра – на это ушло не более пяти минут. Поднимаясь по лестнице, я попробовал открыть несколько дверей, ведущих в коридоры,– все замки были заменены.
Ясно было, что заменили их после того, что случилось с нами. Они их переделали, чтобы поскорее забыть нас и начать все сначала.
Я поднялся на шестой этаж и открыл дверь в коридор при-помощи дрели, потом пошел в зал для пения, прошел мимо Деллинга, который открывает врата утра, а оттуда через маленькую дверь – в кабинет Биля, тот, из которого он по утрам выходил, чтобы подняться на кафедру.
Помещение было таким, каким я его запомнил. Но в замок деревянной шкатулки был вставлен ключ, я посмотрел внутрь – там ничего не было. Теперь она стояла просто для красоты, бумаги перенесли в более надежное место, это было разумно: я никогда не понимал, почему их хранили у всех на виду.
Я сел за его письменный стол, не на его собственный стул, а на тот, который предлагали взрослым посетителям, у него были подлокотники и обивка. Бумаги были у меня в ботинке, между внутренней и наружной подошвами, я достал их и разложил на столе. С улицы проникало достаточно света, чтобы разобрать то, что там было написано. От луны и звезд и окутанного ночью света дня.
Это были листки формата А-4, тесно исписанные и заполненные на три четверти черными чернилами, это было написано рукой Биля, он всегда пользовался автоматической ручкой и черными чернилами.
Эта бумага была целиком и полностью сделана из тряпья.
Заметить это было нельзя, на ощупь она была как обычная бумага, только толще, но нам об этом рассказывали. Биль говорил, что одним из признаков современного разложения является то, что качество бумаги становится все хуже и хуже. Для особо важных документов: аттестатов, табелей с годовыми оценками, рекомендаций и характеристик на учеников и учителей – в школе использовалась бумага исключительно из тряпья и с водяными знаками, при этом и для оригиналов, и для копий, которые вместе с экзаменационными работами по требованию Министерства образования должны были храниться в архиве по меньшей мере десять лет после окончания учеником школы, такая бумага не выцветает, как говорил Биль.
Если поднести листок к окну, станут видны водяные знаки: вороны Одина – Хугин и Мунин.
Над воронами струились написанные черными чернилами строчки, это были цифры, буквы и символы, на всем листке не было ни единого слова. Цифры были, несомненно, датами, напротив каждой даты было несколько букв и один символ: косая черта, или крестик, или изредка кружок. Первая дата была 4 августа 1970 года.
В какой-нибудь другой момент жизни я бы не понял этого списка, я бы увидел его и не разобрался бы в нем, а потом бы забыл о нем. Было ясно, что он как-то связан с двумя последними учебными годами, первая дата обозначала день, который был меньше чем через неделю после начала прошлого учебного года. Кроме этого, никакого смысла в этом списке не было. И тем не менее я понял его в тот же момент, когда впервые увидел его под чистыми листками школьных бланков из тряпья, а Август сидел на стуле, погрузившись в дрему, и был еще жив.
Дело было в том, что список этот попал мне в руки в тот момент, когда я постоянно думал о времени. Когда я запоминал все те даты, когда опоздал или сдал работу с опозданием, и когда я увидел Катарину во дворе, и когда Август появился в школе и начал проявлять себя не с лучшей стороны.
Все это я пытался тогда запомнить, что еще остается делать, когда время грозится уйти от тебя,– ты пытаешься помнить все, чтобы удержать его. Я был в отчаянии – и многие даты вошли в мою память, а некоторые из них остались там навсегда. На листке Биля я увидел мои собственные инициалы, я узнал их, потому что они стояли напротив тех дней, когда меня вызывали в его кабинет. Я увидел и инициалы Августа и Катарины, и то, сколько раз они бывали в кабинете, Катарина – два раза, те два раза, которыми она должна была воспользоваться, чтобы понять Биля и чтобы увидеть, как работает коммутатор и вычислить, где находится звонок.
Напротив ее имени и наших с Августом везде стояла косая черта, за исключением одного места, 9 сентября, там напротив моего имени стоял крестик, это был первый и единственный раз, когда Биль меня ударил,– тогда было замечено, что менее чем за двадцать учебных дней я шесть раз пришел с опозданием.
После инициалов он каждый раз отмечал, из какого класса этот ученик, я понял, что К. С. означает Карстен Суттон, его имя много раз встречалось в списке, просто рекордное число раз, и везде рядом с ним стоял крестик. Всем было известно, что его не вызывали в кабинет просто так,– каждый раз он по меньшей мере получал затрещину.
Его исключили в ноябре 1970-го, за тот случай с растворителем и все, что последовало потом. За день до этого я видел, как он выходил из кабинета Биля, тогда я впервые видел, как он плачет,– трудно было представить, что он вообще может плакать. У Биля была маленькая указка из стеклопластика, которую он носил с собой, когда требовалось что-нибудь показать на карте мира; у нее была пробковая ручка, похожая на ручку удочки, он предпочитал ее тем негнущимся деревянным указкам, которые лежали в классах. Говорили, что он поработал своей указкой, наказывая Суттона.
В тот день напротив инициалов Суттона и отметки, что он из девятого класса, стоял кружок.
Когда я появился в этой школе, заговорили о том, что Министерство образования направило в школу рекомендацию об организации полового просвещения учеников. Учителя пришли к выводу, что этой рекомендации они следовать не будут. Биль заявил об этом прямо, вместо этого каждый учитель мог по своему усмотрению поднимать эту тему, если она, по его мнению, естественным образом вписывается в темы его уроков.
Это означало, что на эту тему никогда не говорили прямо. Однако были разные намеки на уроках Биля по греческой мифологии, когда он рассказывал о Зевсе и тех, кого он изнасиловал, и особенно на уроках Фредхоя, когда он, например, читал о человеке, который убивал своих жен. Именно Фредхой рассказал об онанизме Х.-К. Андерсена и отметках в его дневнике.
Это были тайные символы. Каждый раз, когда Х.-К. Андерсен занимался онанизмом, он делал отметку в своем дневнике.
В каком-то смысле это было похоже на те значки, которые ставил Мадвиг.
Стуус, учитель латыни, так же как и Биль, получил университетское образование, таким образом, он имел, пожалуй, даже слишком высокую квалификацию. То, что в школе работал такой учитель, как он, кое-что говорило о качестве преподавания в школе. Он преподавал только в старших классах, кроме латыни еще и французский, но иногда он кого-нибудь у нас замещал. Он не мог вспомнить ни одного имени, не мог запомнить, в каком классе он в настоящий момент находится, но все понимали, что если оставить его в покое, он не причинит никакого вреда.
Он рассказал о Мадвиге. Мадвиг был датским филологом и занимался политикой в области образования в прошлом веке, благодаря его трудам по греческому и латыни Дания стала известна во всем мире. Стуус сказал, что Мадвиг никогда не бывал в Греции и только один раз – в Италии; казалось, что его интересуют не столько страны и люди, сколько вымершие языки. У него был большой греческий словарь, он сохранился, в этом словаре он каждый раз, когда первый раз смотрел новое слово, ставил рядом с ним синюю точку, если ему приходилось смотреть слово второй раз, он ставил красную точку. Во всем словаре можно найти только несколько красных точек.
Х.-К. Андерсен и Мадвиг – оба они вели тайный счет. Их понимаешь мгновенно, и все же трудно точно сказать, что именно они регистрировали. Нечто, связанное со стыдом, любовью, временем, контролем и воспоминаниями. И возможно, определенное желание создать документальное свидетельство своей слабости, своей болезни. Тайное удовольствие от одинокого вожделения и от одинокой забывчивости и памяти.
Список Биля был тайным отчетом о том, каких учеников он наказывал. С указанием даты и характера наказания. Существовало три возможности – бумага зарегистрировала три формы. Устный выговор. Обычный удар. И нечто экстраординарное – порка, ее обозначал кружок.
Когда от Биля потребовали объяснений в связи с тем, что у Йеса Йессена заболело правое ухо и врач заявил, что, похоже, это следствие повреждения наружного уха, и почему в течение шести недель его не могли отвести в травматологический пункт, то Биль объяснил, что все произошло спонтанно. Если кто-нибудь из учеников получает оплеуху, это происходит неожиданно, без предварительного расчета. Возможно, это и не лучшее решение – с этим он согласен,– но потом, по его словам, воздух становится чище, и если спросить детей, то они скажут, что предпочитают такое наказание более долгосрочным мерам.
И все-таки он вел счет. Внутри себя он чувствовал потребность иметь полное представление о происходящем и наблюдать доказательство того, как связаны время и наказание в его собственной жизни. Возможно, чтобы гарантировать себя от слишком частых наказаний, или, может быть, чтобы лучше знать, каким ученикам это было необходимо много раз, или, может быть, просто из потребности упорядочить время, или, может быть, повинуясь определенному желанию, или же по всем этим причинам сразу.
Отметки Х.-К. Андерсена, точки Мадвига, символы Биля. Нечто, связанное со временем, улучшением, контролем, воспоминаниями. И желанием.
Как будто часть их природы пыталась остановить другую часть. Вести своего рода наблюдение за ней.
Все они подвергали себя определенному риску, делая эти заметки, особенно Биль. Казалось, что какая-то часть его стремилась к разоблачению.
Как будто это разоблачение было частью всего замысла.
В датской школе запрещено бить учеников, тогда уже было запрещено, этот запрет действовал со времен циркуляра Министерства образования о мерах по обеспечению порядка в школах от 14 июня 1967 года, сменившего циркуляр от 1929 года (с дополнениями 1945 года), в котором утверждалось, что учителя должны трогать учеников как можно меньше, чтобы не возникало недоразумений, желательно только в связи с хорошей оплеухой.
Датские частные школы подчинялись общему датскому школьному законодательству, более восьмидесяти процентов их расходов покрывалось дотацией государства. Регулярно, несмотря ни на что, наказывая учеников физически, школа и в первую очередь Биль подвергали себя риску – он не мог не понимать этого. Ученики же не осознавали этого, как и родители, школа была закрыта от окружающего мира: о происходящем внутри знали на самом деле только мы, учившиеся в ней. И даже мы пребывали в некотором неведении. О том, что происходило в кабинете Биля, или в кабинете Фредхоя, или на уроках Карин Эре, не говорили, это оставалось между учителем и учеником.
И тем не менее, хотя так мало людей было в курсе дела, они должны были знать, что подошли очень близко к краю.
Я позвал его по переговорному устройству.
Это была серая коробка, я видел ее и раньше, хотя не обращал на нее особого внимания, размером она была не более телефона. На ней были бороздки, в которые надо было говорить и через которые надо было слушать, и пронумерованные кнопки, всего шестьдесят три, очень маленькие. На столе лежал напечатанный на машинке список, где было написано, какому номеру какое помещение соответствует, похоже было, что имелись кнопки для всех помещений в школе.
Из аппарата выходили три провода: один шел к контакту, это было электричество, второй шел к коробке на стене и, должно быть, был связан с громкоговорителями во всех школьных помещениях, третий шел по полу вдоль панели, потом вверх вдоль двери и выходил через стену. В коридоре он, должно быть, уходил в потолок, наискосок, через стену, и шел к часам с маятником «Бюрк», от которых шел импульс, когда должен был звенеть звонок с урока и на урок.
Когда установили громкоговорители, Биль сказал одну вещь – это было во время утреннего пения,– он сказал, что звук у электронного звонка более приятный.
Напротив номера 23 на листке было написано «Частная квартира», я нажал на эту кнопку, кнопка застряла, но ничего не изменилось. Сверху были два контакта, темный и чуть светлее. Когда я нажал на более светлый, я попал в квартиру Биля.
Сначала ничего не было слышно, только шипение, но тем не менее я был уверен, что попал в его квартиру.
Невозможно было представить себе, как там все выглядит, никто никогда там не был, мне показалось, что там должны быть большие комнаты и свет. Ощущение, что это дом, даже сейчас, когда его дети выросли, было очень явственным. У него было трое детей, все они были учителями, работали в школе, они были бледные и тихие, как будто им в свое время не хватило света. И тем не менее его дети. Я вслушивался, я оказался в семье.
Потом раздался стук одного фарфорового предмета о другой, чашку поставили на блюдце, очень близко от моего уха. Он откашлялся. Он был один, я слышал это. Он и понятия не имел, что я слушаю его. Так уж было устроено это оборудование, можно было слушать, притом что тебя самого не слышно. Так он и сам, наверное, сидел и слушал, что происходит в классах.
Я нажал на темную кнопку, и под бороздками зажглась маленькая зеленая лампочка.
– Извините,– сказал я.
Сначала стало совсем тихо. Потом я почувствовал, что он подошел вплотную к микрофону.
– Питер,– сказал он.
Он был великолепен. Почти никакой реакции, он просто спокойно наклонил голову и принял на себя вызов.
– Надеюсь, я не помешал,– сказал я.
– Ты один?
На этот вопрос я не ответил.
– У меня есть одна бумага, которую мне бы хотелось вам предъявить,– сказал я.
Он пришел через минуту, один, он был в подтяжках. Те же серые брюки, что и всегда, и белая рубашка, но без пиджака. Свои часы он переложил из пиджака в карман брюк – была видна цепочка.
Он остановился посреди комнаты. Наверное, никогда до этого не было так, что он входил в дверь, а кто-то другой уже ждал его.
Он зажег свет, сразу же нашел глазами бумагу, он все время знал, что речь пойдет о ней.
– Дай ее мне,– сказал он.
Я протянул ему список. Он сложил его и порвал, снова сложил и снова порвал, и снова сложил и порвал, и положил обрывки в карман.
– Это вы разрезали мой портфель? – спросил я.
Он не ответил, это уже и было само по себе ответом.
Я снова дал ему список.
– Это копии,– сказал я,– фотокопии, оригинал я только что убрал назад в ботинок, дома у меня есть еще копии.
Он напряженно ждал.
– Если Совет по вопросам охраны детства увидит его,– сказал я,– с соответствующими разъяснениями, то они обратятся в Министерство образования. Они захотят встретиться с вами, школьным советом и родительским комитетом. А потом они начнут допрашивать всех учеников из списка и доберутся до Карстена Суттона, а потом и еще дальше – до Йеса Йессена, и меня тоже будут допрашивать, будет длинный ряд очных ставок, которые приведут к катастрофе,– что можно сделать, чтобы избежать этого?
Это было невозможно вынести. Всю свою жизнь он трудился, борясь за эту школу – как это было известно из его мемуаров – и чувствуя, что его деятельность соответствует духу времени и вечным ценностям. Он внутренне был убежден, что делает это во имя добра. И тем не менее все закончилось так.
Трудно было сказать, чья это ошибка, даже сегодня я этого не знаю, даже управление едва ли оказалось бы в состоянии распутать нити и определить, чья это вина.
У него был измученный вид. В свое время он часто говорил нам о Боге. Но я думаю, что ему никогда до настоящего момента не приходилось так ясно ощущать, как над ним брали верх какие-то намерения или какой-то план, более значительный, чем он сам.
Он оказался перед лицом того, что, как он сам говаривал, было отвратительнее всего на свете,– замалчивание и сомнение. На него было невозможно смотреть. Он считал, что всю свою жизнь боролся за добро. И вот что получилось.
– Я хочу, чтобы меня усыновили,– сказал я.– «Материнская помощь» сделает запрос о характеристике на меня. Я бы хотел попросить, чтобы она не была уж очень плохой.
Он ничего не ответил, а повернулся и ушел, оставив меня одного. Я задержался там только на минуту, немного посидев, глядя на небо. Потом я ушел – ведь это был его кабинет, у меня не было никакого права там быть.








