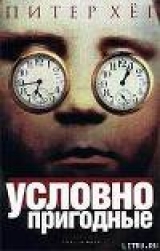
Текст книги "Условно пригодные"
Автор книги: Питер Хёг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Может быть, он и не слышал меня, может быть, он спал, как и положено, но Катарина услышала меня.
То, что ты себе представляешь, как правило, не похоже на действительность. Обычно все оказывается хуже. Это мгновение было точно таким, каким я его себе представлял. Я так и представлял себе: семья соберется вместе. Именно вот так.
– Мне жаль, если я сделала вам больно,– сказала она.
– Не думай об этом,– сказал я.– Все ведь кончилось хорошо. Но как насчет твоего отца и матери?– спросил я.– И что же эксперимент?
– Наверное, я думала, что снова смогу увидеть их,– ответила она.– Но это невозможно. Это была лишь фантазия. И все-таки эксперимент заканчивается. Во всяком случае, первая его часть.
Мне не хотелось быть слишком навязчивым, и я не стал спрашивать почему. Но она поняла мой вопрос, хотя он и не был задан. В нашем нынешнем положении не было нужды так много говорить.
– Время – никакой не закон природы,– сказала она.– Оно есть план. Если посмотреть на него внимательно или начать прикасаться к нему, то оно начинает распадаться. Это результат первой части опыта. Этот план не может иметь отношения к Билю. Слишком уж он великий и всеобъемлющий. Вторая часть – это исследование того, что находится за временем. Мы увидели, как его части начинают расходиться. Дальше надо понять, что находится за ним.
Стоило на нее взглянуть, как это становилось ясно – ей обязательно нужно было получить ответ. Это была потребность, с которой она сама ничего не могла поделать. Это я и хотел сказать ей, но не было возможности.
Август сильно дрожал, она сняла с себя свитер и закутала его.
– Если ты сядешь сюда, нам будет легче согреться,– сказала она.
Она обнимала Августа, а я прислонился к ней. Я все-таки сказал ей это, слова получились сами собой, с этим ничего нельзя было поделать, я сказал, что люблю ее. Впервые в жизни я произнес это.
Я понял, что слова эти относятся и к Августу. Что нельзя сказать такое женщине, чтобы это одновременно не касалось и ребенка.
Она ничего не ответила. Но в этом и не было необходимости. Я давал, не требуя ничего взамен.
Мы все втроем, должно быть, спали, когда он заговорил, это по-прежнему звучало как во сне.
– В другой раз,– сказал он,– надо будет побольше их помучить. А то все было так быстро.
Я всегда знал, что он человек конченый.
15
Именно Катарина заметила это, она взяла меня за руку.
– Он исчез,– сказала она.
Туман рассеялся, и от звезд и снега стало светло. Мы пошли по его следам, на снегу были капельки крови. По пути нам попалась его повязка.
В школе нигде не было света, здание было темным, окна – черными. Так все выглядело в те ночи, когда мне не спалось. Он прошел через южный двор вдоль стены. Проник внутрь, выдавив стекло в двери. Мне всегда казалось, что очень неразумно делать щеколду у застекленной двери.
Мы поднялись на шестой этаж. Он оставил дверь открытой и не погасил свет в кабинете, но задернул занавески. Это были темные и плотные занавески – некоторые из тестов, например прогрессивные матрицы Равена, показывали на экране со слайдов.
Сначала было тихо, потом в коридоре послышались их шаги.
Мы почувствовали запах сигары Биля. Потом наступила короткая пауза, а потом появился он сам. Он шел, как будто что-то разыскивая: его голова была у самой земли. Невозможно было представить себе, что он может так низко склониться,– он всегда держался прямо. Он был в халате, правая рука была вытянута назад. Она последней показалась в дверях, за ней появился Август. Он держался за три пальца Биля – они были сломаны.
За Августом появилась жена Биля Астрид, она, как всегда, была похожа на скандинавскую богиню: прямая, с серебристыми волосами и величественная.
Лихорадка покрыла пеленой глаза Августа. Видно было, что он очень напуган. Словно маленький ребенок. Но при этом полон решимости. Он тоже обратился теперь к боли. Чтобы стереть ее с лица земли.
– Хорошо, что вы пришли,– сказал он.
Он сказал это, не узнавая нас. Мы стояли в трех метрах от него. На таком расстоянии он уже больше нас не видел.
Он дал Билю немного поднять голову.
– Пришли мои мама и папа,– сказал он.– Чтобы забрать меня.
Биль не смотрел на нас. Все его внимание было сосредоточено на Августе.
– Ты прекрасно знаешь, что случилось с твоим отцом и матерью,– сказал он.
Август, казалось, даже не пошевелился, но послышался эластичный щелчок, когда один из пальцев Биля сломался в новом месте. Он упал на колени.
Август же был невозмутим.
Левую руку он держал так, как будто что-то в ней прятал. Я немного подвинулся, чтобы лучше видеть, он, должно быть, заметил мое движение, потому что вытянул руку вперед. В руке была зажженная сигара Биля. Кроме этого, двухлитровая бутылка с бензином, по-видимому, он нашел ее на складе. Бутылка была с пробкой, между пробкой и стеклянным горлышком был засунут кусочек его повязки.
– Это как фитиль,– сказал он.– Если я поднесу к ней сигару и разобью бутылку, то мы взлетим на воздух.
Астрид Биль посмотрела на мои босые ноги – я был без носков.
– Я ушибся,– сказал я,– и не могу надеть ботинки. Это больше никогда не повторится.
Они ничего не сказали. Может быть, поскольку синяки свидетельствовали о том, что я говорю правду, может быть, потому что ничего не могли сказать.
– Мы сейчас пойдем,– сказал Август Билю.– Нам надо домой. Но перед тем, как мы пойдем, ты должен сделать признание.
Все молчали.
– Я бы мог остаться дома,– продолжал он.– Нам было хорошо, мы могли бы сидеть по вечерам, как мы только что сидели. Не слишком близко друг к другу, никто ни к кому не лезет, совсем не обязательно приставать друг к другу. И все же вместе, в тишине и покое. Если кто-нибудь хочет порисовать, он просто берет карандаш и бумагу, и никто не возражает. Никто не говорит о твоих оценках. Никого не бьют. И тут тебя притаскивают сюда. По ночам тебя привязывают, днем позади тебя сидит Флаккедам. Расскажи маме, как все может кончиться.
Поскольку Биль стоял на коленях, его лицо было на одном уровне с лицом Августа.
– Мы хотели как лучше,– прошептал он.
Еще один палец хрустнул.
Губы Биля вдруг стали похожи на наждачную бумагу, серые и словно посыпанные сухими крупинками. Он посмотрел Августу в глаза.
– Мы хотели помочь,– сказал он.– Не только детям света. И вас мы хотели увести. Из домов призраков в страну живых. Мы хотели собрать всех в датской школе. И тех, кому очень плохо, но кто имеет право на свет.
Тело Августа теперь сильно дрожало, лицо тоже стало дергаться, казалось, он все время корчит гримасы. Только рука, сжимавшая пальцы Биля, не двигалась. В ней сконцентрировалась вся оставшаяся в нем жизнь.
– А как же тьма внутри людей? – спросила Катарина.
– Свет разгонит ее,– ответил Биль.
Август наклонился к самому его уху. Они походили на двух людей, ведущих доверительную беседу.
– Так много света не может быть,– прошептал он.
Он посмотрел на Катарину. Теперь она стояла в полуметре от него, но было видно, что зрение подводит его. Протянув руку, он коснулся ее. Он дотронулся до нее левой рукой, той, в которой были бутылка и сигара. Тыльной стороной ладони он провел вверх по ее шее и щеке, огонек сигары, дым и бутылка оказались в воздухе на уровне ее глаз. Она не пошевельнулась.
– Скоро все кончится,– сказал он.– И тогда я вернусь к тебе. И мы будем сидеть, как мы сидели раньше. И Питер будет с нами. Он сейчас с тобой?
– Да,– ответила она.
– Можно мне оставить бумагу и карандаши?
– Да,– ответила она.
Его рука скользнула вниз по ее щеке.
– Вы подождете меня здесь? – спросил он.
Она не смогла ответить ему.
– Больше не надо ездить на автобусе,– сказал он.– Я купил тебе машину. Она стоит внизу.
Он повел Биля к двери.
– Август! – крикнула она.
Он остановился.
– У них есть дети,– сказала она.– Он – чей-то отец.
На это он ничего не ответил. Он просто вывел Биля из двери, и они исчезли.
Тогда Астрид Биль повернулась и вышла в коридор. Где-то открылась дверь. Мы услышали, как она зашла в соседнюю комнату. Ту, где висели школьные часы. Наверное, они починили замок. Все звуки были очень хорошо слышны: шарканье ее босых ног по полу, тихий скрип, когда она выдавила стекло. Потом завопила сигнализация.
Это был тот сигнал, который обычно звучал из всех громкоговорителей. Но на этот раз он то включался, то выключался, то включался, то выключался, он был невыносим, мы вышли в коридор, чтобы спрятаться от него, и зашли в учительскую.
Было темно, только свет заснеженного парка, звездного неба и огней Копенгагена проникал в комнату. Мы подошли к окну.
Они приехали довольно быстро. Астрид Биль, должно быть, встретила их в воротах. Когда зажгли прожекторы, она несколько раз мелькнула в их свете, по-прежнему в ночной рубашке.
Они поставили машины полукругом, не выключая фар, и включили прожекторы. Здание склада стало черным центром посреди белого снега. На какое-то время все замерло. Потом подъехали еще машины, внизу на снегу появился Фредхой. Потом все затихло. Очень резкий свет, но ничего больше. Пауза.
Потом появился Биль. Он появился из-за сарая, он был один, но по-прежнему шел сгорбившись. Его халат наполовину сполз с него, он был полураздет. Так он и бежал навстречу прожекторам.
Потом появился огонь. Собственно говоря, даже не взрыв, не что-то резкое, просто все мгновенно загорелось. Сначала вспышка от бутылки Августа, потом взрывная волна, когда на воздух взлетели канистры с бензином для газонокосилок, она сначала выбила окна и двери, затем подняла крышу, так что появился доступ кислорода,– все было кончено за минуту.
Там, где мы стояли, на самом верху, мы конечно же не чувствовали тепла, да и не слышали почти ничего.
И все-таки это не помогло, хотя мы крепко обняли друг друга и закрыли глаза, это не помогло. Свет проник через веки, все продолжалось только мгновение, но все же запечатлелось в мозгу. Во всем теле появилась боль. Как будто этот пожар все-таки добрался сюда и сжег наружный слой кожи, так что мы стали двумя ожоговыми ранами, двумя обгоревшими зародышами, приникшими друг к другу.
Я ничего не хотел видеть. Когда я все-таки открыл глаза, я посмотрел на лицо Катарины. Оно было обращено к окну. Оно было сморщенным, как у ребенка в кувезе. Боль брошенного новорожденного на старческом лице.
Но одновременно даже в тот момент – я это и сейчас помню – где-то в глубине, но все же вполне отчетливо: внимание, желание понять.
III
1
Сначала они перевели меня в Ларе Ольсенс Мине, Энгбэкгор, 2990, Ниво. Там я подготовил первый проект своего сообщения о случившемся.
В Ларе Ольсенс Мине находилось первое в стране закрытое отделение для детей моложе пятнадцати лет: по периметру высокая стена, внутри никаких ручек на дверях, маленькое окошко с решеткой под потолком, привинченные к полу стол и скамья, а чтобы попасть в туалет, надо было вызвать надзирателя, нажав на кнопку.
Для того чтобы поместить туда ребенка, необходимо было получить особое разрешение управления. Сажали туда самое большее на два месяца – таков был закон. Однако в моем случае от правил отступили, поскольку имела место смерть товарища: я просидел шесть месяцев и одиннадцать дней в строгой изоляции. Это не могло на мне не отразиться.
В то время не боялись использовать строгую изоляцию. Считалось, что она имеет могучее воспитательное воздействие, подобно ожиданию перед кабинетом Биля. Представитель управления сказал, что теперь у меня будет достаточно времени для самонаблюдения.
В интернате Химмельбьергхус и в королевском воспитательном доме часто изолировали, запирая в разных местах, в основном в подвалах, но случалось, что и в других местах. В воспитательном доме было установлено наказание за троекратное опоздание: тебя ставили «часовым» в пустом хозяйственном чулане под портретом короля Фредерика и королевы Ингрид. Приходилось стоять с восьми часов утра до шести вечера, но хотя ты и находился в темноте в положении «смирно», это конечно же не могло сравниться с шестью месяцами и одиннадцатью днями.
И все же это можно было выдержать – многим до меня удавалось. Но когда меня перевели в Ларе Ольсенс Мине, я был, по-видимому, сломлен всем тем, что произошло, и тем, что я, привыкнув говорить с Катариной и Августом, был теперь лишен этой возможности.
Если тех, кто тебя слушает и кто является твоими друзьями, все равно должны забрать от тебя, то лучше было бы никогда их не знать.
С тех пор мне бывает трудно выносить закрытые двери и оставаться в комнате с другими людьми. Много лет спустя, после того как меня усыновили и когда я получил образование, окончив университет, я пытался работать: я преподавал на кафедре физкультуры университета в городе Оденсе. Я проработал там полтора года – и больше не смог. Меня то и дело мучил страх, что меня, как тогда, оставят одного: стоило мне оказаться перед двадцатью студентами с грузом ответственности на плечах, как начинало казаться, что сейчас они тебя оставят и запрут за собой дверь и не найдется даже кнопки, чтобы можно было вызвать надзирателя. К тому же я очень боялся опоздать и поэтому приходил за много часов до начала занятий, и все равно страх не покидал меня – через полтора года мне пришлось отказаться от работы.
Если бы меня не ввели в лабораторию, было бы трудно или даже невозможно жить в обществе и найти себе какое-то место в окружающем мире.
Здесь дверь тоже закрыта. Но я заключил договор с ребенком. Нам обоим трудно мириться с закрытыми дверями. Договор состоит в том, что если станет слишком тяжело, разрешается постучать и сказать об этом. И тогда другой откроет дверь в комнату того, кому плохо.
Срок моего пребывания не был определен. И все же я нашел выход – это были книги. Я нашел книги, и с их помощью я подготовил сообщение о случившемся в форме речи. Я знал, что когда-нибудь состоится очная ставка.
Очная ставка была установленной практикой в управлении. Если в учреждении были выявлены случаи насилия или злоупотребления или же имелось подозрение в каком-нибудь другом должностном преступлении и показания взрослых противоречили показаниям детей, тогда устраивали очную ставку – таково было правило.
Таким образом можно было уничтожить все сомнения. Таким образом можно было узнать полную и окончательную правду о том, что произошло. Чтобы выяснить, кого надо привлечь к ответственности, и чтобы виновные понесли наказание.
Думая об этом, я и готовил свою речь. Я представлял себе, что она будет обращена к Билю, Фредхою и Карин Эре, и к представителям управления, и к Катарине.
Я представлял себе, что каким-то образом и Август тоже будет там. Хотя это и была безумная мысль.
В качестве оправдания я просто хочу указать на то, в каких условиях проходила моя работа. Я более уже не отличал день от ночи.
Теперь, спустя столько времени, становится ясно, что мы действительно почти обо всем догадались.
У них был грандиозный план. Собрать всех детей в датской школе, и дефективных, и правонарушителей, и тупых – всех, вплоть до слабоумных. Частная школа Биля должна была стать моделью этого объединения. Школа должна была стать лабораторией, мастерской для изучения того, как должно происходить объединение. Того, какие меры безопасности, психологическая помощь, дополнительные занятия потребуются.
Жесткими и надежными рамками для проведения этого эксперимента должны были стать школьный порядок и точность.
За последние несколько лет мне постепенно удалось найти большинство документов тех лет. Некоторые из них находятся в Управлении общеобразовательных школ, некоторые в Педагогическом институте, в Фонде помощи детям-сиротам королевы Каролины Амалии и в Высшей педагогической школе на Эмдрупвай.
В них говорится о том, что с 19б4 по 1974 год осуществлялось пятьдесят четыре крупных эксперимента по интеграции больных учеников в датскую школу. Пятьдесят четыре.
Но даже сегодня, на расстоянии, эксперимент в школе Биля кажется чем-то особенным.
* * *
Когда я читаю их ходатайства тех лет о финансировании и поддержке проекта, я их не понимаю.
Они – словно воспоминания Биля. Такие текучие. Полные самых хороших побуждений. И тем не менее как будто без всякой связи с тем, что действительно происходило. Словно прекрасная фантастическая теория о времени, детях и единении.
И полностью оторванными от этой теории оказались их поступки.
Меня удивило, как легко было получить доступ к архивам. Встретили меня очень любезно. Когда-то они делали все, чтобы сохранить происходящее в тайне. В то время царило замалчивание, секретность – один из основополагающих принципов школы. А теперь как будто уже пропала всякая необходимость защищать какие-либо сведения.
Возможно, большинство думает как Оскар или Август, которые приходят ко мне в лабораторию и говорят, что я должен бросить эту работу, потому что семидесятые – это так давно. Все прошло, и уже слишком поздно.
Часто я так и думал: все прошло, и слишком поздно.
Когда приходят такие мысли, я знаю, что размышляю как взрослый. Стать взрослым – это значит забыть, а потом и отказаться от того, что было важно, когда ты был ребенком. И тогда я против этого выдвинул свои возражения.
Хотя все действительно прошло, и слишком поздно, и вообще совсем не так уж значительно, все-таки это твоя жизнь. И с тех самых пор все в жизни было связано с этим.
* * *
Но это вовсе не было незначительным. С тех пор я в этом убедился.
Их план касался всей вселенной, в этом я уверен. А такой план нельзя обойти молчанием.
В своих ходатайствах они говорят только о помощи уголовникам, детям с задержкой развития и дефективным – именно так они и писали, и в обоснованиях для получения субсидий были те же слова. Но в мыслях или где-то в подсознании, в качестве дальней цели, у них был весь мир. «Мы работаем ради величия грядущих времен»,– писал Биль. Они чувствовали, что время работает на них, что они занимаются тем, что получит дальнейшее распространение и вдохновит сначала всю школьную систему, а затем и всю страну. Когда надо было давать объяснения, они называли только отдельные группы детей. Но целью их была вселенная.
Биль, Фредхой, Карин Эре, Баунсбак-Коль, инспектор Министерства образования теолог Оге Хордруп, Хессен, Флаккедам, представители управления. Все они были уверены в том, что защищают вечные ценности. Они прямо этого не говорили, может быть, они даже так и не думали. Но где-то в глубине их души и среди них жила абсолютная, безграничная уверенность в том, что они правы и что их идеи и представления о будущих поколениях детей, которые становятся взрослыми, станут всем известны и распространятся по всей стране, и даже за ее пределы, возможно, даже среди мавров. Что когда-нибудь, не в таком уж бесконечно далеком будущем, можно будет заставить всех уважать их идеалы о прилежании и точности, и тогда во вселенной начнется безоблачное сосуществование всех живых существ.
Я знаю, что именно эту цель они преследовали. Нельзя сказать, чтобы это была обыкновенная цель. Ее следует назвать колоссальной.
Об этой цели и было мое сообщение.
Разрешение пользоваться бумагой и карандашом противоречило местным правилам, а также воспитательному воздействию изоляции. Поэтому то, к чему я пришел, я вынужден был доверить своей памяти.
Однако мне разрешили читать книги. На их чтении я и построил свое сообщение. Оно было тщательно продумано, с вступлением, основной частью и заключением, и когда настал тот день, я вошел в помещение и произнес его ясно и отчетливо, оно стало последним словом – после него уже не о чем было говорить.
Это неправда. Я вижу, что написал эти слова. Но это ложь. Когда пришла очная ставка, я ничего не сказал о своих размышлениях, ни единого слова.
Никакой речи не было. Когда я просидел в Ларе Ольсенс Мине в течение нескольких недель, у меня' больше уже не было никакой памяти, в которой можно было бы ее хранить. Все превратилось в сплошной хаос.
К тому же у меня был рецидив, я ударил санитара, а потом врача, который к тому же был женщиной,– мне нечего сказать в свою защиту. В течение последних месяцев меня по ночам привязывали к кровати и давали мне лекарство, строго говоря, все было так, как если бы я перешел в категорию слабоумных.
Все это давным-давно закончилось. Нет никакого смысла вспоминать об этом.
Но до того, как это случилось, я начал читать. Про книги действительно все правда.
* * *
К закрытому отделению был прикреплен психиатр, он был врачом-консультантом и проводил исследования связи между ощущением времени у детей и уровнем их интеллекта, в том числе и за границей. Он рассказал, что дети в Гане, где живут мавры, даже если они, как и я, учатся в шестом или седьмом классе, не могут сказать, сколько времени продолжалась поездка на автобусе – десять минут или шесть часов.
Он предложил, чтобы мне разрешили читать, хотя это, строго говоря, противоречило лечению. Это произошло, когда я заявил, что хотел бы почитать о времени.
Когда Катарина рассказала, что ее родители разговаривали о времени, тогда я интуитивно понял, что о нем должны существовать книги, что о нем кто-то мог написать.
В Ларе Ольсенс Мине я увидел и впервые прочитал такие книги – мне их дал врач-консультант: Э. Дж. Бикерман «Хронология Древнего мира», Уитроу «Натурфилософия времени», а также «Справочник по истории измерения времени» в трех томах.
Читая их, я тогда не понимал ни единого слова.
И все же чтение меня воодушевило. Можно кое-что извлечь из книг, даже если не понимаешь, о чем читаешь.
Это было в первые недели моего пребывания там. Когда я работал над речью и чувствовал, что работа движется.
Мысль о речи мне подала Катарина. Хотя она была далеко, все же она была вместе со мной.
Она могла оказаться передо мной, даже если я не закрывал глаза. Ее кожа была такой белой, почти прозрачной, свитер был велик ей, это был свитер ее отца, который повесился, волосы ее прятались под воротником. Она заманила Баунсбак-Коля в школу и заставила его выйти из себя. И она говорила с ним. G Билем и Фредхоем она тоже могла сама заговорить.
Говорить нелегко. Всю свою жизнь ты слушал или делал вид, что слушал, живое слово проникало в тебя, но по собственной воле ты никогда не открывал рот. Если ты и заговаривал, то только после того, как поднял руку и тебя спросили, и то, что ты произносил, было точным, правильным и не вызывало никаких сомнений.
С той речью, которую я готовил, все было наоборот: она была полна неуверенности, и меня никто о ней не просил.
Через несколько недель мне пришлось сдаться, я так никогда ее и не произнес. Когда настала очная ставка, я ничего не сказал.
С тех самых пор я молчал.
Это благодаря ребенку я понял, что еще не слишком поздно.
Она родилась в ноябре 1990 года. В августе 1991 года я начал ряд опытов в лаборатории. Теперь, когда они приближаются к завершению, идет июль 1993 года.
То есть ей не было еще и года, когда все началось. Теперь, когда все заканчивается, ей больше двух с половиной лет.
Я начал читать ей рукопись вслух, когда ей было полтора года. От остального мира я держал все в полной тайне. Но ей я показал рукопись. После обеда, когда мы оставались одни, я доставал бумаги и читал ей короткие отрывки. Однажды она сказала, что мне надо написать сообщение – ту незаконченную речь.
Я понимаю, что это утверждение вызовет недоверие, скажут, что она ведь совсем маленький ребенок и то, что я говорю, почти безумие.
Но именно она предложила это.
Предлагать можно по-разному, ведь это не обязательно должно быть выражено словами. Можно тихо сидеть и слушать, показывая тем самым другому, что все так и есть, как он говорит, и никто его не осудит. Что ты его друг, что бы там ни произошло.
Однажды она указала мне на то, что еще не поздно, все они еще живы, поезд еще не ушел.
Я понял ее сразу же. Биль, Карин Эре и все остальные, кто тогда присутствовал, они еще существуют, еще не поздно поговорить с ними.
До того, как она указала мне на это, я, должно быть, думал, что все уже позади. Про Фредхоя я знал, что с ним случился удар. Но о других я тоже решил не думать. Это казалось непреодолимой задачей – все было так давно. Когда у нас была возможность что-то сделать, что-то сказать им, только у Катарины хватило смелости, а теперь уже ничего не вернуть. В лаборатории я, возможно, могу показать бледное отражение того, что произошло. Но на протяжении двадцати двух лет, которые отделяют меня от того времени, я не мог говорить.
На это ребенок возразил, что все они еще живы. Каждый из шестнадцати человек, присутствовавших на очной ставке управления, еще жив, за исключением Фредхоя,– вот что она сказала.
Что с прошлым еще не покончено. И что оно еще живо.
И тогда я написал это.








