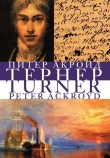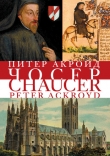Текст книги "Кларкенвельские рассказы"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Глава восьмая
Рассказ рыцаря
В тот самый весенний вечер, когда Джон Даклинг возвращался от гостевого дома в свою келью в Кларкенвельской обители, несколько лондонцев входили в круглую каменную башню, построенную еще римлянами. Она стояла в нескольких ярдах к северу от крепости Бейнард, почти на берегу Темзы возле монастыря Блэкфрайарз. Внутрь вел один, но гигантский портал, вокруг которого вилась надпись на латыни; перевести ее можно так: «Я открываюсь не тем, кто стучит, проходя мимо, а лишь тем, кто останавливается и стучит».
Каждого из этих поздних посетителей встречал у входа слуга в ливрее и по винтовой лестнице вел в сводчатый подземный зал. Некоторые из прибывших прежде присутствовали на том торжественном ужине, что состоялся прежде в Гильдии Девы Марии, кое-кто месяцем раньше заседал в гильдии торговцев шелком и бархатом, – к примеру, рыцарь сэр Джеффри де Кали и каноник Уильям Суиндерби. Одеты они были, однако, не так, как подобало их положению, а в плащи с капюшонами из какой-то полосатой материи, причем синие и белые полосы шли крест-накрест. Опытный взгляд видел в этих пересечениях скрещенье времени и терпения. К рыцарю и канонику присоединился Майлз Вавасур, барристер, то есть законник высочайшего ранга, один из двух помощников лондонского шерифа. Словом, собрались люди высокопоставленные, но, как ни странно, открыл собрание не помощник шерифа, а рыцарь сэр Джеффри де Кали.
Он сразу завладел общим вниманием, начав с общеизвестной латинской фразы: Hoc est terra quaestionis… – вот она, земля обетованная. Именно ее мы искали, эту землю, красоту и начало всяческого порядка. Хотя то не была церковная молитва, все прекрасно знали слова и хором возглашали ответствия. Завершив вступительную часть, рыцарь обратился напрямую ко всем собравшимся и отдельно к одному из приглашенных:
– Отлично сработано, Уильям Эксмью.
Каким образом среди этих людей высокого звания оказался предводитель избранных? Непостижимо. Эксмью вышел вперед и отвесил рыцарю поклон.
– Игра началась, – негромко произнес он. – «Греческий огонь» сжег часовню дотла. Что же до убийства в аркаде собора Святого Павла, оно, сдается мне, произошло случайно, но тоже сыграло нам на руку. Всё содействует общему смятению. Как тучи перед бурей.
– Что за люди идут под твою руку?
– Люди сломленные. Дошедшие до крайней нужды и отчаяния. Один, по имени Ричард Марроу, – плотник; но если б мог, он бы на карачках пополз к кресту. Или Эмнот Халлинг – малый неплохой, только больно умничает. Еще есть Гаррет Бартон; это человек озлобившийся, воюет с целым светом. Есть и эконом из собора Святого Павла.
– Ну да? – Джеффри де Кали удивленно поднял голову. – И как его зовут?
– Роберт Рафу.
– Сколько я знаю, он человек неприветливый. Слишком мало ест.
– Есть некий Хэмо Фулберд, молодой и на редкость уродливый парень. Такой уж ему выпал тяжкий жребий. Есть и другие, но я не стану утомлять вас перечислением их имен.
– Надеюсь, они не ведают о наших замыслах?
– Ни сном, ни духом. И меня ни в чем не подозревают. Свято верят, что я, как они, принадлежу к избранным.
Из задних рядов раздался голос законника Майлза Вавасура:
– Нам отовсюду доносят, что все они – лолларды.
– Это не важно. – Джеффри де Кали опустил руку на плечо Эксмью. – Если вина падет на них, тем лучше. У лоллардов душонка не та и кишка тонка, где уж им церкви жечь, пусть хотя бы несут бремя вины. Зато они народ подымут на бунт. Если начнутся серьезные беспорядки, лондонцы решат, что король слаб и глуп. Раз он не в силах защитить Пресвятую матерь-Церковь, значит, он не король, а видимость одна, тень, которая под солнцем исчезает. И помазанник падет. Не спасет его ни Христос, ни пролитая Им праведная кровь.
При упоминании праведной крови Христовой все засмеялись, потому что им были хорошо знакомы уловки и плутни, на которые горазда Церковь. Эти люди были членами тайного общества, которое называлось «Dominus». [63]63
Господь, государь (лат.).
[Закрыть][13] Оно было создано за полтора года до описываемых событий с одной-единственной целью: низложить короля Ричарда, явно вознамерившегося лишить их власти. В общество входили видные представители духовенства, несколько королевских советников и важных сановников, в том числе помощник шерифа и два самых влиятельных олдермена. А Джеффри де Кали получил от короля настоящую синекуру: Ричард назначил его на высокую должность констебля Уоллингфорда и Чилтернса, [64]64
Уоллингфорд и Чилтернс– живописные районы к западу и юго-западу от Лондона.
[Закрыть]которые рыцарь ловко «передоверил», то есть сдал в аренду, и ежегодно получал кругленькую сумму. Однако разорительные эскапады монарха грозили лишить их богатства и поместий. Ричард требовал все новых податей и под любым предлогом отбирал землю. Теперь они согласны были поставить на карту всё, лишь бы свергнуть его с престола, и договорились поддержать деньгами Генри Болингброка, готовившего вторжение в Англию. Годом раньше именно они убедили Уильяма Эксмью сколотить группу из бунтарски настроенных лондонцев, которые, не задумываясь, бросили бы вызов местным епископам и самому Папе Римскому. Заговорщики твердо верили: насилие и смута сыграют им на руку и помогут покончить с королем.
Однажды случай свел Эксмью с Ричардом Марроу в трапезной монастыря Сент-Бартоломью, они разговорились на духовные темы, и Марроу по секрету рассказал про группу избранных, в которую он тоже входил. В конце концов Эксмью стал вместе с Марроу посещать их сходки и своим красноречием и набожностью скоро полностью подчинил избранных своей воле.
– И как же мы этого добьемся? – громко спросил Майлз Вавасур.
– Я распустил среди них слух о том, что сначала должны произойти пять чудес, они ускорят приход дня освобождения, – объяснил Эксмью. – Думаю, вам знаком старинный символ: пять сцепленных друг с другом кругов? – Он говорил о знаке, получившем распространение в раннехристианскую эпоху; им будто бы пользовался еще Иосиф из Аримафеи. [65]65
Новый Завет, Матфей 27:57–60, Марк 15: 43–46, Лука 23:50–53.
[Закрыть]– Так вот, символ этот произвел на них большое впечатление.
– Значит, остались еще три чуда, – заключил барристер Майлз Вавасур, гордившийся своей сметливостью. – Два-то уже произошли: часовня и убийство в соборе Святого Павла.
– Теперь черед еще трех соборов в разных местах города; это церковь Гроба Господня, Сент-Майкл-Ле-Кверн и Сент-Джайлз.
Собравшиеся одобрительно загудели. В их голосах слышалась самоуверенность людей, облеченных властью. В своем кругу они держались непринужденно, оживленно до беспечности, высказывались откровенно и свободно. Хотя тема смерти и бессмертия никогда не обсуждалась вслух, все они были убеждены: раз человек до рождения не существует, то и после смерти его ждет полное исчезновение. Поэтому прямой смысл, пока можно, наслаждаться земной жизнью. Религия тем не менее весьма полезна – для умиротворения народа и поддержания порядка. Той же точки зрения придерживались и входившие в сообщество прелаты.
Сэр Джеффри де Кали вновь потребовал внимания:
– Грядут новые пожары и разрушения. Генри Болингброк вернется в Англию и соберет огромное войско. Чтобы он смог победить Ричарда, нужно, чтобы народ видел в Генри спасителя Церкви. Благоговейное почитание надо возвести в закон. За почитанием придет страх. Нам же следует затаиться, чтобы ни одна живая душа не догадывалась о наших замыслах. Не только о том, что мы делаем, но и о том, чего не делаем.
Все направились к двери. Некоторые, прежде чем уйти, подходили к сэру Джеффри и, склонившись к его левой руке, целовали кольцо на среднем пальце, а от этого пальца, как известно, нервные волокна идут напрямую к сердцу. Когда все вышли в ночной город, рыцарь по башенной лестнице поднялся на третий этаж, в укрепленную часть башни, предназначенную для отражения нападений. Здесь же была маленькая каморка – усыпальница римлян. Кто-то стоял там на коленях, шепча священные слова из «Чистого Евангелия»: [66]66
«Чистое Евангелие»– по неподтвержденной версии, первое, самое подлинное Евангелие было написано на древнем арамейском, якобы родном языке Иисуса Христа. Во второй половине XIV века эту версию поддерживал и проповедовал Джон Уиклиф.
[Закрыть] «Vertas. Gadatryme. Trumpass. Dadyltrymsart».Это была сестра Клэрис. Обернувшись к сэру Джеффри, она промолвила:
– Все будет хорошо, добрый рыцарь. Все уладится.
Глава девятая
Рассказ церковного старосты
Агнес де Мордант стояла у главных ворот обители. Тяжко вздохнув, она обратила к Освальду Ку, старосте монастырской церкви, искаженное яростью лицо; только ямочка на подбородке чуть смягчала выражение обуявшего настоятельницу гнева.
– Ни в коем случае не разрешай им пользоваться нашими сараями. Ты только глянь на этих тварей! Мерзкие подлые обманщики! Они уже залили мочой солому, которую мы собирались настелить в церкви.
Она вновь устремила взгляд на работников, все еще строивших на лужайке Ноев ковчег. Шел второй день мистерий, которые ежегодно устраивались в Кларкенвеле на недельный праздник Тела Господня. Руководили работами священники из окрестных церквей. Возле ковчега уже вырос помост, сверху свисало большое полотнище ткани с намалеванным на ней фасадом Ноева дома. Дом очень походил на богатое купеческое жилище, какие во множестве стояли на Чипсайде; этому сходству мешала только детская доска-качалка, поставленная перед размалеванным задником.
За сценой дым стоял коромыслом: актеры готовились к выходу. Накануне утром Ной и его жена играли Адама и Еву, но они уже сменили костюмы из белой кожи на более привычные рубаху и платье. Жену Ноя играл священник церкви Сент-Майкл-ин-Олдгейт.
– Ослабь, Дик! Ослабь! – давясь от смеха, кричал он костюмеру, пока тот привязывал к его телу бутафорские груди. – Туго, мочи нет, дышать невозможно.
– Такая маленькая женщина, а шуму-то, шуму! Сам тогда волосья надевай.
Парик Ноевой жены был похож на огромную желтую копну, но священник церкви Сент-Майкл-ин-Олдгейт с благоговением поднял его над головой. В повозке с костюмами для мистерий было много всякой всячины: несколько масок с наклеенными на них звездами и блестками, разноцветные ленты, шляпы, жилеты, а также деревянные мечи и накладные бороды всех мастей. Игравший Ноя священник церкви Сент-Олав стоял, опершись на меч, и потягивал из кожаной фляги сладкий эль.
– Смотри! – пригрозила «жена». – Рыгнешь мне в лицо, получишь в нос.
– Надо же мне подкрепиться, милая женушка. Ежели в животе пусто, силы не станет.
Тем временем Хаму и Иафету насандаливали лица топленым салом с шафраном, а на берегу Флита Бог тренировался в ходьбе на ходулях. Вокруг лужайки перед помостом уже собралась толпа зевак. Некоторые перебрасывались шуточками с плотниками, ставившими мачты на ковчеге.
Один из участников действа выкрикнул какую-то непристойность, и настоятельница закрыла уши ладонями:
– Ох, грешники мы, грешники. Aufer a nobis iniquitates nostras. [67]67
Избави нас от пороков наших (лат.).
[Закрыть]
Староста перекрестился и попросил разрешения вернуться в каретный сарай.
– Ступай, – ответствовала настоятельница. – Оставь эту юдоль суеты.
Сама она, впрочем, помедлила, глядя, как собираются зрители. Деревянные кресла перед сценой уже заполнила знать, в том числе рыцарь Джеффри де Кали и помощник шерифа. Простонародье расселось прямо на траве. Было девять часов утра последнего майского дня, и кое-кто, возможно, услышал, как настоятельница ошеломленно прошептала:
– А это еще что такое?!
К колодцу верхом на коне подъехал человек в обтягивающем красном костюме и остроконечном красном колпаке. Попона на лошади была тоже красного цвета, седло по краям обшито бубенцами.
– Слушайте! Слушайте! – крикнул он, и шум на лужайке стих.
Зрители сразу узнали причетника церкви Сент-Беннет-Финк, известного в Лондоне затейщика разных зрелищ, из года в год ставившего в Кларкенвеле мистерии. Он слыл человеком веселым, даже слишком: очевидная всем и каждому радость жизни, бившая из него ключом, вызывала у окружающих чувство неловкости и собственной неполноценности.
– Слушайте! Слушайте!
Воцарилась тишина.
Достойные граждане, прислан я к вам,
Чтоб новость одну сообщить.
Нижайше прошу вас
Свой слух приклонить
И пиесу не строго судить.
Утро выдалось ясное, солнце играло на золоченой маске Бога, расхаживавшего перед зрителями на ходулях в белой, расшитой золотыми солнцами мантии. Приветственно воздев руки, он устремил взгляд поверх толпы на ряды деревянных кресел, где восседали знатные горожане, и продекламировал:
Да будет так!
Так есть, так было и будет.
Я есмь и пребуду вечно.
Исполнявший роль Бога священник церкви Сент-Мэри-Абчерч славился своим суровым и непреклонным характером. Однажды он застал в церковном нефе мальчишку, который вздумал поиграть там в футбол. Пастырь обвинил паренька в святотатстве и на целую неделю отменил в оскверненном храме все богослужения, после чего самолично повел мальчишку на епископский суд и потребовал предать анафеме, однако епископ счел за благо отклонить тяжкое обвинение. Зато в роли Творца священник был на месте: с первой же минуты он всецело завладел вниманием сотен лондонцев, собравшихся смотреть мистерию. К тому же, играл он гневливое ветхозаветное божество, и маска словно усиливала и подчеркивала мощь его голоса:
Я – Бог, что создал этот свет,
Небесный свод, земную твердь.
И вижу я, что мой народ
Страданья сам себе несет.
Под упреками, которые, словно катехизис, выпевал грозный Бог, все затихли. Испуганное молчание внезапно прорезал мальчишеский голос:
– Посторонись! Дорогу еще одному актеру, господа!
И между зрителями и сценой с ковчегом возник паренек верхом на осле.
Всем мой привет! Всем мой привет!
Тем, кто мне рад, и тем, кто – нет.
Я – Ноя сын, я – Иафет.
Я весельчак, но Ной сказал,
Чтобы я вас не утомлял.
Изображавший Иафета мальчик был на самом деле посыльным при церкви Сент-Джеймс-Гарликхайт. Товарищи из других гильдий прозвали его «Пуля»; он частенько носился по лондонским улицам наперегонки с «Пращой» из гильдии торговцев шелком и бархатом, с «Торопыгой» из гильдии бакалейщиков и со «Стрелой», работавшим у торговцев рыбой. «Пуля» славился нахальством и смекалкой, поэтому его Иафет очень смахивал на типичного лондонского огольца. Тем временем осёл под ним тоже заговорил:
Постыдно бить меня, Иафет,
Ведь ведаешь ты не хуже меня:
Не видел ты лучше осла, чем я.
– А ну, целуй меня в жопу, скотина! – отвечал Иафет.
Какое-то время они обменивались новыми непотребствами, в довершение «Пуля» подскочил к ослу сзади и сделал вид, что пытается с ним совокупиться. Преподобная Агнес собрала в стайку глазевших на это зрелище монахинь и, грозя карами небесными, увела за монастырские стены.
Все это время Бог стоял перед зрителями, его золоченая маска сверкала на ярком, почти летнем солнце. В конце концов, под громкие возгласы одобрения, «Пуля» с ослом удалились, и в ту же минуту на помосте появился Ной. Игравший его Филип Дринкмилк, причетник церкви Сент-Олав, до тонкостей изучил искусство изменять внешность. Отец Филипа все еще расписывал задники и декорации для городских представлений, а сын неизменно ходил вместе с ним на пантомимы и интермедии, которыми ежегодно отмечались многочисленные церковные праздники.
В самом начале 1382 года в Лондон должна была приехать юная невеста короля Ричарда Анна Богемская. По этому случаю была нанята труппа бродячих комедиантов, и отцу Филипа Дринкмилка заказали сделать для них маски, выражающие разные сильные чувства. За счет городской казны актеров поселили в «З а мке», постоялом дворе на Фиш-стрит, и художник с сыном частенько захаживали в их «гардеробную», как величали ту клетушку сами артисты. Филипу особенно врезался в память охвативший его ужас, когда на него, откуда ни возьмись, с ревом двинулся медведь, но так же внезапно из звериной шкуры высунулось, к его великому облегчению, человеческое лицо.
– Добро пожаловать! – услышал Филип. – Если тебя здесь не сожрут крысы, то вши уж точно добьют.
Филип близко сошелся с этим молодым актером; звали его Герберт. Он страшно веселил труппу тем, что пукал на Фиш-стрит и ловко поджигал выпущенные газы. Герберт показал Филипу тринадцать жестов, передающих различные чувства, и восемь основных гримас. Еще он объяснил, что почти каждому цвету радуги на сцене присущ определенный смысл: желтый символизирует ревность, белый – добродетель, красный – гнев, синий – верность, а зеленый – вероломство. Хороший актер непременно сочетает в костюме несколько цветов, втолковывал Герберт, – и тем самым тоньше и увлекательней делает свою игру. Под его опекой Филип Дринкмилк стал замечательным мимическим актером. В самое короткое время он выучил диалог «Наша кошка Грималкин» [68]68
Грималкин– старинное английское имя, означавшее «серая кошка». По преданиям, это старая, зловещего вида кошка, не сулящая ничего хорошего; часто сопровождает колдуний (см.У. Шекспир, «Макбет»).
[Закрыть]и эффектно исполнял его, сопровождая слова красноречивыми жестами, телодвижениями и мимикой. В тесной ризнице церкви Сент-Олав он репетировал изысканные поклоны и замысловатые танцевальные па; порой кружился посреди комнатенки, распевая отрывки из новомодных песенок.
Для Ноя он избрал позу утомленного жизнью старца: ладони вытянуты параллельно земле, тело клонится набок. Лицо выражает состояние души Ноя: глаза возведены к небу, рот полуоткрыт. Для этой роли Филип решил облачиться в двуцветное ало-синее одеяние. Время от времени он касался то синего – намекая на свою преданность Богу, то алого цвета – дабы подчеркнуть свой страх, а оба цвета вместе обозначали страдание. Как только Бог, повернувшись спиной к зрителям, стал перед Ноем, тот распростерся на помосте.
Своим нездешним голосом, нараспев, Бог велел Ною построить ковчег и принять на него каждой земной твари по паре. То обстоятельство, что ковчег уже высился на лужайке, не имело ровно никакого значения. В этом уголке Кларкенвеля смешались воедино прошлое, настоящее и будущее. Зрители отлично знали, какие события будут перед ними происходить, тем не менее их удивлению и радости не было предела. Вот Ной, трепеща всем телом, обратился к Господу, и на лужайке раздался смех. Всем было ясно, что старца трясет не от почтения к высшему божеству, – нет, просто он до дрожи боится гнева своей благоверной.
А жена Ноя и ее «товарка», сидя на детской доске-качалке с флягами в руках, изображали отчаянную свару. Они поочередно взлетали вверх и опускались вниз, отчего подолы их сорочек раздувались, демонстрируя несвежее исподнее. То была комическая придумка постановщика. В конце концов жена Ноя соскочила с доски и под всеобщий хохот вцепилась ногтями в физиономию товарки, но, заметив, что к ней медленно приближается супруг, деловито поддернула подол сорочки, словно готовилась к бою.
Еще до начала мистерии церковный староста Освальд Ку скрылся в каретном сарае. Дело в том, что один из каретников пожаловался на плохое качество гвоздей, и Ку решил лично взвесить их и измерить. Кроме того, нужно было выполнить указания преподобной Агнес. Он убрал испоганенную солому и, пока между Ноем и его женой шла нешуточная склока, осторожно проскользнул за сцену. Освальд вовсе не хотел мешать актерам, но его снедало подозрение, что работники стянули из монастыря заготовленные для ковчега доски. Однако, как он ни высматривал на них метку обители – нарисованный красными чернилами силуэт оленихи, не нашел ни единой и, стараясь оставаться не замеченным актерами и зрителями, бесшумно миновал лужайку и зашагал по Тернмилл-стрит. Вскоре, уже на Блэк-Мэн-элли, он заметил у стены нечто странное. Вдруг это нечто поднялось в полный рост, обернулось к старосте – и оказалось страшилищем почище любого дракона: лапы, как у ящерицы, крылья, как у птицы, а лицо юной девушки. Прикрываясь когтистыми лапами, чудище с визгом пустилось наутек, мимо зарыбленного пруда и площадки для игры в шары. С кларкенвельской лужайки по-прежнему явственно доносился гомон веселящихся зрителей. Что же это за чудище? Освальду Ку и в голову не пришло, что ему встретился актер в театральном костюме, игравший, быть может, одного из Люциферовых демонов. Нет, он сразу узнал воплощение Страшного суда и вечных мук. А в мелькнувшем женском лике – почти наверняка – узнал лицо сестры Клэрис.
Освальд давно ее подкарауливал. Однажды, за восемь месяцев до этой нечаянной встречи, он пошел следом за нею в поля. Увидел, что она выходит с мельницы с двумя мешками в руках, и предложил помочь. Он смотрел на нее пристально и серьезно, она же, не поднимая глаз, отказалась.
– Ну, как поживаешь, сестра?
– Слава Богу, очень хорошо.
– Нравится тебе такая жизнь?
– А я другой никогда и не знала, господин Ку.
– И то правда. С самого малолетства… – Он осекся, не решаясь продолжить. Но кокон молчания, много лет окутывавший его, внезапно рассыпался, сдерживаться не было сил. – Я ведь знал твою мать, Клэрис.
– Никто ее не знает.
Монахиня перекрестилась и, неотрывно глядя на раскисшую от дождей землю, призналась старосте, что давным-давно, когда она была еще маленькой, Агнес де Мордант рассказала девочке, что ее, новорожденную, подбросили к крыльцу капитула, и монахини подобрали младенца.
– Это неправда, – как можно мягче произнес Ку. – Твоя мать тогда была с нами.
– С нами? Что вы хотите сказать?
– Принадлежала к нашему ордену.
– С чего вы это взяли, Освальд Ку?
– Я тогда был помощником судебного пристава. Совсем юнец. Горяч и пылок, как свойственно молодости. Ее звали Элисон. – Он смолк в нерешительности, затем продолжил: – Она была регентшей хора. Умерла при родах. – Он отошел от Клэрис, потом вернулся и, тяжело дыша, спросил: – Тебе, случаем, подземные ходы не запомнились?
Да, молва о том, что происходило в подземных ходах, еще в детстве дошла до Клэрис. Отчего многие монахини видят в ней лишь никчемную принадлежность монастыря? Эта мысль не давала ей покоя. В ее памяти действительно всплывала странная картинка: какой-то каменный, тайный, чудилось ей, закуток; там звенели вопли боли и крики гнева. Для Клэрис камень всегда был неразрывно связан со слезами и несправедливостью.
– Я же говорю, я был тогда совсем юнец. Мы с твоей матерью… Словом, совершили ошибку. Без умысла, конечно.
Их с Элисон соитие произошло на берегу Флита. Освальд и по сей день помнит объявший его ужас, когда он почувствовал, что под напором напрягшегося члена тонкий кожаный чехольчик, хлипкий кожушок, лопнул, и семя выплеснулось внутрь юной монахини.
– Значит, ты меня тогда не любил.
– Да с чего мне было тебя любить-то, Клэрис? Я ведь тебя совсем не знал. Но приглядывался, пока ты росла в стенах обители. Сестры частенько обходились с тобой чересчур сурово.
– Знаю. Считали порождением греха.
– Когда они били тебя свечами, я мучился вместе с тобой. Зато, когда на вечерней службе ты пела «О altitude», [69]69
«О, величие» (лат.) – католическое песнопение.
[Закрыть]я воспарял духом. Как же в те минуты я гордился тобой! Никому в голову не приходило, что я тебе отец. В твоем появлении на свет обвиняли одного монаха из ордена госпитальеров. А я при всяком удобном случае нахваливал тебя преподобной Агнес. И еженощно молю Господа и всех святителей о спасении твоей души.
– Молись лучше о собственной душе. Мне твое заступничество ни к чему. – Клэрис вздохнула и, опустив мешки с пшеницей на землю, проронила: – Отнесешь на кухню?
И зашагала по полю прочь. Когда Освальд остался далеко позади и не мог ее разглядеть, она бросилась ничком на траву и, колотя кулаками по земле, шепотом взмолилась:
– Мамочка, родимая, пусти меня обратно! Пусти меня к себе.
На следующий день ей было первое видение.
А Освальд Ку, повстречав змея с ликом юной девы, страшно перепугался; этот призрак воплощает в себе свершенный им грех, рассудил он и твердо решил следовать за химерой, пусть даже она постоянно меняет личину. Он прошел мимо пруда, в котором мелькнуло отражение его виноватого лица, пересек пустую площадку для игры в шары. Шум, доносившийся с лужайки, где шла мистерия, нарастал. Освальд свернул за угол – и остановился как вкопанный: сестра Клэрис что-то сосредоточенно обсуждала с Брэнком Монгорреем, приставленным к ней монахом. Монгоррей, отступив на шаг, в чем-то ее упрекал, Клэрис в ответ лишь молитвенно воздела руки. До Освальда долетели только два слова, «Ирландия» и «вознаграждение», но общий смысл ускользнул. Он ни разу не перемолвился с дочерью после того, как открылся ей тогда в поле: при встрече она теперь отводила глаза и шла мимо. Иной раз ему казалось, что голоса, которые она будто бы слышит, и все ее пророчества – лишь способ увильнуть от разговора с ним. Теперь же она смотрела ему прямо в лицо и едва слышно, словно во сне, бормотала: «Noli mе tangere». [70]70
«Не прикасайся ко мне» (лат.).Евангелие от Иоанна, 20:17.
[Закрыть]Он отступил в тень и повернул назад, на Тернмилл-стрит.
На лужайке все еще шло представление; Хам с Симом поднимали над головой изображения животных, которые должны были взойти на ковчег: два единорога, две обезьяны, пара волков и прочего зверья, которым и названия-то нет. Потом появились Ной и Иафет в сопровождении настоящих животин: двух коров, двух быков, двух овец и двух лошадей, которые прошли сквозь отверстие в носовой части ковчега. Освальд Ку внимательно разглядывал их – уж не из монастырских ли они хлевов? Потом несколько плотников, сбивших ковчег, принялись его раскачивать, а позади взвились и начали колыхаться полотнища, изображавшие широкое бурное море. Наконец над помостом дугой стала лента с наклеенными на нее разноцветными перьями – радуга, догадались зрители, и Бог на ходулях вновь вступил на помост.
Не успел он и слова сказать, как в толпе на лужайке произошло движение, затем раздался свист и язвительные выкрики. С воплями «Идолы! Сатанинские образы!» выскочили какие-то люди. Один подбежал к Богу и, к вящему ужасу толпы, сбил его с ходулей. Другой сорвал с поверженного божества золоченую маску и стал ее топтать, крича во все горло: «Личину нацепил, сукин сын!» Тут старосте почудилось, что толпа зрителей вдруг превратилась в единое живое существо с одной общей целью, и оно набросилось на ненавистников занимательного зрелища. Под крики «Лоллер! Антихрист!» их стали жестоко избивать. Одного ударили молотком промеж лопаток, потом рукоятью меча в лицо; другого пронзили длинным кинжалом, которым обычно добивали врагов, и мгновенно прикончили жертву. Общая ярость угасла так же быстро, как вспыхнула, но в живых остались всего два лолларда. Кости у них были переломаны, тела окровавлены, но они еще дышали. Их поспешно заточили в тюрьму, где они вскоре умерли от ран. В тот страшный год это был единственный случай, когда люди воочию увидели лоллардов.