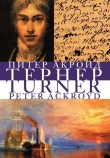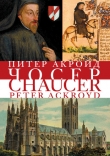Текст книги "Кларкенвельские рассказы"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Глава шестая
Рассказ свободного землевладельца
Гаррет Бартон, свободный землевладелец и один из избранных, выходил через южные Большие ворота собора Св. Павла. Он не мог отделаться от мысли о многочисленных паломниках, которые по этим булыжникам шли на казнь и вечные муки. Казалось, от их пронзительных воплей даже воздух просмердел, усиливая гнилостную вонь от разной дряни, оставленной на погосте. Среди прочих избранных Гаррет выделялся своим пылом. По наущению Эксмью он написал на пергаменте «Восемнадцать постулатов», аккуратно свернул в трубку и сунул в карман. Тем временем на площадке позади могилы родителей св. Томаса Беккета проходила, как обычно, схватка борцов; возбужденные зрители кричали, подбадривая соперников. Возле склепа установил свою палатку писец; над головой у него висела доска, на которой была намалевана рука, держащая перо. Писец вперил хмурый взгляд в Бартона, будто догадывался, зачем тот сюда пришел.
Часы на колокольне показывали ровно два, когда Гаррет Бартон через западную дверь вошел в собор. Там пахло конюшней. Под высоченным сводчатым потолком галдеж торговцев и барышников сливался в гул, напоминавший жужжанье тысяч пчел, – приглушенный ор и громкий шепот, целый океан голосов и шагов. Бартон различил лишь молитву, которую неторопливо выпевали паломники, толпившиеся вокруг отполированной до блеска раки св. Эрконвальда. Наша мирская жизнь – чистая ярмарка, с презрением подумал он. Там и сям стояли стряпчие, каждый поджидал клиентов у своей отдельной стойки; их ярко-красные капюшоны едва виднелись в толчее грузчиков, ларечников и проповедников. Холодные каменные плиты пола были устланы сеном. Если бы не свечи и факелы, ярко освещавшие иконы и настенные фрески, в нефе было бы темно даже белым днем. Широкая полоса солнечного света косо пронзала сумрак, но и она тускнела рядом с отблесками огней на колоннах.
Подойдя к раке, Гаррет с неудовольствием оглядел крошечные глиняные и свинцовые конечности, подвешенные над усыпальницей в надежде на исцеление. Рядом с изувеченной ногой покачивался глиняный пенис, движимый дыханием людей, бормотавших молитвы перед позолоченным изваянием; стихарь и митра на статуе святого были украшены сверкающими драгоценными камнями. Из деревянной караульни, заметил Гаррет, за паломниками наблюдали монахи, охранявшие сокровища святыни; одного монаха сморил сон. К запаху старых камней и знакомому духу человеческих тел примешивался смрад мочи. В углу поперечного нефа какой-то пилигрим, отвернувшись, возился с кожаными штанами. Вот вам и моление, подумал Гаррет, – все равно, что справить у стены малую нужду. Он пошел по проходу назад, пробираясь среди собак и лоточников. Три свечки на пенни. Две испанские луковицы за пенни. Пять печеньиц за два пенса.
Впрочем, возле главного престола раздавалось пение, безыскусное и приятное слуху, поскольку оно, надо полагать, подражало музыке сфер; мелодический узор был тщательно, почти математически выверен; учитывались все свойства звука – долгота и широта, глубина и высота. Эти голоса, подобно небесным сферам, кружили и плавно скользили друг над другом, словно уже стали частью эмпирей. Их изумительное движение и поразительные повороты сообща создавали гармонию. Затем ввысь взвился мальчишеский дискант, выпевая Quam dilecta tabernacula tua, [50]50
Как вожделенны жилища твои (лат.).Псалом 83:2.
[Закрыть] и Гаррету Бартону почудилось, что этот одинокий голос противостоит сонму других. То пела душа, рискнувшая выйти за пределы Вселенской Церкви. То был ее голос, чистый и нежный, но внезапно его подхватил и увлек в свой строй божественный гул. Это хор отвечал: Domine virtutum! [51]51
Господи сил! (лат.) Там же.
[Закрыть]
Гаррет прислонился лбом к каменному парапету, тянувшемуся под алтарным крестом с распятым Спасителем. Говорят, розмариновому кусту никогда не вырасти выше Христа. Он взглянул на раскрашенную фигуру, на следы от ран и искаженное страданием лицо. Неужто и вправду, как утверждают астрологи, младенец Христос находился целиком под влиянием планет и созвездий? И смерть его была предначертана звездами? Странно; из этого следовало бы, что творение имеет власть над собственным творцом. Да, странно, но не более чем постулат, который Уильям Эксмью внушал избранным: иногда Бог должен повиноваться дьяволу. Пора.
Через северную дверь Гаррет Бартон вышел в северную аркаду, стены которой были покрыты фресками, изображавшими Танец Смерти. [10] Вглядевшись, он увидел Папу Римского, весело прыгавшего рядом со скелетом. Ага, вот ты где! Так это ты возглавляешь танец скорби? Бартон вышел из аркады и остановился перед дверью, прозванной «Si quis?» [52]52
«Не требуется ли кому?» (лат.).
[Закрыть] – потому что клирики, мечтавшие получить хороший приход, прикалывали на нее свои объявления. Он достал из одного кармана свиток с «Восемнадцатью постулатами», из другого – гвозди и камень и несколькими ловкими ударами прибил свиток к двери. [11]
– Что ты тут делаешь?
Позади стоял писец; стало быть, он следовал за Бартоном из самого собора.
– Что я делаю? Веду тебя к вратам в рай.
Сжав покрепче камень, он зверски саданул писца по голове. Тот упал замертво.
Через аркаду с «Танцем смерти» Гаррет поспешил обратно в поперечный неф собора и, торопливо шагая мимо фрески с житием Богоматери, вдруг услышал, что его окликают, но оборачиваться не стал. Сначала посмотрел на фреску, на освещенные лампадами и свечами фигуры, потом облизал окровавленный кулак. Успокоился он, лишь когда разглядел у колонны Роберта Рафу, монастырского эконома.
– Быстрей, Бартон. С нами Бог. Иди за мной.
Рафу знал в соборе все ходы и выходы и самым коротким путем вывел Бартона в недавно пристроенный южный неф, где несколько скорняков уже открыли торговлю.
– Ты повесил «Постулаты»?
– Да, но за мной следили.
– Следили? Кто?
– Тип один; он мне вроде как угрожал. У меня в руке был камень, так что кинжал не понадобился.
– Ты его убил?
– Его Бог убил.
– Тебя кто-нибудь видел?
– Только ангелы небесные. Они заслонили меня своими крылами.
Выйдя из нефа, они пересекли двор, прошли через южные ворота и оказались в скоплении лепившихся друг к другу развалюх, что как грибы вырастают вблизи великих соборов.
– Ты когда-нибудь замечал, что каждая фреска испускает свой собственный свет? – спросил Бартон. – Ангелы на них светятся ярче всех. Прямо как на гобеленах. – Он почти не сознавал, что говорит. Все казалось сном. Они остановились на углу Полз-Чейн и Найтрайдер-стрит, рядом с пивной «Шапка кардинала».
Только они собрались войти, как мимо, с криками Bonjour! Dieu vous save!и Bevis, à tout! [53]53
Добрый день! Храни тебя Бог! Пока, Бивис! (старофр.)
[Закрыть]в дверь стала протискиваться стайка подмастерьев. Внутри даже обнаружился арфист; он сидел, скрестив ноги, на столе и готовился играть. Бартон и Рафу пересекли зал и через другую дверь опять вышли на улицу. Им надо было спокойно поговорить, а в пивной было слишком шумно. Они двинулись по Фартинг-элли, где раньше побирались пациенты Вифлеемской королевской лечебницы для умалишенных.
– Это был писец, – проговорил Гаррет Бартон, – он меня спросил, что я там делаю.
– Ты оказал ему большую услугу: он ведь отправился обратно, к Создателю.
– Ага, туда, где ему не надо беспокоиться насчет перьев и своих жалких доходов.
– Доброе дело ты сделал, Гаррет. Писец растворился во времени. Вот оно, то место, которое я искал.
С виду это был дом как дом, но на деле оказался таверной. У входа на лавке несколько человек играли в шашки. Переступив порог, Рафу с Бартоном очутились в зале; от громких разговоров и смеха у них зазвенело в ушах.
– Допустим, – раздался голос справа от Рафу, – допустим, что ткани оказались плохого качества и краску держать не будут. В этом что, я виноват?
Прямо за спиной Бартона препирались мужчина и женщина:
– Хорошо тебе говорить, госпожа терпеливость. Согласен, терпение – качество замечательное. Но кто из нас безупречен? Я вот точно не безупречен.
С одного из столов спрыгнул кот. Молодой человек, уставившись в кружку эля и медленно подбирая слова, объяснял собеседнику:
– Бедняку трудно приходится, куда ни кинь, всё клин. Если он не попросит на пропитание, то помрет с голоду. Если попросит, умрет со стыда. Я предпочел бы смерть поприятнее. Подлей-ка еще. Дополна.
Рафу с Бартоном нашли себе столик с двумя круглыми табуретками. Вскоре подошел хозяин таверны – вытереть закапанную пивом и вином столешницу, – и они спросили, имеется ли в заведении что-нибудь первостатейного качества.
– А вы, господа, лучше со своим кошельком посоветуйтесь, – угрюмо отрезал хозяин. Он по опыту знал, что среди посетителей часто встречаются бузотеры и пьяницы, и не церемонился с ними. – Лучший эль у меня идет по четыре пенса за галлон. Галлон гасконского вина тоже стоит четыре пенса. Рейнвейн – восемь пенсов. Но если желаете сладкого вина, ступайте куда-нибудь еще.
– А так ли уж хорош рейнвейн?
– Своих денег точно стоит.
Они безмолвно сидели над полными стаканами и слушали разговор старухи с уличным торговцем.
– Попугай любит роскошь и обожает вино, – говорила она. – Селезень – капризник, а баклан – обжора.
– Про ворона что скажешь?
– О-о, сэр, ворон – мудрец. Аист же, представь себе, страшно ревнив.
– Старуха окосела и, как свинья, с удовольствием бултыхается в помоях; дура дурой, обезьяна и то умнее, – пробурчал Бартон.
– Слыхал присловье про пьяного: он, мол, дьявола видал, – шепнул Рафу.
– Ну и что? Нам сам черт не брат.
– Значит, нам и напиться невозможно? Так, чтобы в стельку, до положения риз?
За другим столом кто-то требовал счет, хотя его собутыльники подняли крик: «Брось! Давай еще по одной!» Один свалился с табурета, а когда хозяин начал его поднимать, стал мочиться прямо в штаны.
– Я тебе сказал «Расплатись!», а тебе что послышалось? «Пись-пись»?
Раздался взрыв хохота.
– Для этих не существует ни рая, ни ада, только земная жизнь, – наклонившись к эконому, вполголоса сказал Бартон.
– Эй, человек! Наливай, да пополней!
– Бог создал их, не наделив душою.
– Скидываемся, ребята! По шесть пенсов с носа.
– Они возвратятся назад, в землю, воздух, огонь и воду, так и не поняв, что прожили жизнь.
– Еще кружку!
В таверну заглянул торговец тесьмой и шнурками. Хозяин отрицательно замотал головой и предостерегающе поднял руку, но тот тем не менее вошел и заговорил на весь зал:
– Слыхали, люди добрые? Убийство в соборе! И воззвание лоллардов висит! Все летит в тартарары.
Он попросил кувшинчик сладкого вина и тут же за него расплатился. Отворотившись от торговца, Гаррет Бартон и Роберт Рафу по-прежнему сидели молча, словно воды в рот набрали, а тот продолжал:
– Убитый – писец Джейкоб, его все знают – пучеглазый такой и говорит, будто каша во рту. Его долбанули по голове, он и дух испустил. На покойника наткнулась матушка Келло и сразу сомлела.
– Известно, кто это сделал?
– Нет. Ни слухов, ни намеков. Подозревают, однако ж, лолларда. Над трупом висела бумага с проклятьями священникам и монахам.
– Все как есть правда, – вмешалась старуха, рассуждавшая о характерах разных птиц. – Джейкоб отправился к Господу, точно вам говорю. Рано или поздно все мы преставимся. – Она перекрестилась. – Вот тогда и узнаем, кто на самом деле свят, а кто нет.
Лежавший на полу пьянчуга немного очухался и спросил:
– Неужто никто не хочет кутнуть еще? До завтра-то еще далеко.
После общего собрания горожан [12] олдермены созвали самых достойных и состоятельных жителей своих округов. Сходились они в разных местах – у колонки, или колодца, или на перекрестке каких-нибудь улиц, – но цель была одна: обследовать все окрестные постоялые дворы и навести справки обо всех постояльцах, особенно иноземцах. Считалось, что малоимущие горожане вполне могут наброситься на любого чужака, словно рой пчел, завидевших в своих владениях нарушителя; нужно было действовать без промедления.
– Ты обязана дать поручительство за всех, кому предоставляешь приют, – заявил олдермен Скоган Магге, державшей постоялый двор на Сент-Лоренс-лейн.
– Чтобы я давала присягу за тех, кого толком и знать не знаю? Да Боже сохрани! – возмутилась хозяйка, худая костлявая женщина с пучком накладных волос на затылке, которые, свято верила она, все принимают за настоящие. Впрочем, настоящие волосы у нее имелись – на верхней губе, и Магга ежеутренне терла их пемзой в надежде свести совсем.
– Обязана, и точка. Ты в ответе за все их поступки и нарушения закона.
– Господи помилуй, разве бедной вдове по силам такое тяжкое бремя? Еще чего потребуете? Они выйдут на большую дорогу, и я за ними, они в закоулок, и я за ними?
– Отвечай на вопрос, Магга: чужаки у тебя тут есть?
– Да они мне все чужаки, Ралф Скоган, и ты сам это прекрасно знаешь. Уже двадцать лет я держу постоялый двор, и все шло благополучно, верно? Мыши, и те у меня кормятся лучше, чем в иных семьях домочадцы. Печальные настают времена, если вдову нынче обвиняют в том, что она пускает под свою крышу лоллардов!
– Да нет же, Магга. Мы только хотим, чтобы ты присматривалась к постояльцам повнимательней. Чтобы подмечала подозрительных людей.
– Подмечать заразительных людей? Таких у меня нету. Зачем напраслину возводить? Не ровен час, по твоему указанию меня запрут в комнате, поставят перед дверью плошку с уксусом, а на лбу намалюют красный крест, чтобы все видели. Может, уже до этого дошло? – Она стянула с плеч синюю саржевую шаль. – Это, случаем, не погребальный саван? Или я ошибаюсь?
– В общем-то, ты права, Магга. Но никто…
– Вломились ко мне, точно воры. – Она с презрением оглядела кучку горожан, сопровождавших олдермена. – Теперь надо мной вся улица глумиться будет, а ведь подати я плачу сполна. Так или нет? Говори, Ралф Скоган! Все добропорядочные соседки наверняка станут за глаза меня поносить.
– Успокойся, Магга. Ты ничего плохого не сделала.
– Выходит, меня привяжут к позорному стулу и будут макать в воду за то, что я ничего плохого не сделала? Таково, по-вашему, королевское правосудие? Да, худые времена настали в Лондоне. – Она уже собралась прикрыть дверь, но снова ее распахнула и прошипела сопровождавшим олдермена горожанам: – А вы годитесь лишь на то, чтобы в аду жарили на вашем сале сардины. Прощайте!
И захлопнула дверь.
Олдермен Скоган возвел глаза к небу и присвистнул.
– Что ж, – промолвил он, ни к кому не обращаясь, – чему быть, того не миновать.
Стоя у Креста св. Павла, по правую руку от помощника шерифа, Уильям Суиндерби предал огню пергамент с «Восемнадцатью постулатами». Драго с интересом наблюдал, как его хозяин поднял свиток высоко в воздух и лишь затем бросил в пылающую жаровню.
Глава седьмая
Рассказ исповедника монахини
Что есть правда, и что значит «кажется»? – спросила преподобная Агнес Джона Даклинга, исповедника монахини. Он тем временем выковыривал из-под ногтя кусочек дерьма. – Мэр считает Клэрис правдивой и надежной, как камень в мастерски сложенной кладке, но это естественно: натравливая народ на еретиков, она играет ему на руку. Король отбыл в Ирландию, и мэр остался в полном одиночестве. Ей ничего не стоит сбить его с толку.
По случаю дня Вознесения Господня свечи в монастырской церкви были увиты цветами. По обычаю голову Джона Даклинга тоже украшал венок.
– И она чересчур легко разражается слезами, – добавила преподобная Агнес.
– Такова уж ее натура, – отозвался священник. Он внимательно разглядывал миниатюру на полях псалтири, раскрытой настоятельницей. Миниатюра изображала группу паломников: впереди, окруженные облаком слов, бодро шагали рыцарь с оруженосцем; прямо сквозь фразу «Ascendit Deus in jubilatione» [54]54
«Восшел Бог при восклицаниях» (лат.).Псалом 46:6.
[Закрыть]ехала монахиня; следом, почти по пятам, – еще одна.
– Не уверена, – сурово бросила Агнес. – Притворство все это, а под маскарадным обличьем скрывается развеселая кобылка.
– Но многие и впрямь считают ее бесноватой.
– Чего нет, того нет. – Преподобная Агнес отворотилась от окна и пристально глянула на священника. – Речи ее темны, но Клэрис совсем не безумица.
– Да ниспошлет ей Господь более благие речи, – отозвался Даклинг.
За два дня до того он присутствовал на вечерней беседе епископского капеллана с сестрой Клэрис.
– Я не ястреб, – заявила тогда Клэрис капеллану. – Соблазнительным кусочком меня не приманишь.
– Я не предлагаю тебе даров, сестра. Я предлагаю тебе верный путь к раскаянию.
– В чем мне каяться? В том, что слышала слово Божие? Ты сидишь за кафедрой, а я – меж Его ног. Он касается моей головы. Моих ушей. Моих глаз. Рта. – она провела пальцем по губам.
Джон Даклинг отвернулся.
– Но из уст твоих, Клэрис, истекает больше яду, чем меду. – Капеллан понизил голос до шепота, словно разговор их стал опасен. – Почему ты твердишь о пожарах и резне в нашем городе?
– Потому что вижу ружья, свинцовые пули и порох. Потому что вижу сошедшихся вместе разных людей, лица их скрыты масками; это и чужецемцы, и обычные вольные горожане. Потому что предвижу много опасностей.
– Превосходно! Вот молодец! Эдак ты весь Лондон доведешь до белого каления.
– Вам же, святой отец, известна поговорка: предупрежден – значит, вооружен. В городе сто церквей. И каждой грозит опасность. А ты, Джон Даклинг, ты мне веришь? – Она повернулась к священнику и, приподняв апостольник, обнажила лоб – в знак чистосердечия, – но он отрицательно качнул головой.
И теперь он медлил, глядя в псалтирь.
– Никто пока не доказал, что она лжет, что на ней лежит тень подозрения. – Он поднял глаза и посмотрел в лицо Агнес де Мордант. – Наберитесь терпения, госпожа настоятельница. Петелька за петелькой, стежок за стежком, но, рано ли, поздно ли, а покров будет готов. Так и тут, потихоньку-помаленьку все прояснится.
– Следи за ней. Ходи по пятам. Навостри уши. Держись рядом, как пес возле косточки.
– Главное – не укусить ее.
– Не волнуйся, она тебя тяпнет в ответ. Главное, Джон Даклинг, будь осторожен. Пусть она сама себя выдаст и сама доведет себя до петли.
По указанию лондонского епископа сестре Клэрис дали светелку в доме для гостей и приставили монаха – стража и защитника в одном лице. Поселили его в соседней комнате, но разрешили в часы литургий молиться вместе с подопечной. Этот праведник по имени Брэнк Монгоррей прежде был исповедником и служил молебны в приходской церкви Гроба Господня; он считался большим знатоком всего, что касается «вышнего мира». Правда, было непонятно, с какой целью его приставили к Клэрис – то ли шпионить за ней, то ли составить ей компанию. Не исключено, что келейно он согласился на обе роли сразу. Настоятельница же сильно опасалась, что Клэрис его к себе приворожит.
Брэнк Монгоррей открыл окошко, чтобы подышать чудесным майским воздухом. Комната монахини располагалась на втором этаже, прямо над свинцовым баком с водой; из него пили птицы и там же чистили перышки. За этим баком и притаился Джон Даклинг, стараясь не пропустить ни слова из беседы в светелке.
– Брэнк, ты утром дрозда слышал? – прозвучал чистый звонкий голос монахини, знакомый уже многим людям. – Говорят, будто если больной желтухой увидит желтого дрозда, то сразу выздоровеет, а дрозд умрет. Жестоко, правда?
– Но у человека бессмертная душа. А у птицы нет.
– Кто это знает наверняка? Dieu est nostre chef, il nous garde et guye. [55]55
Бог нас ведет; Он хранит нас и не дает сбиться с пути истинного ( старофр.).
[Закрыть]
Никогда прежде Даклинг не слыхал, чтобы она говорила на англо-норманском наречии. Это лишнее доказательство ее двуличия, решил он. Разговор наверху продолжился, но собеседники отошли от окна; вниз долетали лишь отдельные слова. Вдруг Даклинг услышал ее возглас:
– Когда же наступит день семи спящих? [56]56
Согласно популярной в Средние века легенде, семь солдат-христиан из г. Эфеса скрылись от преследований язычников в пещере, в которой их потом замуровали, а около двух веков спустя они были обнаружены там живыми, восставшими после волшебного сна (или смерти).
[Закрыть]
И еще:
– Deus! Cum Merlin dist sovent veritez en ses propheciez! [57]57
Господи! Сколь часто Мерлин глаголил истину в пророчествах своих (старофр.)
[Закрыть]
Престранные слова слетали с уст молодой монахини! Ведь Мерлин был просто-напросто бес, которому поклонялся маленький народец, обитавший на вересковых пустошах и в болотах! Тут Брэнк Монгоррей стал ей что-то нашептывать. Уж не пытаются ли они объединиться в борьбе против мира его Святейшества?
Потом сестра Клэрис высоким голосом запела:
Вельможи будут слепнуть,
В рыцарях – злоба крепнуть,
Смерть будет косить опять,
Коли правды нигде не сыскать.
Даклинг повторил про себя слова песенки, чтобы лучше запомнить. А Клэрис продолжала:
Вместо ума – вероломство,
Вместо любви – распутство,
Вместо праздника – лишь обжорство,
Вместо чести – одно лиходейство.
Даклингу вспомнился парень, что когда-то давно изо дня в день торчал на углу Фрайди-стрит и Чипсайда и нёс очень похожий рифмованный бред. В конце концов его забрали в Вифлеемскую лечебницу и посадили на цепь. Несчастный твердил, что он – король то ли Бимы, то ли Богемии, а местные жители прозвали его королем Бубни. Потом на безумца нацепили бирку с названием лечебницы и выпустили, но он в приступе отчаяния утопился в Темзе.
Как только спустились сумерки, в каморке монахини затеплилась свеча. Даклинг неслышно отступил в тень. Сверху долетел голос Клэрис:
– Пусть все будет наготове у горбатого кожевника, что тачает обувку на Кау-Кросс, возле шлюзового створа.
К вечерне стали собираться монахини, и на винтовой лестнице гостевого дома послышались шаги. Это спускалась Клэрис. Закутанная в темный плащ, она скользнула мимо Даклинга по лужайке, открыла боковую калитку и торопливо зашагала по переулку к речке Флит. Стараясь оставаться незамеченным, он поспешил следом. Прибрежной тропинкой Клэрис направилась к городу. Для прогулки одинокой монахини место было совсем неподходящее. Этот берег Флита пользовался дурной славой: здесь часто шатались бездельники и бродяги, здесь же собирались женоподобные мужчины, которых дразнили «пидорами».
Клэрис шла мимо деревянных лачуг и небольшой каменоломни, мимо мусорных куч и разбухших от воды рыбацких лодчонок и наконец добралась до моста у Кау-Кросс. На другом берегу поднимался отлогий холм Саффрон-Хилл, который давно уже облюбовали лудильщики; их становище раскинулось до самого Хокли-ин-зе-Хоул. Пламя костров и факелов отражалось в медленных водах Флита – даже в столь поздний час слышался стук молотков и кувалд. За городскими стенами ночь наступала не по звону колокола.
Даклинг держался как можно ближе к Клэрис, но она вдруг остановилась и свернула в каменную келью жившего у моста отшельника. Наверно, хочет подать ему милостыню, подумал Даклинг, но, подойдя, услышал тихий разговор монахини с затворником.
– А у Моисея рост каков?
– Двенадцать футов и восемь дюймов, – отвечала Клэрис.
– А у Христа?
– Шесть футов три дюйма.
– У святого Томаса Кентерберийского?
– Без одного дюйма семь футов.
Потом отшельник свел ее по осыпавшимся ступенькам на берег, к ялику, вроде тех, что сновали по реке между Ламбетом и Вестминстером. Даклинг услышал плеск весел и увидел, что крошечная лодочка медленно двинулась по Флиту к окутанному тьмой городу, к Темзе. Здесь Флит струился неторопливо, но спокойствие это было обманчиво. В реку сбрасывали всевозможные нечистоты – от дохлых собак со Смитфилда до отходов свечного производства. Местами Флит был глубок и коварен, местами превращался в болотную топь. Он слыл особенно опасным для детей и выпивох; их тела частенько вылавливали из воды или находили в прибрежных зарослях тростника. Даклинг двинулся было по мосту, но вдруг услыхал на реке, прямо под его ногами, то ли вздохи, то ли шепот. Тот, кто издавал эти звуки, уже норовил дотянуться до Даклинга. В полном ужасе священник ринулся обратно. Когда он бежал мимо кельи отшельника, его окликнул слабый голосок:
– Дражайший праведный брат мой, да прославится твой священный орден и да принесет тебе заслуженную честь. Не подашь ли чего ради Христа?
За долгие годы каменная келья провоняла потом. Затворник, мужчина лет тридцати, не более, был одет и замызганную рубаху до колен.
– Тут проходила одна монахиня. Сестра Клэрис. Ты ее знаешь?
– Никакая монахиня сюда не заходила, господин священник. Монахиня не может покинуть обитель и одиночку. Давно ты в послушании? Есть у тебя мод капюшоном волосы?
– Я видел, как она здесь села в лодку и отплыла.
– Изыди! Изыди! Я ничего про то не знаю! – И отшельник принялся с силой биться затылком о стену позади него. – Изыди! Изыди!
Исповедник двинулся по берегу обратно, к обители Девы Марии; отворив боковую калитку, прошел по лужайке к гостевому дому и вступил в крытую аркаду. В комнате монахини по-прежнему мерцала свеча. Даклинг подошел ближе; из открытого окна отчетливо доносился низкий голос Брэнка Монгоррея. А потом – невероятно! – зазвучал чистый веселый голосок. Без сомнения, то был голос сестры Клэрис. Но Джон Даклинг только что своими глазами видел, как она плыла в лодочке по направлению к Темзе. Каким образом она уже опять здесь? Или его морочил проказливый домовой? Не секрет, что эти создания часто водятся в монастырях и других святых местах. Но почему он принял обличье монахини? Вдруг она запела: «О, Ты, что прекрасна и светла». [58]58
Христианский гимн Деве Марии.
[Закрыть]Из глубин памяти неожиданно всплыла странная, давно забытая картина. Даклингу почудилось, что время на мгновение замерло и сделало крутой разворот. Быть может, именно этого Клэрис и добивалась.
Тремя годами раньше он служил исповедником в тюрьме на Олдер-стрит; тюрьма была небольшая, старая, сажали в нее за серьезные злодеяния, оттуда сидельцы шли на виселицу. На эту опасную работу Даклинга отправил Лондонский епископ – в качестве епитимьи, когда выяснилось, что молодой священник завел шашни с замужней прихожанкой. Тюрьма состояла из двух смежных камер с куполообразным потолком. Камеры уходили в землю на семь футов, для входа в потолке была пробита дыра. Вдоль двух стен тянулись каменные лавки; пол земляной; у западной стены – помост, в нем шесть громадных железных колец. Джон Даклинг смертельно боялся подцепить в этом застенке сыпной тиф. Там он впервые завел разговор с Ричардом Хаддоном, торговцем рыбой, задушившим троих детей. На суде шерифа Хаддон признался в содеянном, но, поскольку читать-писать не умел, он не мог подать прошение о последней исповеди и отпущении грехов, и его приговорили к повешению на причале Дарк-Тауэр, где были совершены убийства.
Накануне казни он сказал Джону Даклингу in secreta confessione, [59]59
В тайной исповеди (лат.).
[Закрыть]что его мать на глазах сына задушила собственного новорожденного младенца, положила трупик в корзинку, отнесла на берег и сбросила в Темзу. После того случая мать нещадно секла и колотила Ричарда. Однажды он не выдержал и завопил во все горло; вот тут-то, уверял узник, в него и вселился дьявол. За всю свою жизнь, по словам Ричарда, он лишь раз испытал отраду: мать убаюкала его песней, начинавшейся словами «О, Ты, что прекрасна и светла», и он в слезах заснул.
Еще более удивительным было расставание Хаддона с земной жизнью. Когда его подняли из каменного мешка на Олдер-стрит и привязали к телеге, чтобы везти к причалу Дарк-Тауэр на казнь, он открыл рот и запел. И пока телега тряслась и подпрыгивала на булыжниках, он сильным певучим голосом выводил: «О, Ты, что прекрасна и светла». Безгранична милость Божия.
Под звонкое пение монахини Даклинг крадучись вышел из аркады гостевого дома и направился к себе. Вошел в келью и вдруг подумал: уж не монах ли, Брэнк Монгоррей, исхитрился петь голосом Клэрис?