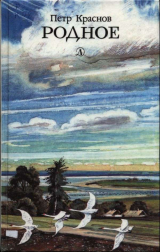
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Пока он бегал посыльным за родней, за тетками своими (в их черед они тоже к ним придут на помощь), мать с отцом заложили кизяком уже порядочный-таки угол их «поместья». Мужику делать кизяк гордость не позволяет, однако ж отец нынче отчего-то делал, хотя в прошлом году и слышать об этом не хотел; матери нынче он помогал, вот что. Ребятню же приваживали к этому, хвалили как могли, и он с жаром принялся накладывать в станок, уминать и таскать.
Уже носили кизяк из соседнего круга и Якушкины: несколько баб, две девчонки и сын их, Паша-Буробушка, малый добрый и старательный, но иногда упрямый, каким почти все они бывают, скорбные.
Он видел, как Паша, прежде чем взяться за станок, снял с руки детские часики игрушечные с нарисованными стрелками, посмотрел на них долго, любовно, но и как-то с превосходством (знаю, мол, что игрушечные – ну так что ж!) и заботливо их положил в карман, улыбнулся. И теперь вот, весь в крапинках навозных брызг, испачканный до пояса грязным материалом этим, суетливо работал: брякал станок на доску, торопливо хватал навоз и сильными руками уминал его в станке так, что брызгало порою в лицо ему, – и чуть не бегом тащил к рядкам. Кизяки, впрочем, выходили у него сносными, за что мать и сестренки то и дело хвалили его. Паша все сделает, только похвали.
Иногда ему почему-то не нравился какой-нибудь кусок; он тогда не клал его в станок, отбрасывал – и вдруг принимался искать что-то в навозе, что-то лучшее, очень ему нужное, с каким-то озабоченным, самоуглубленным выражением в лице… И скоро находил, и тогда поднимал счастливое, словно слепое, лицо к солнцу и блаженно улыбался ему.
А рабочая «пряжка» долга, о чем только не наговоришься: и про то, каково-то нынче гусей стеречь-пасти, и почем весной картошка на базаре шла, и как, должно быть, у Гагарина баба горевала, пока он летал там, а пуще того мать, ей-то каково было узнать, что он там был…
– Мы-то хоть не знали, как они там, – сокрушалась тетка Марфуня, разогнувшись, тыльной стороной руки стараясь загнать волосы под платок. – Мой как вернулся с фронта да как порассказал – я три дни сама не своя ходила: да куда ж, думаю, господь-то глядел… А тут он еще там, должно, а уж по радио на весь белый свет… а кто ё знает, что он там встренет?
– Да не-е, он уж вернулся, тогда и передали.
– А все одно!..
И тут же про денежную реформу, у всех она теперь на устах. С ума посошли в народе-то: «Три рубли да за тридцать копеек?!» Что там было в магазине – все порасхватали, ни мыла, ни соли, ни спичек даже не осталось… А Бурдяева-то баба: уж всего, кажись, накупилась, все вдвоем они в дом сволокли, что могли – а деньги все на руках, руки жгут… есть у них чулочная деньга, есть, в народе не зря говорят! И вот прибегши это она, никак уж в десятый раз, в магазин-то, – а там уж голо, бабоньки, шаром хоть покати. Она, это, в хозмаг – и там ни гвоздя, одне хомуты… И так-эт ей за обиду стало… расстроилась вся, аж плюнула: давай, грит, хомуты, раз так, – все три давай! И поперла их, потащила на себе… Бабы весело хихикали: два-то ладно, по хомуту на каждого, а третий-то кому ж?..
А ему все труднее становится. Первые кизяков тридцать – сорок он легко отнес, не очень устал и на шестом-седьмом десятке. Но ближе к сотне дело стало продвигаться не то чтобы очень тяжело, но медленнее. В кругу их, вприкидку, две с лишним, а то и все три тысячи будет, да завтра еще один такой же надо измять и переделать – тяжело… Ну и что же, что их пятеро – до самой до ночи за глаза хватит, намучаешься.
Все чаще он об этом думает, и все тяжелее работать – а круг, кажется, совсем не убавляется, конца-края нет этому навозу. Наложил, умял, загладил, понес… И опять накладываешь, стараешься побольше отхватить от круга, но в станок только половина лезет; со злостью тыкаешь кулаками, сверху печет, ни ветерка, и никто на тебя внимания не обращает, не видят, как ты мучаешься тут – каждому самому до себя. Глаза бы не глядели на эту работу. Куда лучше возить его либо мять. Или, положим, из катуха вычищать, это куда интересней. Там прохладно, и никто за тобой не гонится; и стараться при людях не надо, как здесь; нынче не сделал, так завтра докончишь… Наложил – умял – загладил – понес. И еще… И все время нагнувшись да нагнувшись, неба не видишь.
Кизяк, он слышал, и в соседних селах делают, конечно, и везде, наверное, по всей стране – самое сейчас время для него, пока сенокос не начался. Да и куда без него, дров разве напасешься? Это все леса, которые он смутно себе представляет, порубить надо, тогда только хватит. Леса, говорят, большие есть, побольше их осинового – ну а все равно…
Он смотрит на соседский круг. Девчонки те, сверстницы его, тоже устали, непослушными ручонками укладывают, уминают навоз в станки; и подымают с натугой, несут перед собой торопливыми шажками, откинувшись назад и пошатываясь, тонкие, как тростиночки, под тяжелой этой, в треть пуда считай, ношею… Они уже и не отстраняют от себя станки, сил нету, платьишки их на животах все как есть в навозе, его штаны и майка тоже…
И первой эту его усталость замечает мама. С пытливой полуулыбкой-полужалостью смотрит она ему в глаза, говорит вроде бы весело:
– Ну как – идет работка-то?! Ну и слава богу. Ничего, глаза страшатся, а руки делают. Сейчас он у нас запищит, круг-то… – И вдруг вспоминает: – Господи, жарит-то как – дыханьюшки моей нету! Сбегал бы ты, сынок, за водой, вышла вся в чайнике, выпили.
– Вот-вот, – поддерживает ее тетка Марфуня и кричит соседям: – Вы-то как там – с водой? А то пусть молодяка наша сбегает в село, к колодцу… как оно будет хорошо, холодненькой-то!
– А и то, – соглашается хозяйка Якушкиных. – Ну-ка, девки, слетайте-ка с женишком… Хорош женишок, ты гли-ко – не хуже тещи кизяки кладет. А засылайте к нам сватов, под осень?!
– Ну а что ж, и зашлем! – с веселой уверенностью говорит отец и разгибается, смотрит насмешливо, руки у него, как и у всех, чуть не по локоть в навозе. – Залог ваш, утиральники готовьте, нечего и медлить.
– А у нас есть, хоть сейчас!
– Вот еще… – ворчит он и что есть силы хмурится, показывая, что пусть они дурака не валяют; а на девчат не хочет, не может смотреть – стыдно… Что за народ такой, думает, вечно им про девчачье что-нибудь надо… дались они им, эти девчата!
От колодца они возвращаются, когда уже по всей округе вовсю завечерело. От круга всего ничего осталось, один мысок, бабы обложили его своими досками вкруговую, добирают остатнее – и он будто и в самом деле слышит, как он пищит, круг, жалуется, добиваемый сильными, со стороны глянуть – вовсе не уставшими руками матери и теток. У соседей кусок еще порядочный, но там, глядя на ночь, тоже торопятся, работают уже молча – усталь свое взяла, не до разговоров.
– Все кишки порвал, не могу, – говорит вдруг Паша, выпрямляется и утирает лицо локтем, размазывая навозные брызги. Он говорит это так жалобно, с таким беспокойством и животной какой-то заботой о своих кишках, которые в нем есть и которые так натрудились и устали, что все ему верят, жалеют; пусть и все семнадцать ему, а жалко. Работает он торопливо, рывками, будто каждый кизяк у него – последний и он торопится побыстрее сделать его, положить, и потом убежать в мальчишескую их компанию, на реку, – немудрено и устать. – Болят кишки, – объясняет он всем и показывает на грязный свой живот, кивает головой. – Прямо болят, и все!
– Ну, еще немножко, Паш, – уговаривает его мать. – Ты не торопись только, помаленьку.
– Немножко можно, а больше не могу, – говорит он покорно, с ребяческой серьезностью, нагибается, берется за станок; и опять его что-то несет, торопит, будто сжигается что в нем – может, разум сам? – освобождая лихорадочную неразумную энергию, нетерпеливую и раздраженную теперь…
Водоноса подзывают все, он высоко держит чайник, и они поочередно, отстраняя грязные руки как уставшие раскрылившиеся птицы, пьют из носика. На круг уже и доску положить негде, так мало его осталось; его посылают мыть освободившиеся ведра, потом палочками метить приграничные свои кизяки – кончается день.
Назавтра все это повторится еще раз, а сегодня день кончается. Полощутся в теплой грязноватой воде натруженными руками бабы, отмывают присохшую коростой навозную жижу с локтей и ног, с лица; тянутся вереницами с верховьев речки люди с вилами, с чисто вымытыми станками и досками, окликают еще работающих:
– Бог в помочь!
– Спасибочки на добром слове.
– Пищит?
– Пищит, куды он денется!..
Золотой был день, яркий и тихий, с мягким свежим солнышком, какое после непроглядных грозовых ночей бывает, – и назначен, отмолен был он старухами и всеми не для праздника, свадьбы или еще какого-нибудь торжества человеческого, а для кизяка.
Без малого шесть тысяч с двух кругов насчитала мать кизяков, а сделано только полдела, до печи им еще далеко. Слава богу, не было ни дождя, ни потравы скотом, за несколько жарких дней укреп он, коркой сверху покрылся, пора настала переворачивать. Дело это нетрудное, ходи себе и ставь их огородной тяпкой на ребро, и поручалось потому ему одному. Но кизяки уложены плотно, босые ноги еле умещаются в междурядьях, дерет их шершавыми ребрами. Да и шесть их тысяч, кизяков-то. Хочешь быстро сделать, но получается это плохо: ногам неловко, жара и невесть откуда взявшийся сон морит…
Затем, как подсыхает кизяк, надо ставить его в пятки: четыре на торец, а пятый сверху; потом в рыхлые, сквозные для ветра небольшие скирды; а потом и в большие, крепко сложенные, каким не страшна степная непогода. А уж осенью, после всех работ, надо эти шесть тысяч перевезти на рынке, домой, ко двору, перетаскать и сложить их под высокий сарай ли, в сенцы или даже на задах – где место есть… Сухой кизяк хоть и не так тяжел, как в станке, однако уже с пятков становится шершавым и колким; пока перебираешь по многу раз эти тысячи, кожа на пальцах стирается до сукровицы – в рукавицах не поработаешь, неловко. Или вдруг упадет, дерябнет по голому телу, многие из царапин и ссадин доставались им от кизяка.
И когда наконец глубокой осенью кизяк определен был на место, ему положенное, когда пальцы его еле держали ложку за ужином, мать его молодая в который раз крестилась, как никогда истово и благодарно, и говорила: «Ну слава богу – управились… Без хлеба, без картошки сидели – ладно. А без кизяка ни разу не оставались, никак нельзя… замерзнем. А теперича мы живем». И идет к плачущему братику его, совсем новому, еще месячному, который только и знает, что кричать или спать. Правда, недавно он в люльку заглянул, а тот нет, не спит: таращится, катает глазенки, никак их остановить не может, не умеет еще. Еще не здесь братик, но где-то там будто, откуда пришел; и гулил, разговаривал с тем еще, своим, и глядел туда, свое видел что-то, целиком его занимающее, – сюда отвлекаясь лишь иногда, ненадолго, когда есть хотел или от боли в животике. И серьезный, не улыбнется. Это он спокойный был, довольный своим житьем. А когда недоволен, то кричит громко и требовательно, как будто весь белый свет у него в должниках, будто всему на свете и дела больше нет, как только помочь ему вырасти, большим и грубым стать. Мать на это лишь усмехается – глу-упый!..
Мать усмехается, подходит к нему и спрашивает:
– А это кто тут напрудил, а? Кто набедил? И не совестно?! Пеленок на него не напасешься, на поросенка… на поросеночка на нашего!
Но что искал Паша тогда там, в навозе? Скорбный, но тоже человек, сосуд человеческий, он ведь тоже что-то ждал от жизни и, живой, ждет до сих пор, ждет и теперь – чего? Этому нет ответа. Только видишь, как ищет он, до забытья озабоченный своим, и наконец находит что-то, только одному ему ведомое, ему позарез нужное и дорогое – и тогда поднимает счастливое слепое лицо свое к солнцу и блаженно улыбается ему.
Сестрицы

Они, цыгане, объявлялись в округе всегда неожиданно – то одиночные, захожие-залетные, с тощими длинными, самого черта утолкать туда можно, мешками за плечами, а то всем громоздким на вид, но скорым в ходу табором, когда как будто ветром со степи их наносило. Появлялись, наводя опаску какую-то, смущая и веселя, шастая по дворам, обирая, собирая свою почти законную мзду, и снова надолго пропадали, как их не было никогда, ничего к жизни, кроме разговоров, не прибавляя. И разговоры тоже недолго жили, забывались в работе, пустое все; лишь баба-простодыра, спохватившись, не найдет вдруг вещицу какую нужную в дому, пусть хоть малую, или со вздохом вспомнит клубок шерсти, яиц десяток либо даже курочку… Пришельцы ничем не брезговали, все брали, что дают и не дают, даже и то, что сами потом выбрасывали, на задах или, в насмешку, тут же, под окнами, пробормотав надменно-презрительное что-то, недовольное, – ну, такое бывало нечасто, перед куском хлеба не морщились. Не такое было время, чтоб морщиться.
Нынешние стали большим табором верстою от села, у Жданкина родника – это он с дружками своими, ребятней, разведал сразу. Их мужчины, должно быть, еще лошадей распрягали, заводили костры, а цыганки были уже тут как тут, шатались уже по дворам, по задворьям скользили, разглядывая все, озираясь, развевая цветастые свои заношенные юбки, вольной широкой, не притомленной жизнью походкой – быстрою, готовой всегда перемениться, свернуть, остановиться, если вдруг что почуется… Насторожилась сразу, слышней стала уличная тишина, сам денек серый летний. Заперев от греха подальше избы на замок, выглядывали, выходили ко дворам хозяйки: их пустишь в дом, а потом не выпроводишь, нахрапистый уж больно этот народ. Пока не выцыганит – не уйдет, да и вороват, не уследишь. Побаивались сглазу тоже, мороку, другого какого «мошенства». Гляди да гляди теперь – за скотиною с птицей, за ребятишками, а прежде всего за домом. Другое дело, если продадут что или обменять принесут: это можно, отчего ж не посмотреть.
А те уже по всему порядку рассыпались – снуют, вольные, собирают вокруг себя редкий народец, все больше баб с ребятней; гадают, бесстрашно заглядывая в глаза, на картах и по руке, малеванные на грубой ломкой клеенке коврики всучивают, где кавалеры с гитарами перед красивыми розовыми барышнями, а кругом диковинные ядовито-зеленые кусты и яркие, с голову кавалера, цветки невиданные; и вот уж цыганенок, в скукоженных сапожках, грязный, как прах, быстро отплясывает на месте, ни на кого не глядя, протягивая кому-то руки, а молоденькая с навязчивым взглядом цыганка тут же ходит по кругу, просит за него, но все посмеиваются и никто не дает. Дают там, где гадание, – завороженные напором красок, малость повыцветших, этими юбками всякими, шалями и ковриками, взглядом равнодушным и цепким, бесцеремонным каким-то, самою речью гортанной, резкой, быстрой, вроде связной, но все равно невнятной, старающейся будто скрыть что вместо разгадки, – тайною завороженные… Чем-то тянет к ним баб, чисто по-женски, любопытство и будто зависть какая проглядывает в глазах, в лицах у них, растерянных немного; пусть ненадолго, минутно – а есть… Смелости, что ли, завидуют, беспечности и воле чернявых сверстниц своих? Кому она, такая воля, нужна? Знают ведь, наслышаны, что не принеси товарка их вольная вот эта добычу или мало своруй – прибьет ведь хозяин, мужики у них суровые, не то что наши. Тощие вон, грязные все, бани-то небось и не видят. Да и что это за жизнь такая – на ногах да на колесах все время, в дороге, без угла своего?! Нет, лучше уж в навозе, чем такая воля. Мы-то хоть при деле, не себе, так детям, – а они что оставят, эту самую волю? Так она никому не заказана, иди да гуляй, а зубы на полку… И уж глядели вроде как жалеючи, отходя от первого цыганского угару, от стеснительности своей, боязни, – бабы как бабы, такие ж, хоть и бойкие. Небось тоже думают, чем своих накормить да где уложить; одно дело – в дому, а как в степи да в непогодь?.. Сердце-то материнское тоже, хочешь не хочешь, а думай. Нет, пропади оно пропадом, какой ни есть, а все-таки дом, родня, шабры свои кругом; по крайности, на могилки сходишь к мамушке, поплачешься. Куст на реке, в лугах, какой обручал – и тот не откажет, примет.
– Слухай-ка, чавела… а вы где хоть своих-то хороните? Неужто в степу прямо?
Постарее других, телом и ликом горбоносым поразбитее, цыганка тяжело глянула на вдову с войны, тетку Марею, сказала равнодушно:
– Э-э, милая, тебе какое дело?.. У вас места не отымем, всем хватит, да еще останетца. Давай-ка погадаю лучше, я вижу, ты почему спросила, сердце у тебя ноет, проситца; вещунье у тебя сердце, а ты сама этого не знаешь, милая…
– Да ты обожди, успеешь еще нагадать… Ты мне скажи…
– А вы где хороните?! – проговорила резко, вскинула голову цыганка, не глядя; смутным и быстрым, неуловимым каким-то движением достала из юбок потертую карточную колоду, темными пальцами развернула и свернула. – На могилках? И мы на могилках, чево ты беспокоишься. Беды не жди, а пришла – провожай подальше.
– И где ж они у вас?
– На земле, милая, на земле. Ну-ка, позолоти ручку, а я тебе все скажу, что ждешь, что не ждешь, каких страстей навидалась, каких видеть не хошь… Что ж ты это, милая, милова не нашла?! Потерялся твой милый среди путей-дорожек, все дорожки прошел, одну не нашел – к дому любезному. Закружила его тоска дремучая, смерть неминучая, а где та смертынька – никому не знать, не ведать, не выведать, в горсть не сгрести, руками не развести… Любила б – да любить некого, дала бы – да давать нечего; а уж мне ты найди, мне хорошо, а тебе еще лучше будет, душа-то проситца, а ты успокой, не томи понапрасну душу-то, она и так все исстрадалася…
Сникла тетка Марея, ладонь свою грубую ей торопливо протянула, словно сама за подаянием, глядя просительно и покорно…
Цыгане же мужики появлялись на селе совсем редко. Один только сюда приходил, расположился у дома, в котором было раньше правление колхоза «Свободный пахарь», а теперь начальная школа. Совки разные, кочережки, чапельники разложил, всякую кузнечную поделку, даже пару новых, будто с завода только, амбарных замков – ему одному ведомо, где он их достал. Кожа на лице его была темна и сера, нечиста, а глаза выпуклые, с большими грязноватыми белками, чуть косо поставлены и звероваты, как у суслика. Смотрел на них, ребятню, а потом сумел как-то приятно оскалиться, громко скомандовал: «А ну, марш по дворам! Пусть все приходят, покупают – ничего не жалко! Налетай, нищета, подешевело!..» И опять засмеялся, как-то по-хорошему, будто все они тут ему своими были.
– Коврики-т куда-а… цветастые, – сдержанно хвалили, хвастались бабы. – Я как увидала этот, с лебедями, – ну, думаю, не расстанусь!.. Все в избе приветней, не одни эти шпалеры. И где они только добывают!
– Видно, ктой-то делает им, с рукою человек.
– А эта, старшая-то среди них, гадалка которая… господи, страшней войны! Как глянет – прямо жуть берет…
– А я вот, погляди, платочек взяла, за семь всего рублев. Поторговалась, конечно, зато уж…
– Скольки, говоришь? Это вот этот-то?! Да-к они ж в раймаге вон лежат, Анютк, четыре двадцать штука! Ей-богу, не вру. Продешевила, девонька.
– Да как же-ть так…
– А вот так, я тебе врать не буду. Лежат, сама надысь ездила, видала. Да-а, дела… Да ты ладно, не жалей. Считай, на свое и вышло: на дорогу бы рупь, а там, глядишь бы, в чайную зашла, то-се. Не жалей.
– Оно б конешно… Только рубли-то эти, они тоже не задешево. Думала дочерю порадовать, девка уже, в девятой пойдет… Порадовала. Вот сука.
– Ладно, девонька, что ж теперь…
– Сучка, самая настоящая. Рази так можно? Ты, часом, не видала ее – молодая, с сумкой такая?.. С ридикюлем? Об морду ей исхлешшу весь платок этот. Совсем бога забыли.
– Где ты сейчас найдешь… Они уж либо на село умотали всем кагалом, к правлению, там орудуют.
Мать дома, в избе как раз находилась, и он с нею тоже, когда на второй день скрипнула, предупреждая, сенишная дверь, кто-то дольше нужного замешкался в сенях, а потом послышалось невнятное и вкрадчивое, словно там занятое чем: «Эй, хозяйка-а…» Плетневые большие сенцы за амбар им служили, там в пустом ларе и еще в сундуке под кроватью хранились все их того времени скудные пожитки. Мать, на ходу тяжелую тогда, братишку ждали, словно ветром понесло к двери – распахнула ее, выглянула, выскочила:
– Э-э, девка… ты зачем это тут?! Нехорошо так, зашла – и ни мур-мур! Ты что тут, в сенцах, выглядываешь?!.
– Ай, хозяйка харошая, не больно бегай… Зашла проведать-поведать, чево сердишься? На себя не рассердись гляди – долго потом будешь сердитца… Ты мне зла не желай, и я тебе не буду. Ой, паренек какой, глаза какие хорошие – человек будет, попомнишь мои слова…
Смущенная таким оборотом, отступила мать к печи, давая пройти, – тесно в избе, в оклеенных жухлыми газетами саманных стенах. Печь с подтопком и малым кухонным закутком с одной стороны, кровать с другой, стол в углу да лавка, вот и весь дом. Цыганка, ровесница ее по виду, в грубых побитых башмаках и кофтенке с засученными рукавами, прошла к столу, покачивая большими блестящими серьгами в ушах, узел из вытертой шали сняла с руки и положила на самодельную их деревянную кровать; оглянулась быстро, все заметила и села, вильнув плоским задом и юбкою всей, прямая и все-таки вольная.
– Все равно нехорошо – выглядать, шарить-то…
– Ай, какая ты беспокойная… зачем так?! Мне твоего ничево не нада, что заработаю, то и мое. Хошь погадаю, хошь песню спою-спляшу, я все могу. Если болеешь чем – скажи, лекарства у меня есть одна, заговорю, как рукой сымет, век благодарить будешь!
– Паси бог, ничем я не хвораю.
– Обожди, не зарекайся, милая, не таропись… – Глаза ее, густо-медовые, печальные, под одним следы еще не сошедшего синяка, бегали по избе, занавескам и наконец вернулись к матери. – Все под рукою одной ходим, зачем так говоришь. Принесла я тебе, хозяйка, чудо какую картину… рада будешь.
Она встала и ловко высвободила, вытащила из узла стеклянную разрисованную, с большую книжку размером, пластину, обмахнула подолом широченной своей юбки:
– Вот смотри! На погляд, на продажу, а коли хошь, так обменяю. Ты не возьмешь – другие с руками оторвут, стать не дадут… я дело свое знаю, обманывать не буду. Не я бы – век такой не нашла, не увидала б, много чево есть, а такое, скажу тебе, редко…
Цыганка тараторила, а они смотрели. Сразу картинка маме понравилась, это уже по тому заметно было, как она глядела: помягчела глазами, даже будто покраснела немножко от удовольствия, настороженно поджатые губы отпустила… Яркая была картинка: на лаковом черном поле нарисованы были три сестрицы, друг к дружке повернутые, в красивых одеждах, но с бледными нежными лицами, с печалью в глазах, такою же, как у самой цыганки, только добрее. Что-то кроткое и покойное было в них, как на иконах, и хотелось долго смотреть и думать – о чем, он сам не знал, но думать надо было… И они смотрели, ему тоже хотелось, чтоб картинка эта осталась, всегда висела у них, украшая собою их дом, успокаивая, что-то такое людское утоляя в них, беспокойное, чему и названия-то нет. А цыганка, довольная успехом, все тараторила, расхваливала и божилась; и когда мать, совсем раскрасневшаяся, спросила наконец расслабленным голосом: «Скольки же?..» – та в который раз обежала рассеянно глазами избу, в недоуменье будто, и вдруг осенило ее: сделала к кровати виляющих два шага, гибко и быстро потянулась и сдернула с двух больших подушек третью, поменьше, на которой он всегда спал на печи, сунула под мышку:
– Ай, зачем деньги, сестрица, деньги подождут. Па рукам?!
– Обожди… Постой, девонька, что ж это ты так?.. – растерянно сопротивлялась мать. – Она ить не ватная – перьевая она, денег стоит. Ты, гляжу, уж больно совсем…
– А ты такую разве найдешь где? В сельпо купишь? Ай, какие вы, ничево хорошего не понимаете, хоть кол на голове теши. Вам попал холст, а вы говорите, что толст! Чево еще нада?! Бери, хозяйка, не думай, много думать будешь – ничево никогда не сделаешь, это я тебе правду говорю, истинную.
– Да как же-ть не думать, подушка – она ить, шутка ли, все десять, а то и… Вот бери два, все три бери, я разве что говорю. Я ничего не говорю, хорошая, а только ведь безделушка вроде… Не-ет, так не пойдет.
– Какая безделушка, красота разве безделушка?! Апомнись, что ты говоришь? Я тебе как себе добра желаю, а ты слушать не хошь, все на свое переводишь, как не знаю кто… А-а, ладна – бери! – Цыганка, все придерживая подушку, другой рукой вытянула из-за пазухи, из потайных своих карманов крупные, яркие, как рябина, бусы; показала, какие они, и решительно сунула матери прямо в руки. – Бери, для тебя не жалка! Молодая еще, гулять да гулять тебе; а в молодости не погуляешь – в старости не наверстаешь, не догонишь ни на каком скакуне, ничево тогда не нада будет…
И подхватила узел.
– Да ты постой-ка…
– Чево стоять, раз дело сладили?! Благодарить, милая, будешь, помнить; ат души тебе скажу – гуляй, не забывай, что годы пока молодые, а то поздно будет, истинно тебе говорю…
И тут со двора, заслыша, видно, разговор, вошел отец. По дороге прихватил из сараюшки пару кизяков для подтопка, мать что-то варить собралась; и стоял теперь с ними в дверях, в другой руке тупой, каким кизяки раскалывали, топор, переводя глаза с матери на гостью, силясь понять, что тут происходит. Опять поглядел на цыганку, подольше, сощурился:
– Что такое?
– Да вот, насчет картинки торгуемся. Гляди, какая… Надоть бы, – просительно, чуть не умоляюще глянула на него мать.
– Надоть, так бери.
– Ну, я тогда пошла, хозяева дорогие. Щастливо вам, живите палутше, вы молодые, вам…
– Пойдешь, пойдешь, – сказал отец и тут же, прямо у порога, сложил кизяки. – Подушку-то оставь.
– Э, милай, мы уж с хозяйкой сговорились…
– А меня не спросили. Ты что, – сказал он матери, – вправду, что ль, за подушку? Ну а что ж тогда, если нет… Сколько даешь ей?
– Да вот, трешницу, а она…
– Вот и отдай. Бери, – сказал цыганке отец, – и чтоб духу тут не было. А подушку положь, говорю.
– Ай, нехорошо как, хозяин…
– Ну?! – Он протянул руку, но цыганка ловко, неуловимо как отшатнулась, отступила, ткнулась задом в стол, оглянулась затравленно; и лицо ее, такое прежде свойское, снисходительно-угодливое, с каким над дитем в люльке склоняются, передернуло вдруг все судорогой презрения и ненависти – не узнать было лица… – Да ты што, стерва, не хошь?!
– Нехорошо-о, ай, нехорошо делаешь…
Она даже посерела вся, так не хотелось, не по сердцу было ей отдавать назад, но и отступать уже было некуда. И отец тоже не на шутку разозлился, они знали, как он злится: готовый на все станет, встопырится, того и жди…
– Да уж что хорошего…
Он опять шагнул, глядя злобно и удивленно, что здесь его не слушаются, подтягивая по привычке забытый в руке топор – и та не выдержала, бросила подушку на кровать, скривилась:
– Н-на, подавись!.. Гляди, хозяин, – пожалеешь.
– Это в дому-то своем?! А ну-ка…
И когда скользнула она мимо него, тяжелым пинком, уже вдогонку, подбросил, отправил ее к двери, та распахнулась, и цыганка вывалилась наружу, проворно вскочила – и через миг какой-то молча, в страхе пронеслась мимо окон. Еще, видно было, пробежала и перешла на торопливый шаг, виляя задом, оглядываясь то и дело, лицо ее коверкало ненавистью и страхом, по-детски каким-то неудержимым, первобытным…
Отец молчал, мать в замешательстве тоже; и потом сказала, пересиливая тягость в себе, с горем:
– Да ты это зачем же, так-то? Иль хочешь, чтоб пожгли они тут все – этого ты хочешь, да?!
– Пошла т-ты… дуреха! Если б не я, она бы тебя как липку тут всю ободрала… Ох, дуры вы, бабы, – невмоготу.
– Мы-то ладно, дуры, мы все добром как хотим – а ты?! Иль ты забыл, я какая? А сглазют если, мстить будут, что тогда?.. Господи, да хрен бы с ней, провались она, подушка эта, лучше не надо ее, чем так… Жди вот теперь, не зная с какого боку! Идол ты, идол, кипяток дурной, дикай…
И пошло-понеслось, и все под горку. Мать свое тянула, пугая себя все больше, чуть уже не плача, желая этим еще, верно, и промашку свою прикрыть, – а отец свое, никак не мог успокоиться:
– Ишь они, борзые какие… на чужом горбу хотят в рай въехать! Ты тут колотись, а они за тебя жить будут – как-кие!.. Больно хитрые. К чертовой матери их выгнать, лындают, легкожители, добрых людей… У них ить на зернышку ее нету, совести, ворье да побирошки, я их, слава богу, нагляделся… А ты все ворота растворила, расхлебянила. Их тока слушай, они всякое нагородят! Ты эту подушку сколько собирала, ну-ка вспомни?! В лугу на пастьбе перья гусиные подбирала, шшипала… а она пришла и взяла! Тебе б самой первой всыпать надо – да рази вас научишь… Приветь еще какую, – стучал он по столу пальцем, – попробуй – я т-те привечу!
Мать, конечно, отвечала, а его, так и оставшегося во время перебранки сидеть в своем углу, тут же послала за телком, который привязан был на вольной траве за огородом – не ровен, мол, час… «Иди, сынок, раз хозяин не думает… иди, милай».
– Дура ты, – в который раз сказал отец, он в таких усобицах уставал первый. – Они что ж, прямо сейчас и начнут?.. Дурью ты маешься, вот што. Сама виновата, вот и крутишь, выдумываешь… – И, немного погодя: – Ничего, я эти дни дома… Головы поотвертаю, в случае чего.
Так у них появились, остались надолго три сестрицы с нежными печальными ликами, склоненными друг к дружке, в бумажном венчике по краю, для него таинственные всегда Вера, Надежда, Любовь – так было там надписано. Уголок один позже откололся, мать его старательно подклеила с исподу картонкой на тесте, другого клея не было. Долго оставались, когда уже и дом они перестроили, пустили самануху под заднюю избу, а главная их жизнь переселилась в новую деревянную переднюю, большими трудами собранную из разнолесья; долго, всегда, как иногда ему казалось, были. И те бусы дешевенькие, забытые впопыхах гостьей, тоже, мать их в каждый праздник надевала, любила.
Несколько дней, которые они потом прожили не без опаски, прошли, табор снялся наконец и отбыл неизвестно куда, за ветром, освободил от себя село. Только раз они, ребятишки, издали посмотрели на него, близко подходить боялись, помня наказы взрослых. Странным был этот чужой, переезжий к тому же дом… Цветастый и скудный одновременно, затаскаяный в дорогах, в пыли и грязи со всего свету, обветренный, выгоревший на долгом, всякий раз от зари до зари, солнце. Стояли там, задрав оглобли в небесное марево, беспорядочно повозки с ветхими брезентовыми и полотняными верхами, с тряпьем свесившимся, веревками и старыми коврами; все время дымилось что-то, то кизячным наносило, то едким угольным, лошади в низинке ходили, мелькало, слышалось гортанное, визгливое и вместе веселое – и звонкий, чистый от наковаленки звук над их пустой, небогатою в том угодье степью.








