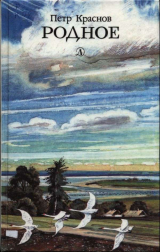
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Чужень

Паша Буробушка еще только головой начал ворочать после капустников, а уж один из дружков, четвероклассник Толик, сказал ему:
– Да ты всю жизнь так будешь хворать, если не лечиться. Ты ж не лечишься… нет ить?
Паша не знал, что ответить ему, – в самом деле, его никак не лечили, ходил себе да спал.
– Ну, вот… А это надо яблоками лечить, вон и бабаша Матрена так сказывает – хоть сейчас пошли, спросим!.. Живот черемухой лечат, а эту вот, шею твою, надоть яблоками, вот гад буду! Хошь, спросим?
И опять ему нечего было сказать. К бабке Матрене он ни за что бы не пошел, боялся, она ему раза три вывихи вправляла, и все больно: да и не верил он Толику, хотя все кругом подтверждали, кивали уже… Но дело-то уже не в лечении было – в яблоках. Манили яблоки всех.
– К Губанихе надо, – твердо подвел вожак, – больше никак. Они теперь небось на уборке. Или на базе, Губан с утра вон раскатывает на рынке. Всласть наедимся. А не пойдешь – так и будешь хворать. Что глядишь, я те точно говорю… Так и будешь кособокий.
Нужен был Паша как разведчик, средь бела дня тем более. Бесполезно стало лезть с темнотою: ранетки почти созрели, и Губановы теперь вроде как дежурство с вечера установили, чуть не всю ночь напролет караулили… ну, может, не всю ночь, но спали-то с отворенным к саду окошком, не сунешься. Значит, только днем, все равно на улицах никого сейчас нету. А если дома Губаниха старая, то небось дрыхнет после ночи где-нибудь в холодке – жарко уж очень, невмоготу.
– Я первый, – сказал Паша Буробушка, – не по-ле-езу…
Он-то помнил, как ему перепадало в разведчиках: осторожным быть не умел, дуроломом лез, на нем и проверяли, дома ли хозяева, близко ли. И сейчас вот не верил.
– Ну и дурак, – рассердился Толик. – Ну и не верь, ежели так. Ему добра хочешь, а он… Ладно, могу и я первый, ежели ты трус такой… там видно будет. А что, ребята, пошли, а?!
Губановы втроем – мать с сыном и невесткою, дети отчего-то не заводились, – жили на соседних Задворках, тихих, заросших ветлами и тополями, вдоль высоких берегов речушки, которая тихо тоже и неторопливо втекала в Дему. Сад у них был первый тогда в округе: пяток настоящих, медового налива ранеток, смородина вдоль плетня и всякая ягодная мелочь; и расположен был как раз на речушке, сразу за мостом, а дом через уличную дорогу напротив. Обыкновенный, по нынешним временам, садик – а тогда это был сад… Не старые дикушки, все выродившиеся, не кислятина какая-нибудь, а настоящие вырастали, зрели на ветках плоды, хоть мелкие, но рассыпчатые, с желтоватой и чуть вяжущей мякотью, с запахом яблочным сильным – только что голова не кружилась от этого запаха… Ими старая Губаниха и торговала гордо у дверей сельповского магазина, косилась презрительно на сидевших рядом стариков с вечной черемухой, крыжовником, а то и вовсе с разной чепухой вроде тыквенных семечек. И в день, когда она притаскивала туда ведра два, а порой даже мешочек небольшой наливных пахучих яблочек, рассаживалась в душной короткой тени среди лопухов и мерку ставила, литровую алюминиевую кружку доверху, – в день этот нытья во дворах улицы небывало прибавлялось. Ходили следом, дергали за юбки матерей и надоедали до смерти малые, а те, кто постарше, украдкой лезли под насесты, вздымая крикливое, оглашенное прямо кудахтанье самих несушек и праздных своих, но ревнивых товарок, гулявших понизу; набирали быстрей-быстрей теплых еще яиц и задами бегом в магазин, шестьдесят копеек за штуку приемная цена. К ней же и заработанное на сусликах сносили. Губаниха, ревниво и зло поглядывая на слонявшуюся рядом и поодаль ребятню (не этих ли позапрошлой ночью шугала?!), вся лицом будто зеленая от недосыпов, отпускала, норовя сыпать в кружку попросторней, рыхлее; долго шевелила губами, считала, все взглядывая сурово, ссыпала со звоном в тяжелый от меди карман. Люди были вроде как люди, эти Губановы; жадноваты, правда, но таких по селу тоже хватало, и все так ли, сяк, а уживались, жадность тоже надо понять, дурак и тот мимо рта кусок не пронесет, да и времена скудны, не очень-то расщедришься, нечем; но вот что-то Губановых недолюбливали. Причиной всему были, похоже, пять-шесть ранеток этих, больше ничего, других вроде не было причин. Каждый спас повторялась неодолимая зависть малых и досада взрослых, год от году, с каждым пойманным, кто посягал, и битым – и в самих Губановых злобина тоже явилась, излишняя какая-то и уже неприкрытая даже, а этого никто никогда не любил. И уговорил вожак, пошли. А со старшими и они увязались, малышня: сначала проводить хотели недалеко, потом запросились взять с собой, хотя сад этот издалека даже не видели, одни лишь разговоры слышали о нем. Красивый, должно быть, сад, они в сказках вон красивые все – вот бы поглядеть… Так, наверное, думал каждый, и каждый хоть глазком одним, да глянуть хотел.
– Еще чего! – прикрикнул на них Толик. – Вожжаться там с вами… больно вы нужны! Вот дойдем до Задворок, а там чтоб отстали, щенята. Подождете, нечего. – И добавил снисходительно: – Ладно, ежели нарвем – дадим…
Подкрасться низом решили, по речушке, а до нее берегом Демы шли, у Толика все было рассчитано. Рядом с ним, засунув руки в карманы, локти назад отведя, Паша мерил землю, следом еще несколько добытчиков, а уж сзади, еле поспевая, растянулись хвостом они, очень уж хотелось всем ранеток.
А потом старшие, бредя ногами и шлепая по теплой, затененной кустами таинственной воде, озираясь по сторонам, ушли по речушке вверх, строго наказав дожидаться их тут, в устье, не лезть куда не надо, – и потерялись за поворотами, пропали, ничего больше не слышно стало от них.
Прошло, наверное, каких-то минут пять, десять ли, но им уже казалось, что все полчаса, так тянулось, стояло почти на месте время, это называлось – ждать, а они еще этому как следует не научились. Бродили, мерили воду, никакая она уже не таинственная была, вода как вода, журчала на недалеком, освещенном в прореху среди ветвей перекате, в той стороне, куда ушли добытчики. Добрели, не подсучив даже штанишек повыше, до переката этого; озирали обрывы берегов высоких – зачем ей, речушке, большие такие? – подмытую дернину, траву, космато свесившуюся, приют ночным теням дававшую, всякий хлам ливневый грязный из веток полусгнивших и старых капустных кочерыжек, все это пронизано уже тонкими бледными стрелами осоки, вездесущей крапивой; видели бороды корешков и петли, сухие и корявые, корней жилистых, выглянувших и опять улезших в землю, тайну вышедшего наружу, но так и не раскрывшегося, опять землею спрятанного в свою темную безмерную плоть… А наверху ветлы огромные с грубой корой, городьба огурешников, созревшим отяжеленная хмелем, яркие решета подсолнечника над ней, ниже посеревшие от жары и пыли полынь с лебедою – все знакомо, все похоже, но уже вроде как и не свое, чужая улица, не своя… И увидели впереди черемуху на небольшом отмыске, обобранную давно, однако все ж с пожухшими, морщеными ягодами кое-где, достать их снизу еще можно было, пусть и по ягодке. Она, видно, ничейная тут росла, и раз не было пока ранеток, то хоть черемухи поесть. Обступили, доставали и рвали, сосали, крупная была черемуха, у самой воды ведь росла. А еще дальше, увидел он, в зеленом полумраке укромном другая наклонилась, пониже вроде, и чернеется на ней больше, одна ветка совсем усыпная и невысоко, наклонить можно. Хорошо здесь было, внизу, нежарко, прозрачная вода бежала широко по мелкой разноцветной гальке, застаивалась и мирно посвечивала в омутках, где всего по колено и пескарики где снуют; шуршала изредка огрубелая листва, шумок стоял, и солнце плавилось в дырах сквозной этой высокой крыши, верховым ветерком перебираемой, иногда прорывалось жаркими лучами – оттуда, из поднебесья неохватного, открытого всему…
Он пробрел к той черемухе, она и вправду богаче была, щедрей нависла, с любой стороны подходи и рви. И рвал, сосал и выплевывал вязким ртом косточки, язык совсем стал как терка. Попил воды, дотянулся еще до нескольких, про запас, кистей, охотка к ней уже прошла, и даже яблок что-то не очень хотелось, так связало ему рот. Ребята уже тормошили и эту, чавканье и хруп слышался молчаливый, а он решил посидеть на том вон большом камне белом, который виднелся за поворотом и в легком солнечном сумраке будто светился весь, отмытый. На нем, видно, белье вальками колотили всегда и полоскали, тут же шли врезанные в обрыв крутые очень земляные ступеньки, укрепленные колышками и кое-какими досточками, – длинная, высокая лестница целая, наверх поднимавшаяся, на улицу. Он сел на прохладный камень этот, ноги в воду, и посидел так, становилось скучно. Нет, скуки все ж много в жизни, и что с ней делать, никто не знает.
Рассеянно шумели наверху, еще выше вторящих им ветел, тополя, и листва их тяжелая была, тускло блестевшая и беспрерывно струилась маревом, будто текла куда, серебристая; что-то слышалось в легком их шуме бегущем, чудилось, а что-то терялось, сам шум в безбрежности той высокой терялся, и ничего не жаль было.
Но послышалось еще одно, постороннее какое-то и смутное, словно бы хворост где ломали и складывали; посыпалось с обрыва, зашуршало, опять потом затрещало, кто-то шел и будто дышал тяжело – и неожиданный топот возник, а за ним Паша Буробушка скатился наискосок по крутизне, напролом через кусты и подрост кленовый, давя его и ломая, с тупым, в страхе застывшим лицом… Глянул дико, невидяще и кинулся дальше, не разбирая, где тина, а где вода, молча, дурным своим вскидывающимся галопом – туда, к Деме…
Он вскочил, глядя вслед Паше, и тут же понял этот страх – потому еще, что и дружки его там, у черемухи, вдруг снялись и тоже побежали все по мелководью, брызги вздымая, будто ветром понесло их там, всех и разом… И уж сам побежал, на гальку осталось спрыгнуть и вдогонку за своими что есть сил, потому что сзади уже что-то было, страшное, и оглядываться никак нельзя было, только бежать… Но оглянулся. И увидел на ступеньках, еще наверху, Губаниху, какая продавала.
Она как-то нелепо, но быстро спускалась, соскакивала по-птичьи, боком, попеременно и цепко взглядывая то на него, то под ноги, торопилась, и губ не видно было, какие они, поджала – одни глаза… Смотрел на нее, а она была уже на нижних и взглядывала все, так взрослые поглядывают, когда прицениваются либо пообещать что хотят, вот и она так тоже. Закричи она или заругайся – и он, конечно бы, убежал, так вдарился бы, что Губанихе с ее калошами куда… Но она молчала и лишь взглядывала, больше ничего; и глаза у нее пустые были, без всякого добра, но и без угрозы тоже, лишь губы поджаты одни. Только обещание в них, хотя он уже знал, что если чужие взрослые говорят тебе: «Поди-к сюда, что скажу…» – то лучше очень-то близко не подходить.
И он не побежал, как, скажи, поверил этому обещанию или равнодушию в глазах, не понять, и оробел к тому ж: вдруг не знает она, что он не виноват?.. Он только черемуху ел и не знал, что это сад. Это была река, никакой не сад, ничья река, но он испугался, что вдруг это и есть тот самый сад, а он нечаянно залез… кто их знает, какие они. А она спрыгнула наконец с последних ступенек прямо к нему, страшно стало; вслед другим глянула, которых уже и не видно было, повернулась и молча, больно ухватила за руку его, дернула…
А потом, он даже головы не успел поднять, вдруг шибануло ему чем-то, прямо по лицу, и сразу оно все онемело, стесанное будто, а с ним и остальное, все-все, куда что делось… Отодвинулось все, что-то случилось, он совсем другим будто стал, а его, другого, опять дернуло, ударило, только уже не больно будто, как по чужому, и потащило куда-то, он все никак не успевал переставлять ноги. Его волокли, толкали, куда-то надо, видно, было доволочь его, доставить, и он это понимал, старался угодить ногами, помочь, но они не успевали слушаться и только мешали, за что-то все цеплялись как нарочно. Было еще руке больно и неловко, за какую тащили; уцепились уж слишком, хоть и не думал он вырываться, а только помочь хотел, чтоб скорее кончилось… и он тогда что-то поймал другой рукою, юбку, что ли, тоже уцепился и тащился так, колотился за нею по ребрастым с колышками ступеням, до самого верху.
Что наверху было, он не помнит. Говорят, она била его и там, ногами принялась, это люди уже видели. Сплылось уже все, помнит лишь цепкие, как они жестко хватали его и дергали всего, руки старухи мосластые, и еще ту лестницу – высокую, под самое небо… Его с трудом отнял у ней парень один, парнишка еще совсем. Чуть с нею не подрался, но отнял, никакая она тогда еще не старуха была, просто злая. И домой с Задворок отвел, прямо к матери.
А он замолчал. Оцепенел, совсем безответным сделался, не заплакал даже ни разу – ни когда били, отымали потом его и домой вели, ни расспрашивать пытались когда, уже дома; как замолчал там, внизу еще, так больше слова не проронил, глядел только. Иногда кивал, опять пугаясь, уже за мать, совсем растерявшуюся, – так она тормошила, заклинала с плачем, хоть словечко просила дать. Перепугалась и то гладила, ласкала, а то, плача, даже грозила, жалкие были те угрозы, а он никак не мог. Пришел отец, вместе они пытались, но все без толку, и отец пошел туда. Губаниху он так и не нашел, сказывают – хоронилась где-то, изба заперта была; пошумел, поискал там и вернулся ни с чем. А вечером, когда лампу зажгли уже керосиновую, пришла бабка Матрена, «сливать испуг».
Она тоже с ним ласково говорила, по голове гладила, шептала что-то и крестила, молилась. Потом посадила его перед чашкой с водою, в кружке воску растопила и, пошептав опять, вылила его туда, в воду, и велела глядеть. И сама долго, забывшись словно, глядела, губами шевелила, и мать тоже, завороженная надеждою и страхом, и он – смотрели и ждали.
Странным, неясным все было там…
Отлитая мгновенно застывшим воском в причудливые, словно бы нездешние формы, в чашке той старой домашней с выщербленными краями, из которой всякое хлебали, – там была его судьба. Неведомо только – какая, плавали, возникали там и менялись смутные тени водяные, рождались и умирали, бессловесные, и спокойная стояла, как время, вода…
Слила бабка Матрена испуг, а скорее сон помог, вылечил, он много чего лечил тогда, сон, – обошлось все. Долго сходили синяки да еще задумчивость с него какая-то, будто печаль по той беспечной жизни, какая до изведанного, узнанного теперь, была у него, печаль знания, что ли; но и это прошло тоже. Несколькими днями позже все-таки обобрала Губановых ребятня, это теперь ей вроде как разрешено было даже. Мужики посмеивались Губану прямо в лицо, не особенно стеснялись, мальчишки под их защитою тоже, а тот прямо синел от злости, переживал, но и придраться не к кому было: не пойман, известно, не вор. Отец с матерью еще что-то выясняли с ними, ругались, он уже не помнит, как и что там было, – главное, обошлось вроде все.
Через полгода мать углядела, что он хромает. И настали для них не то что дни черные – годы. Раздвинулось вдруг, огромным стало чужое, и не было конца ему края, тоскливому, терялись где-то его края в холодном, чуждом, и уже та даже граница малая, какую изо всех сил держит человек вокруг родного своего, стала будто подаваться, размываться под напором открывшихся разом неприютных сквозных пространств, сквозняков жизни, беспрепятственно гуляющих, стремящихся все, казалось, охолодить собою, продуть, последнее твое тепло выветрить и развеять в поднебесных просторах, уравнять до равнодушия, до воли неприкаянной своей, неизвестно кому нужной, – это когда начались долгие мыканья их по знахаркам, докторам и всяким в разных углах земли сведущим людям, по людям добрым… Дороги эти, то разлезшиеся, круто замешенные, осенние ли, хмурые ли вешние – не вспомнить, то переметаемые зимники малоезжие, из последних силенок тянущиеся средь снегов, едва сквозь вороватую поземку проглядывающие, на мерзлой соломе саней, в морозной овчине вонькой, в ожидании всегда хоть малого какого-нибудь тепла избяного, под ненастные ветра, под стуки их и вздохи стесненные ночевки в чужих с участливыми хозяйками углах, в избах завьялых с запахами своими и жизнью в запертых буранами деревеньках, счет им всякий потерян в тоске бездомовья, в надеждах, в тщете… Знахарки-бабушки, все как одна ласковые, суетились, скрывая свое малознанье и растерянность, и то шептали, а то вправлять брались, по-всякому пытались, сами плохо понимая, что делают, это почему-то даже и ему видно было; томительно-долгие потом в райцентре очереди средь изнуренных, всеми густопсовыми запахами дешевых больниц пропахших людей несчастливых, доктора в строгом белом, вертевшие перед глазами черные снимки, щурившиеся, что-то строгое и назидательное говорившие, посылавшие к другим врачам, – все это еще меж попыток жалких жить, как раньше жили, прежним скудным, но желанным теперь таким укладом, тем счастливым неведением… А потом хуже стало, и кинулась мать за помощью к городу – недоверчивому, все как-то свысока поглядывающему и снисходительно, вприщур, но, оказалось, с людьми тоже добрыми, только решительными, умеющими быстро рассудить и решить: «Глазастого такого – и в калеки?!» Не стесняясь, всю разругали мать, мигом вызнав у него, как ездили по знахаркам, – и так хорошо как-то разругали, что вся воспрянула она; и опять ночевки, где-то очереди, холод клеенок, на которые укладывали его, до сердца достающий, надолго там поселившийся вместе с боязнью, страхом даже потеряться здесь, в многолюдье высоком, заблудиться навек и домой уж не вернуться никогда, так далеко заехали они от родимого своего, единственного… Страх и уже надежда, уже вера.
Был потом впервые длинный-предлинный вагон, зеленым крашенный, где чудно, непривычно пахло вместе едким углем, уборной и мазутом. Со стукотком, вскрикивая иногда требовательно, но как-то и жалостно, мчал их поезд сквозь продутые поля, лесопосадки, чьи-то села, по долинам, по косогорам лепившиеся; громыхало под полом и толкалось, ходуном ходило, стремительно взлетали и опускались провисшие провода за окном, и кружились там, хороводили то березнячки светлые, то поля, уж по-осеннему пустые, и храпела тетка на голой полке, свесив толстую красную руку, иногда просыпалась и вскидывалась, хваталась испуганно за изголовье… И первая в жизни ночь на вокзале, где подремывали они терпеливо на жесткой скамье в ожидании утра, чтоб идти туда, где его положат; гудки слушали, бубнящий иногда под высокими сводами неразборчивый голос репродуктора и гулкое аханье дверей, дрожь стен и полов, самого воздуха от проходящих мимо составов ловили, издалека еще чувствовали, и уж серый свет занимавшегося утра видели в высоких мутных окнах, пора собираться было, опять искать. Не счесть, сколько забыто; но полумертвая та, прерываемая хрипом динамика и возней сонных людишек гулкая тишина, холодная духота малолюдного ночного вокзала в провинциальном степном городишке остались и, видно, останутся…
Увели от плачущей вослед ему взахлеб матери, такой молодой еще, что не веришь, помня; искупали, в карантинной высокой палате одного оставили, книжку яркую дали и еще яблоко, небывало большое, еще таких он и не видел даже никогда, – просто дала, ничего о нем не сказав, ласковая няня и ушла, и он не посмел его съесть, как не верил, что это ему; и не хотелось, все он оглядывался на известково-белое кругом и крашеное, крепился как мог – пока далекий, прощально-тоскливый гудок паровозный не вскрикнул там, на станции, не настиг, сиротский такой же, жалобный средь чужого всего, всегда… Забился под одеяло и плакал, боясь, что увидят и рассердятся за это, ругать станут. На долгие-долгие времена был мир потом за окном, скудный, изученный до кирпича, до каждой веточки заглядывающей, и с новыми здесь, такими же, как сам он, дружками, кто откуда тоже, с лежачей странной, потом уж и привычной жизнью наладившейся, с радостями-бедами своими, – и время от времени гудки поездов эти, пронзительные в тоске своей дорожной, невозможного просящие, то днем, а то ночью средь сна вдруг звавшие с собою к родному, теперь далекому такому… Всякий раз врасплох они его заставали, вдруг, даже и во сне доставали, до слез.
Но где она, тоска эта, теперь, куда делась, беспомощная, детская, – вылилась ли, во что-то отлилась другое в нем или, может, ушла куда в заповедное свое, хранимое до вечных сроков, сберегаемое нежно кем-то, потому что ничто бы не должно пропасть, а уж детское, щемящее такое, и вовсе? Он не знает: он знает, что была тоска, но уж давно ее на белом свете нет. Или это сквозняки стылые повытянули все, распылили по холодным просторам, растворили – чтобы кто-то опять собрал в себе ее, кочуя по неволе и маясь чужим, и тоже не по-детски проснулся бы от нее среди ночи?.. Ее нет, и благо ли это или печаль, не понять.
И было, конечно, возвращение весной – к своему, заждавшемуся, бог знает как обходившемуся тут без него; радостей было через край всяких, узнаваний, чище тех дней нет, и все, кто ни встречался, радовались тоже, ничего, что на костылях, это ненадолго. «Ну, ни-че-го-о!..» – говорили и шли дальше себе, довольные, что все вот обошлось хорошо, а бывает ведь куда хуже… Все, кого ни встретишь. Дед Глухой даже на лавочку с собой усадил; оглядел всего, помаргивая от старости, клонясь над бадиком и заглядывая в лицо, вздохнул: «Так-то оно, паря, бывает за чужое-то… Ну, главное дело, што не калека. Это государству ты скажи спасибо… ему, а как же-ть! Оно это все, в ножки надоть ему поклониться. Ишь, костыльки-т какие… Ну, молоде́ц, иди». И он это понимал, что государству, так оно и было, и только потом уж дошло, понял, что первой – матери. Ей первой, что рук не опустила, и отцу, кто другой опустил бы, но не они…
Он привыкал заново к своему, вспоминал и узнавал все прежнее, и скоро привык, ничего тут особенного не переменилось. Жить стало малость полегче, но работы оттого не убавилось; наоборот, казалось, все прибывало работы. Все так же копались в своем, дни переводя и силы, что-то от времени ждали и от себя, так же распоряжалось человеком все, имеющее силу распоряжаться. Все донимали Пашу Буробушку дружки; как-то даже, интереса ради, свели его в клубе с таким же, как сам он, с соседней улицы, – поглядеть, как они толковать будут. Ничего, потолковали, только с подозрением каким-то друг к дружке, с недоверием; а когда спросили Пашу – как он, мол, тебе? – тот оскорбленно, обиженно замахал рукою, забубнил: «Ну его… дурак какой-то!..» И Губаниха жила, что ей не жить. Однажды чуть не встретились, хорошо, она его издалека увидала, узнала и тут же в чей-то свернула двор; а он поначалу растерялся было, не знал, что ему делать и как вести себя, и разозлился. На себя будто разозлился, хотя еще мал был злиться на себя; на то, что не знал и сам готов был в первый попавшийся двор, на другую куда-нибудь сторону перебежать. И назад повернул, так не хотелось, чтобы она подсматривала. Губана чаще встречал, но тот виду не подавал, не глядел. Он мужик, на нем хозяйство, ему не до того.








