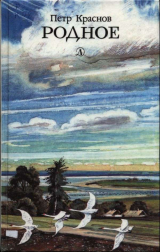
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Овечье счастье

Торопливо, всполошив сразу, спугнув их робкие сны человечьи, забарабанили в окно, в раму – и еще мелким дребезгом, старчески тоненько отзывались стекла, а мать уже была на ногах, следом за ней отец, штаны поспешно поверх кальсон белеющих натягивает, а другой рукой за шапку уже, над косяком дверным всегда, на гвозде… «Ох-х-осподи… пожар неужто?! – чуть не в причет срывается мать, мечется в поисках ватника, вороша рванье их всякое. – Паси и помилуй, господи!..» Отец, уже одетый, суется к рассветному запотевшему окну, протирает, замирает на миг, вглядываясь, и уже в дверях бросает, слово говорит: «Вода…»
Минутой-другой позже выскакивает и он – и не узнает улицы. В десятке шагов от порога стоит, посвечивает бледными еще небесами вода – тихая, зоревая, какая бывает всегда на рыбалке в пруду; а улица уже и не улица, а река, самая настоящая… Вот она, под самый порог пришла, у многих домишек уже завалинки подмывает, хорошо хоть, что их изба на пригорке, повыше соседских. Сплавной шум доходит с реки, но здесь вода спокойная стоит, миролюбивая вроде, всякий сор, какой плавает, подняла как напоказ, подремывает даже, – а по дворам тревога, клики суетные, вот заголосил кто-то, закричала на самом конце тоскливая баба, кляня все, и ее дочки следом плач, совсем еще детский, это у Лагутиных… Что-то похожее, стонущее, и у других тоже, кто ближе к Деме, сполох, угрюмые и бодрые, у кого как выходит, матерки мужиков, блеяние потревоженных овец; а отец уж выводит на оборке из котуха корову, неизвестно теперь, как ее звали, столько перебывало их с тех пор – длинна человеческая жизнь, всех разве упомнишь… Отовсюду суета, еще кому-то стучат в раму, это первые всегда клики беды; а у отца лицо хотя растерянное немного, покрасневшее, но довольное: наспех привязывает стельную, с раздутыми боками корову (припоздала нынче корова) к сенишному столбу, оглядывает улицу и торопится опять, хотя нет в том нужды, к сарайчику, откуда мать уж выпустила овец – никуда не убегут, некуда, вода кругом. Уже она подступила, подкралась с задов и вползла в единственный их катушок, перегороженный внутри надвое, и если бы не высокая, давно нечищенная подстилка из объедьев – быть беде… А мать еще ругалась, что не чищено. Только навоз и спас, овцы, да и корова сама – животины бессловесные, где стояли, там и пали, долго в такой воде не простоишь, пусть даже ее всего с вершок. Утро подступает ясное, высокое, объявится и солнце, а тетка Лагутина все где-то кричит на задах, то плачет, а то материться начинает – жутко, до бога, таким надсадным злым криком, что жалко ее; у матери вон слезы, но молчит – что тут скажешь? – всплескивает руками. Скособоченный весь каменный сарай Лагутиных стоит в низинке – значит, овцы. Свою корову они прирезали в степи еще прошлым летом: с моста на тракте, когда перегоняли, в давке сорвалась, побилась очень – а вот теперь и овцы… На продажу готовили, чтоб новую купить. Жалко тетку, она ведь неплохая, слова зря никогда не скажет.
Мать с отцом идут туда – может, какая подмога нужна; и он тоже пробирается за ними вдоль соседской завалинки, а по другой стороне улицы шлепают сапогами навстречу люди, тащат овец, ягнят на шее несут – переправляют выше, на постой к родне, лица грубые, злые у всех либо несчастные, и говор короткий, грубый. Река зашла в улицу десятка на полтора дворов, это уж не меньше; а в конце ее, где были берега, теперь сплошная покойная гладь светлая, до самых гор вода, просторная, с огромным пустым над собой пространством воздуха и света, и лишь недалеко, совсем, кажется, под боком у крайних изб вьет свои нескончаемые веревки стрежень, разводя волну беглую, пронося стремительные одинокие льдины. Никогда он не видел столько простора, света, даже в степи.
Дядя Лагутин, отцу однополчанин, сидел на колоде, до пояса обхлюстанный, курил, глядел перед собой. Дальний угол двора, где катух, весь был захвачен водой, сорной, желтоватой от подтаявшей навозной жижи, спокойной; а на горушке перед погребкой лежали три овцы, вся их скотина. Белая, такая всегда франтоватая, которую тетя Поля Лагутина всегда блудней звала, вечно та летом пробегала мимо двора, уже околела, шубка ее завалялась, желтой стала от жижи, торчали не по-живому грязные копытца. Обе старые жили еще, одна даже голову пыталась держать; мелко дрожали, с хлюпом втягивали мокрыми ноздрями теплый, для всех, кроме них, благодатный воздух и глядели большими своими фиолетовыми глазами на все и ни на что, а возле них стояла, нагибалась, гладила заплаканная Верка, высокая уже, худущая.
– Ты что рассиживаешь, сидень чертов… ждешь-то чего?!! – злобно закричала из сенец тетка Поля, громыхая каким-то скарбом там, отыскивая что-то. – Штоб и эти подохли, да? Соня хренов!..
И завыла тихо, для себя, все продолжая ворочать там, непотерянное искать. Дядя Лагутин встал, посмотрел на них, вошедших, и ничего не сказал, не кивнул даже, в избу пошел.
– Второй захвати, – сказал ему вслед отец.
Потом оба они пошли к овцам, каждый нагнулся над своей. Отец привычно захватил левой рукой морду, заломил овце голову и, зажав между голенищами кирзачей мокрое, все дрожащее, колышущееся мягко туловище, коротко пильнул, напрягся, удерживая. То же Лагутин сделал, суетливей только, и не дал даже стечь, утихнуть своей, бросил; та еще отдавала ногами, а он с гримасой досады сосал ребро ладони, кривился.
– Что, сильно задел?
– Да не-е… пустяк, – сказал дядя Федор, вытер глаза. – Заживет… Как на собаке все заживет.
Они, подвесив на проножках, в молчании свежевали овец, Верка воды теплой им принесла, кривила губенки, глядела. Мать с теткой Полей не выходили из дому. Мимо все ходили, бегали, баламутя вкравшуюся под воротца тихую воду, кто-то сорванным голосом заругался было с тоской, но смолк; а поверх плетня видно было всходящее, не оторвавшееся еще от горизонта солнце, торжественное, обещающее, как и в прошлые дни, много своего тепла и света всем без разбору. И снова, опять он увидел, как она играет, подергивается, пляшет почти, как-то даже и бесшабашно для своего сана светила – ликует мирно и знать ничего не хочет в своей радости высокой, не желает. Теплые токи дрожат и размываются там, восходя, омывают, освобождают светило от первой родовой багровости, блистательно утро, высоко, одно из свежих самых и сильных в жизни, в судьбе, таких уж не будет.

– Что ж теперь делать будешь, а, Федьк? Сходи к председателю; может, что даст, помогнет…
– Они дадут… догонят да еще поддадут. Нет уж. Я уж ходил, просил телку.
– А все ж сходи, не переломишься. Новый человек, вдруг да поймет. На базар теперь?
– А куда еще? Что выручу. Хоть с теленка маленького начинай, с телочки. Провались оно все.
– Нет, все ж загляни к председателю… как, мол, с тремя ягнятами жить? Это ж совсем не жизнь. Хорошо – ягнят отделили в пристройку. Подкармливал, что ль?
– Ну. Схожу. Вся надежда, если телку. Видно, терпи.
– Да-к, видно, так.
Стали заходить, проведывать – родня, а то пришедшие на весть с другого, высокого, конца люди, готовы были вроде помочь, только не знали чем, не своих же отдавать овец, последних. Сидела родня, молчала, говорить было, считай, не о чем; другие, кто посчастливей, на бревешки у избы деда Трофима собрались, судачили. Пострадало дворов пять, у всех овцы; квелая тварь овца, чуть что – она с копыт долой. У Мареи, бедолаги, поросенок в хлевушке околел, а главное дело – корова настоялась в воде, неизвестно теперь, что будет. Марея пойло горячее сделала, бутылку водки вбухала туда, ничего не жалко; и ты знаешь – выпила!.. Лежит, но вроде ничего, веселая… пережевывает, а эта примета хорошая.
– А Полька-то – как по маманьке родной кричала… Опять они с мясом. Век бы такого мяса не видать, что это за жизнь, без скотины.
– Закричишь, коль… Ни-икак у них, бабоньки, плохо. Там ить режь – кровь не потекет, застегнуться не на что, пуговки в дому нету. Уж они как стараются оба, а вот возьми ты…
– Да кто ж ее знал, эту реку, уж лет как пять такого не было… страху такого. Ну, подымешь, бывало, картошку из погреба, все равно ее перебирать – ну и все, делов-то. А тут на тебе. Земляную это с гор нагнало воду, паскуду. Хорошо хоть, не утоп никто, не как в прошлом годе – двое сразу…
– Не накличь гляди, погоди-кось.
– Да я ничо… К слову пришлось просто. Я к тому, что больно уж год начинается скушно. На огороды не вот влезешь теперь, жди у моря погоды.
– Они и другие не веселей. Начнешь вспоминать, так волосья дыбом. Не знай, как мы жили?! Ить лебеды не хватало. Всю, бывалоча, съедим, по всем задам. Потом ходишь, ищешь – нету, одни лопухи уже да полынь, всю съели лебеду. А счас мы еще слава богу.
– Ну!.. Как у нас в армии. Приезжает генерал, спрашивает: «Как жисть у вас тут, то да се? Пайка, мол, хватает?» – «Хватает, – отвечаем, – даже остаетца». – «А остатки куда деваете?» – «Съедаем, тарищ генерал!..»
– Будет брехать-то. Он бы вам ответил.
– Точно говорю!.. – Погребошник сдвинул шапку на лоб, заслоняя глаза от бьющих уже поверх невысоких крыш лучей солнца, сильных и светлых; и не выдержал, сказал, снисходительно похохатывая: – Да не-е, девоньки… это он сам нам рассказал, перед дембелем. Он у нас такой был.
Кто не унывает никогда, так это Погребошник; таким все хорошо всегда, им и горе не в горе почему-то. Осенью у него сено сгорело на задах, едва постройки, его и чужие, отстояли мужики, набежали, а он похмурился-похмурился, а потом рукой махнул: «Да черт-то с ним, с сеном, – на соломе проживет, не подохнет!..» Это он о своей корове так. И самогону достал, тут же мужикам выставил, хоть не принято благодарить за помощь такую, – почему, неужель так всем нельзя? Видно, нельзя, раз так, думал он в те годы чужими чьими-то словами, – натура не позволяет. Натура такая, покою не даст, не жди.
Так они прожили один день, другой, пока вода не спала, не вошла наконец в свои законные берега. И забываться поневоле стало, уж очень сильный стоял, звенел убывающими ручьями, счастливыми птицами, гомонил апрель. По-прежнему сияли поверх всего своей радостью небеса, ветерок иногда шалил, трепал весело, строптиво еще шумела река. Дотлевали за рекой на лугу остатние, половодьем оставленные льдины, подсыхали дворы, уличные поляны и тропки, теплый, золотой по вечерам воздух необыкновенно глубок был, вмещал в себя все и пахнул прелью и первой травкой молодой, только-только прорезавшейся, зеленой дымкой застлавшей косогоры. Считай, что забылось; чуть разве тревожило иногда, давало о себе знать, стояло как туча холодная, близкая, но еще за горизонтом. Овец уже выгоняли на пажить, проветрить немного после тощей зимней кормежки, прогулять. Пасти в очередь еще не начинали, рано, следили за ними пока что одни ребятишки, игравшие тут же, и он с дружками после школы тоже. Иногда только приходилось отвлекаться от чижика или «чики», заворачивать, чтоб не лезли понапрасну, глупые, в грязь огородную или в лесопосадку за дорогой, все равно там взять нечего. А мать от Лагутиных тогда вернулась, конечно, расстроенная, с теткой Полей они всегда водились, – но вместе и живая какая-то, хлопотливая, словно соскучилась по дому своему. Пойло вынесла корове, сенца ей побогаче натрясла, повольнее – последнее сенцо, которое с середины зимы еще под отел берегла; и овцам, тоже всю зиму пробавлявшимся одной только «гольной» соломой, кинула отчего-то сена. А те, обрадованные, хрупали торопливо и мелко, суетливо двигая салазками, глядели, по своему обыкновению, на все и ни на что и ничего, дурочки, не понимали.
О чем поют соловьи

Тяжелая и блестящая, шумящая торопливо листва раскачивает, мотает под ветром свои видавшие виды старые стволы – клонит и распрямляет, и опять заваливает их, но нету, не слышно нигде почему-то недужного скрипа древесного, жалобы, какая тревожит осенью, зимою тем более; они, стволы, тоже полны соками и силою, тоже в работе и все вытерпят, вынесут ради потомства своего. А небо с утра глубокое, синее, ни единого облачка. Гулко бьют средь бела дня соловьи, сладкий их посвист и чоканье несется по затерянным в долине садам, теперь всюду вдруг объявившимся белым, розовым цветом своим, – отражается, скачет, теряется в зеленой тесноте мая и опять возвращается, вдвое торжественней и раскатистее, полней и отзывчивей во всем. Весенний чистый ветер шумит; синяя рябит река, блещет; распирает мертвые сухие плетни и штакетник оград рвущейся вширь молодой сильной зеленью, разламывает. Грачи, которые все скроготали, суетились в верхушках ветел по Черноречке, подымая заполошное вздорное карканье и ссоры, обстроились наконец на своих гнездовьях старинных, тоже семьями, как и люди; примолкли и тяжело, озабоченно летают низом теперь, выглядывают добычу, для них уже будни настали. И все кругом занято делом, ни одной травинки праздной нет, ни одного существа – кроме, разве что, соловья. Да и у того если не дело, то заделье: говорят, слаще всего он заливается, когда соловьиха гнездышко вьет, семейное свивает; и долго ему петь, когда-то еще ячмень заколосится…
И везде, всюду слышат эту его весть, знают. Люди подымают от работы головы, переглядываются с ухмылкой – ишь как выделывает, студент! Небось рад – кто ж тому не рад, дело-то жизненное… Неутомимые, передают ее дальше в степь жаворонки; суслики земляные – и те что-то высвистывать пытаются, сладко жить сейчас в мире, даже заботы не в помеху. Вон как сады развалились, разнежились в затишках меж долинных суетных рощиц, всякого подгона, сброда лиственного и поднявшихся уже трав – как во сне, в бреду цветения все. Малинник тихо и напряженно гудит от пчел, приносит иногда тяжкий плотский запах цветущей тоже калины, сурепка по всем пустошам и межам, все захватила, заполонила желтым своим. Редко, издалека зато, увидишь млечную березку, мелкую блестящую листву ее клейкую, перебираемую ветром, яркую из всех, будто светящуюся, – вот так же ярко будет светить она средь всего в первом октябрьском покое, в погасшем воздухе его: вспыхнет и сгорит в два дня… Но это потом, осенью – когда-то она еще будет, осень. А пока будто на цыпочки все привстает, тянется, и везде земля – черная, парная, разморенная щедростью своей земля, которая всех кормит, не жалея себя, едоков не разбирая, и потому всем владеет.
– А народ-то, народ… в семь ворот и все на огород! – дивились друг другу и, наспех прибравшись по дому, по двору, сами бежали туда, земля ждать не любит. Скучали по ней зиму: нет, что ни говори, а соскучились. И вот возились, не разгибая спин, на огурешниках, каждый росток пестали; капустники на берегу вскопали, высадили тонкошеюю рассаду, и мать сама, никому не доверяя, все бегала, каждое утро и вечер бегала отливать зори степлившейся речной водой, чтобы принялась, покрепче была, шутка ли – на зиму без капусты остаться. Вспахали огороды, за картошку взялись, сажали под ярким, уже припекавшим вовсю солнышком, а за ними поодаль важные ходили грачи, скворцы перелетали вослед, склевывали кому что попадется, будни захватили всех.
И опять кряхтит на перекосах и колдобинах телега, скрип ее, надоедный посередь мудрой тишины приречной низовой степи, лезет в уши, но к нему всяк давно привычен, все это свое. Он едет с отцом на Культурку, стан полевой, отец теперь учетчик, складная сажень тут же приткнута, чтоб мерить засеянное за день и делянки отбивать, и два мотка мерной, для кукурузы, проволоки; катаются сзади по кузову еще сваренные и прихваченные по пути из кузни железки, от них остро воняет углем и окалиной, – это для трактористов. Доставят железки, отец там останется со своей саженью, а он должен вернуться с Карим домой – новую землю, назём, на огурешник возить. Карий сильный, когда надо скорый в ходу и, главное дело, послушный, везде вывезет. Он вроде как отцов теперь, никто без спроса не запряжет, хоть зарятся все. И его уже знает, подпускает.
Когда выезжали с базы, выбирались из ее круто замешенной, развороченной тракторами и теперь в колчи засохшей под солнышком грязи, махнул им рукой дядя Студеникин, тракторист. Отец придержал Карего.
– Куда направились-то?
Отец в настроении:
– В крым-пески, туманны горы…
– А все ж?
– Да на Культурку, куда ж еще. С печи да на полати.
– А и хорошо, все мне не пёхом. Ить три версты, их пройти надо… ноги-то не казенные.
Студеникин сутуловатый и большой, даже громоздкий – покатые, силой отяжеленные плечи и внимательные всегда и тоже оттого немного тяжеловатые спокойные глаза. Одним неторопливым движением подсел, перекосив телегу, на грядушку – поехали. И тут же увидел железки: черными, настолько въелась в них машинная грязь, негнущимися пальцами покатал, как бы этим перебрал их и, потеряв интерес, оглянулся вокруг, вздохнул глубоко.
Давно уж опросталась от снега степь, повеселела вся, зазеленела, хотя заметно свежее здесь, чем в селе, простору для ветра и остуды больше. Лишь в низовьях глубоких балок остался еще кое-где под черноземными крупчатыми наносами, схоронился последний снег; трава там еще только просыпается, оживает, вся в грязной паутине и ошметках паводка, в засохших илистых бородах, не очистилась, не вылезла пока из родовых грязей – но скоро все-таки пробьется, подымется, заблестит после первых летних, шумных и чистых, дождей и ничего ее чище не будет…
– Дождались… – сказал вдруг Студеникин и снова вздохнул облегченно; сидел он спиной к ним, лица его не видно было, и все смотрел окрест. – В печенках уже эта зима, не люблю. – И еще сказал, помолчав: – Войны бы, стервы, не было… Ты ж воевал, – обернулся он к отцу, – что, много побило?
– Хватает, – нехотя отозвался отец, он не любил о ней говорить. – Сами небось не знаем.
– И что, так прямо и посылали?
– Так и посылали.
– И не жалели?
– Да почему ж… всяко бывало. А что это ты?
– Да так… Люди ить, знаешь, – сказал с какой-то неловкостью, как бы оправдываясь даже, Студеникин. – Люди, все, что ни говори.
– Люди… А дело? За нас, брат, его никто не делал… не на кого было оглядываться. Хошь не хошь, а делай.
– Дело-то делом; так что ж, пропадай весь свет?
– Н-ну, загнул… Как умели, так и делали. – Отец пошевелил вожжами Карего, поглядел вокруг тоже, подумал. – Да и то сказать, в огонь дров не набросаешься… Ладно, не нашего ума это дело. А ты что не в борозде?
– Да дома надо было…
Что дома ему надо было, он так и не сказал. Упираясь в своей сбруе, вывез их Карий из-под косогора наверх. Второго яруса черноземная ширь, вся, считай, вспаханная, рыхло возделанная, открылась перед ними до самого дальнего своего, тонувшего в синих прядях и туманах испарений, горизонта. Видны были где-то там, на самом краю, почти грезились какие-то другие, незнаемые и, казалось, вовек недостижимые воздушно-пологие взгорья, теряющаяся череда всхолмлений неких, больше небу принадлежащих, чем земле, даль непостижимая; и лишь одна из них, гора не гора, не самая еще дальняя в туманно-солнечной пелене – одна лишь взметывалась, подобно человеку, бессильно там и одновременно же опадала, не нарушая тем великой покорности равнинной, равнинности жизни. Переливались над головою, не кончаясь, жаворонки, телегу шатко влекло через перепаханную с осени и еще не наезженную как следует полевую дорогу; а вон уж, на краю суходола, и Культурка показалась, будка-вагончик с успевшим выгореть флажком и низкое горбылевое строение кухни. Торчал там еще тракторишко с тележкой на прицепе, полевой инвентарь был разбросан, и приткнулась к будке запряженная в тарантас лошадь.
– Кажись, сам прибыл, – проговорил, беспокойно вглядываясь, отец, – черт его принес. Время обед, а я в сводке еще концы с концами не свел. Занудит теперь.
– Да он мужик ничего, – примирительно сказал Студеникин. – С ним хоть жить можно. Хоть на трудодни дает, не то что предбывший. А ругаться мы все мастера… нас тока руганью и возьмешь. Ничего, не слиняем.

Под навесом обедали. Председатель сидел в конце длинного, на козлах, дощатого стола, боком к торцу сидел, хмуровато посматривал на трактористов и сеяльщиков и о чем-то все, видно, думал.
– А-а, ты… – сказал он, увидев отца, и перевел взгляд на Студеникина, дольше обыкновенного посмотрел. – Что, привез? – Отец кивнул. – Надо быстрей, ребятки, уже все сроки нам прошли. За поздние яровые надо браться, не медлить.
– Да мы что… мы готовы, – сказал кто-то, угнувшись, старательно дохлебывая из алюминиевой чашки. – Мы бы еще дня три тому взялись – а семена? Кукурузы-то нету.
– Ну. Царицы-то полей. Сами велели, а Семенов нету. И проволоки тоже. Бардак, прости господи.
– Все-все, есть семена. Вчера завезли. И проволока вон прибыла, на первый случай хватит, а там еще подкинем. Добываем, стараемся. А в такой большой стране не может все быть хорошо, вы ж немаленькие, сами должны понимать.
– Да понимаем.
– Ну вот… Ну а ты что, Василь Дементич? – повернулся он к Студеникину. – Все баталии у вас там… пятый угол все ищете, никак не найдете? Опять, слышу, заваруха?
– Это дело мое.
– Твое-то твое, а вот к трактору заполден явился.
– Он же не стоит. В борозде же.
– Еще бы стоял, хозяина дожидался… И не стоит, а порядка нету. Да и хрен с ним, с трактором… я о тебе. Хватит бы уж, а? И от людей нехорошо, и вообще… И дети уж большие у вас.
– А что люди? – Студеникин и не думал никого стесняться, таиться, серые глаза его смотрели все так же спокойно, тяжеловато и все понимали. – Пусть каждый свою коросту и чешет – а мне своя… Нашли тоже заботу. Пусть за своим каждый доглядает.
– Ну, гляди сам…
Председатель кивнул всем и пошел, играя черным хромовым солнцем на голенищах, к тарантасу. Распутал замотанную на коновязь будки вожжу, прикрикнул на затанцевавшего было жеребца с непонятным, мужиками даденным ему прозвищем Егемон, и со вздохом каким-то залез, уселся в подрессоренную плетенку. Жеребец резко, с форсом взял с места и легко понес; тарантас шибко покатился, запрыгал мягко и валко; через минуту был он уже на другой стороне лощины, потом у молоденькой, сквозной еще лесопосадки, а там косогором взял, через целик, и все уменьшался, мельчал, все медленней перемещался там, и вот уж и движенья не стало видно, одна точка, длящаяся там, угадываемая – и вот не стало и ее…
– Уехал… А насчет покосов надоть бы на него поднажать – а, мужики?! Он сходливый: поругается, а даст.
– Нет, в самом деле. А то не по-людски получается: трава пропадает, а скотина на соломе. Надоело уж хорониться, сколько можно: накосишь навилен, а страху натерпишься… Как чужой всем, ей-богу.
– Да надо бы…
– А что это он так озаботился, – спросил Студеникина, уже принявшегося за чашку сытных колхозных щей, дед Трофим, горючевоз, – аль донес куда кто?
– Делать ему нечего, вот и лезет.
– Твоя-то дюже вчера шумела?
Студеникин глянул и не ответил, склонился опять над чашкой.
– А то не дюже!.. – Погребошник и тут был, он ходил теперь в сеяльщиках. – Все окошки Вальке поколола, с косяками дверь чуток не вынесла… вот это, я понимаю, баба. Достанься мне такая – ни на кого бы не сменял.
Лет никак уж десять, рассказывали бабы, похаживает к Вальке – в открытую, считай, ходит, народ уж языки устал чесать. Главное, ведь не сказать, чтоб из себя видная была бабенка; жена-то, чай, подородней, красивее будет – а вот возьми ты, нашел что-то в ней… Должно быть, характером взяла, гадали, обхождением: характером ладная. Выездила жизнь. А бабы все за свое: иль уж бросил бы, что ли, жену-то. Один бы раз охнула, на том и делу конец. А то ведь каждый день. Так нет, он и там и тут хочет поспеть, все выгадывает какого-то, черт огроменный, сутулый! Да какоё выгадывает, спорили другие: дети держат. Их ведь двое, они отцу тоже не рукавички, с руки не снимешь. А дом тот же, а хозяйство, а родня?! Не-ет, тут десять раз подумаешь… Знали все, знала и ребятня, при всяких разговорах крутившаяся подле – одна только тетя Валя будто ничего не знала, веселая такая и ласковая всегда, безмятежная…
– Дурь ей надо выбить, такой жене, – угрюмо сказал кто-то, – штоб место знала. А то распоясались.
– Ну, у ней тоже свой интерес, – не согласились с ним.
– Не, я бабу не бью, – весело сообщил Погребошник. – Раз как-то вдарил всего, как раз после свадьбы нашей, спьяну… а у ней рука так и повисла. Как плеть. Неделю чугуны из печи таскал, кизяки носил, скотину ублаатворял, а потом думаю: ну их к такой-то матери, бить…
– Да у нас они еще ничего, с понятием.
– Это на какую напорешься…
Студеникин как не слышал всего этого: доел, кружку родниковой водицы зачерпнул из бочки и сидел, попивал, поглядывал окрест. Никакого чая тут не признавали, кружку холодной воды наверх – и пошел.
Отцу надо было задержаться, съездить к дальней, вчера поздно вечером досеянной клетке ячменя. С обеда не торопились: лучше уж, считали, попозже закончить день, чем дуриком-то, без передышки. Рокоча так, что уши закладывало, со свистом и визгами истираемого в сочленениях железа прибыл на тракторе с двумя сеяльщиками в кабине сменщик Студеникина; по спешному времени выходили они на работу оба, попеременки за рычаги садились, то ремонтировались вместе, а то сеяльщикам помогали, дело-то общее. Пока обедал напарник его, Студеникин подшприцевал катки, потом пускачем занялся – барахлил пускач, карбюратор снял, промыл-продул, поставил, но что-то все не ладилось – зажигание, что ли? Все кругом жило, дышало глубоко, взахлеб, всему свой срок пришел живой – только не ему.
Прошли его сроки, полыми водами отшумели. Ему бы сразу ее встретить – она где была, как он раньше-то не увидел ее? Да вот так, не увидел. А теперь одна она, кроме тебя у нее никого, ни единой души нет, один ты… зачем, кому это нужно всё, так-то? Или бы уж нашла другого кого, что ли, получше; не в пример бы легче стало тогда, проще. Может, он тогда пересилил бы себя, сумел бы. А то встретишь, увидишь, как вся она к тебе навстречу идет, ног не чует от радости – и сам как парнишка готов к ней бежать… Но уж мало в том хорошего, прошли их сроки. И вот сиди теперь, водицу эту холодную, тошную, со дна земли для вашего хорошего поднятую, попивай и ничего вокруг себя не слышь…
На вечер глядя нанесло-таки ветром, нагнало, возвращались они вдвоем с Карим другим уже путем и под высоким, битком набитым грозовыми, с яркой местами просинью, облаками небом, сдвинутым, стронувшимся всем своим неоглядным массивом на север куда-то, к неведомым холодным просторам. Гроза обошла их дорогу стороной, лишь дождик пробежал легкой ногой, коротко прошумел, пыль даже как следует не прибив, и только запахло им и посвежело кругом все; но сверху отсюда, со старенького колдобистого грейдера, видно было, как ссинелось тяжко там, за темной ненастной полосою лесопосадки, за пологой дальней высотой, прозванной Шишкой, – как вздрагивали там, возникали в корчах молнии, мгновенно врастали в землю, в Шишку, светлый, мгновенный же дым вызывая… За столом напарник, наперед оглянувшись на Студеникина, ходившего поодаль со шприцем-нагнетателем около трактора, негромко, с сожалением вроде, рассказал: шел нынче поутру, ну и глянуть решил на подворье Валькино – правду ль брешут люди? Окошки – да, все ставнями позакрыты, и стекла по завалинкам; а сама по двору как раз ходит, как что потеряла… а может, и нет, показалось так. Увидала его и в катух скорей от стыда – губы-то порваны, прямо аж черные… Добралась Дашка, отвела душу. Черт их знает, баб, хуже иной раз мужиков дерутся.
Телега заскочила одним, другим потом колесом в узкую водомоину в большаке, в бедной, пополам с гравием грубой глине; заскочила и перекосилась вся набок, заскрипела душераздирающе, как перед концом, Карий натужился, подналег, железные грязные ободья давили со скрежетом гравий, драли по гравию – как проста, груба как и проста жизнь… Возили они с матерью до вечера назем, Карий и тот, наверное, устал за большой такой день; и вот вечер настал, стихло, прорезался, распахнул потом, разбросал далеко по сторонам тучи широкий мятежный закат, и в долинной тишине забили опять соловьи. Уже и стемнело, и засквозили, припали к сосцам земли по низинам туманы, а они все раскатывались, теперь уж поглуше будто, подальше и как-то настороженно-ожидающе, ночь будто насторожила их… Потом, после он узнал, что это у соловья будто и не песня даже, а нечто вроде обозначения своих угодий, предупреждение другим таким же соловьям, угроза даже – и, как люди умные думают, ничего более.








