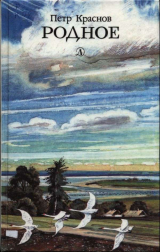
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Паша Буробушка

Некая смутная обида на судьбу никогда, видно, не покидает человека, всегда большего ему хочется, лучшего. Паша Буробушка – и тот обижался, пусть ему и завидовали порой, говорили: вот житуха-то кому – ни забот тебе, ни воздыханий… Но нет, хватало и Паше своих забот. Обижался он, правда, не на всю жизнь и в том умнее многих был, а лишь на что-нибудь в отдельности, на ее неудобия всякие: то на дружков малолетних своих, вечно они что-нибудь подстраивали ему, то на упрямую в пастьбе скотину, а раз даже, разозлившись, небу кулаком грозил, ругался очень сердито и косноязычно-старательно – оно, небо, помешало им в колхозной кукурузе играть, скорую нагнало тучу с «гнилого угла»… Всю жизнь он любил и не променял бы, видно было, ни на что – как, впрочем, и они тоже, дружки его. Тем более что жизнь их обид как и не замечала, шла себе.
Но не только у Паши одного; было что-то и у него тоже – обида не обида, а нечто вроде жалобы, неизвестно только, на что и кому. С давних пор, он еще и в школу не ходил тогда, шестилетний. Еще была самая что ни на есть вольная, летом особенно, жизнь ему, шла себе с утра до вечера. Шли, он помнил, они всей разновеликой своей стайкой, брели вразброд оглохшей в жаре августовской улицей, загребая босыми ногами горячую пыль, перекрикиваясь, от нечего делать переругиваясь крикливо и необидно, просто так, – к реке шли, искупаться. Сухой без блеска свет стоял везде, всепроникающей пылью висел, сильный, не было от него спасения. Шли, разморенные, и увидели Пашу, шагающего задумчиво и старательно, всем телом, будто взялся он своими в коротких грязных штанах ногами измерить улицу, им навстречу. И крикнули его любимое: «Пашь, как дела?» – и он тут же увидел их, закивал, заулыбался и торопливо, чтоб никто вдруг не перебил, зычно выкрикнул, ответ у него готовый был всегда, любимый: «Как сажа бела!..» И засмеялся, щурясь на яростное маленькое солнце, сумевшее полнеба захватить, выжечь до белесого. Посмеялся, на всякое другое уже не отвечая, что-то подумал и спросил: «Вы куды?» – «А на Дему… а ты? Пошли с нами». – «Пошли», – согласился он и кивнул, тряхнул ссохшимися в колтун после недавнего еще купания лохмами; отказывать он, тем более в соблазнительном таком, плохо умел, лишь иногда, уличив кого-нибудь в явном вранье, говорил торжествующе: «Ишь ты, как-кой!..» – и тогда уж упирался, не сдвинешь. И пошли они туда, на круть, где поглубже была и под тенью ее прохладней казалась вода, где городились один к другому впритык плетни, завитые повиликой, осокою пронзенные насквозь, за ними лопушилась блекло-зеленая, еще только с завязью кочанов капуста – на капустники.
Ленивый заречный суховей рябил, где натягивал до стеклянного блеска, где морщил воду, и от этого, и еще от жарких тусклых небес, свинцово-серой она была и неприютной на вид, хотя вовсе и не холодной. Будто не было ильина дня, лишь в самых каких ни есть потаенных стоячих глубинках накапливаться стала, давала о себе знать первая остылость – или, может, все лето она там оставалась, а они ее просто не замечали?
И растелешились быстро, и побухали кто как умел с берега, лишь бы поскорей, так всех доняло солнце; а следом Паша, разбежавшись коротким, вскидывающимся, как у плохой лошади, галопом, ухнул – и, как всегда, пузом, поднял тучу брызг и волны, а со дна даже бурки пошли, пузыри воздушные, шипя и бурча, лопаясь… Здоровенный Паша парень, даром что тощий. Они, младшие, барахтались где помельче, правее под крутью, тут начинался тинистый под водою косогор; и вот кому-то из верховодов в ребячьей их компании опять пришла мысль заманить сюда Пашу. Тот уж вылез наверх, еще готовился, прыгать хоть он не очень умел, но любил. «Паша! – кричали ему снизу, показывали. – А вот сюда-к нырни, Пашь… тут глубоко! Ей-бо, с ручками – гляди!..» И с головою окунались, приседали, сами на косогоре том уже стоя, одни оставляя ладошки в цыпках вечных, ими хлопая, – вот, мол, глубина какая! «Да куда ему, – кричали другие, – слабак он! Только хвалится, а так… Ни за что вот не нырнет – хошь, поспорим?!» – «Так он уж нырял». – «Это когда он нырял, что ты брешешь?!» – «А всегда! Захочет если – он где хошь нырнет, вот так!..» – «Пашь, нырни, что их слухаешь, дураков!»
Паша недоверчиво глядел вниз, на такое он уже попадался. Но вот кто-то уже и взобрался к нему наверх, решительно подтянул трусы и, ругнувшись по-взрослому и оскорбительно, махнув рукой на слабака такого, без разбежки нырнул – плашмя и вскользь, умеючи, ближе к глубине… И все тут же закричали, засвистели на Пашу, а те, кто не кричал и не свистел, кто сторонниками были ему, все плавали на том же месте и почти умоляли, уже прямо сердце у них не терпело, так было за него обидно: «Покажи им, Пашь, че они!.. Подумаешь, как-кие! Че ты терпишь… ты не в таких еще местах нырял – помнишь?! Давай ко́лом, чтоб знали!.. Пашь – колом!»
И не выдержал, конечно, Паша, да и мало бы кто вытерпел, обернись это все против одного из них… Еще глянул под круть, так же недоверчиво, но уже и грозно, будто напугать хотел затаившегося там врага; и стал отходить, пятиться от обрыва, освобождая место себе для разбега и все хмуря свои кустистые, не мальчишеские уже брови – на них всех, замолчавших сразу, торопливо отплывавших подальше, и на того врага. Споткнулся, пятясь, и чуть не упал, но никто на это не обратил теперь внимания, не засмеялся, ждали главного. И вот длинно разбежался Паша, вскидывая голову, дергая ею, будто взнузданный, оттолкнулся от самого края, отвалив дерна кусок, – и так получилось, что красиво почти, с вытянутыми впереди головы руками не упал, нет, а вошел с трехметровой, считай, высоты в воду настоящим ко́лом…
Потом на месте этом опять пошли бурки и следом тина, много тины, а Паши самого не было, лишь нога его болтнула и пропала, и волны разбегались и чмокали в берег, взбаламученная тина все дальше расползалась, долго, как из прорвы какой, выворачивалась оттуда. И никто не крикнул, не сказал, не смели теперь, как-то жутко стало враз. Что-то долгое зависло, томительное над всходившейся пустой водой, никак не могла она успокоиться, толкло ее всю там, толкало. И выплыла спина. Потом рука, руки, они все пытались опереться будто о воду, оттолкнуться – и проваливались, и спина с худыми позвонками то скрывалась, то показывалась в грязных водоворотцах, тоже вся грязная, смывало с нее и снова наносило тину, как неживая. Наконец, толкнувшись раза два, сумел он вроде, стал на ноги, на дно, качнулся и фыркнул, голова у него не держалась; и боком, огребаясь и шатаясь, ринулся молча в страхе к берегу. Ткнулся в обрыв, оперся обеими руками и пошел вдоль него, перебирая незряче, спотыкаясь в воде тощими ногами, прямо в глубину. «Паша, назад! Не туды, наза-ад!..» – И он поспешно повернул, голова его все как-то свалена была на поднятое одно плечо, моталась. «Паша, давай… Руку давай, Пашь, вот сюда – во-от! Ты это… давай, что ты? Вот та-ак…»
Он лежал головой на траве, время от времени фыркал конфузливо как-то и вздрагивал всей кожей, в волосы набилось речной грязи, тело было, кроме лица, шеи и обожженных плеч, по-мужичьи бледное у него, незагорелое, кое-где волосатое уже. Лежал, не открывая глаз, будто виноватый перед собой, поднося руку изредка и вытирая мокроту с губ, с лица, дышал. Все повылезли на берег, какое теперь купание, окружили, но не близко, сели кто где.
– Ну ладно, Пашь… што теперь. Ты б не слушал их, дураков, выдумывают не зная что. Левей бы надо, там поглубей.
– Да ничего-о… – говорили другие. – Это так, впервой, а потом само пройдет. Не бойсь. Мы вон еще не так падали. Вон Васек с силосной башни как… прямо чуть не на каменья, ногу сломал. И ничего ить.
– Ну! А как я летось на вершу угодил, нырнул!
Кто-то, сопя, зубами развязывал стянутую в два узла Пашину рубаху, тоже подшутить думали.
– Зато нырнул как – молодец! Я бы в жисть так не сумел. Прямо замочком, аж бурки пошли – во как научился!..
Паша что-то пробормотал. У него переспросили:
– Что ты говоришь?
– Б-больно, – сказал Паша, вытер слюну.
– Шея – да, Пашунь? Ну так че ж теперь…
– Больно, – упрямо повторил он и открыл глаза, поглядел в близкую траву. – Домой.
– Ничего, Пашь, ты полежи немножко… пройдет.
Вечером его мать нажаловалась, по дворам ходила. Кое-кому, кто постарше, влетело, грех обижать; а Паша недели две ходил скособочив голову и, когда окликали его, поворачивался по-звериному, всем туловищем. Поначалу глядел настороженно, исподлобья, наговорили ему, видно, дома. Но теперь никто его не трогал, даже, наоборот, обхаживали, подсолнечниковый жмых ему таскали, он любил его грызть, – и отошел Паша, настали ему самые, может, счастливые времена из всех, какие он с друзьями имел. Главное дело, и они сами отчего-то довольны были, что вот Паша под их заботой и охраной теперь ходит, попробуй кто тронь… Махорку для него отцовскую воровали, мужики Пашу научили уже курить – а он не переставал улыбаться, только виновато все как-то перед собою, так иногда больные улыбаются. Забывалось, одна тетка, мать его, дольше всех помнила, уже много позже сказала как-то, перекрестясь, в великой какой-то досаде на тяготу свою, на себя: «Господи, грех на душу беру… а лучше б один раз тогда охнуть, чем так-то каждый день. И он, и мы бы с ним отмучились. Видно, бережет он их, бог-то…»
Паше, видно, вправду везло. Он и летом несколько раз, и осенью средь молоденького льда тонул, и быки его катали, сбивала машина. В чьем-то огурешнике однажды крыжовником объелся; дустом вонючим был посыпан крыжовник, Паша набирал его пригоршнями и отправлял, оглядываясь, в рот – в чужом огороде засиживаться долго нельзя, это он хорошо понимал… Помутился он, рассказывали, совсем еще маленьким, в старый, с гнилым верхом, колхозный омшаник провалился, а дверь наружу привалена была всяким хламом. Не мог выбраться и с вечера всю ночь просидел среди гнилушек, на омшаник и не подумали, когда искали. Хорошо, мужик один случайно мимо ехал, услышал, как он там что-то несусветное уже несет, буробит; так вот и остался Буробушкой. Речью он, правда, годам к десяти выправился, не к месту редко чего скажет; скотину стал стеречь, как все другие, и по дому, что задавали, малость делал – не без присмотра, конечно, а помогал все-таки, это ведь тоже дело немалое. Вот только доверчивый был слишком. Так бывает иной раз доверчив человек, что даже страшно за него.
Строгая жизнь

На невысоком речном бережку, под боком у разросшегося на приволье куста лозняка неведомо откуда, неизвестно как объявился лопушок.
Но это ведь только говорится так: откуда ни возьмись… Кто-то все-таки знает, откуда и как принесло сюда старый, грязный, на котором и колючки-то все пообломались-пообмялись, репей, – но кто? Может, земля, все про всех ведающая, все собирающая понемногу под свою руку, вбирающая в себя, будь то прошлогодняя трава или древние, давно сошедшие во мглу забвенья города? Но молчальница она великая, не скажет, и если кто и может что-нибудь сказать за нее, то это лишь человек один, больше некому.
Старый, набитый грязью и никак не живой на вид репешок занесло сюда первовесенним ливнем, сломавшим холода, повернувшим лето на тепло, – занесло, илом замыло и похоронило, казалось, напрочь. Но одно-то семечко, видно, уцелело, лишь спало, своего дожидаясь часу; и дождалось, в невнятных младенческих снах себя еще на родительской верхушке видя, – и вот уж лопушок.
К тому времени в лучшую свою пору вошел, гудел, сыто брюзжал по всем окрестностям медосбор и куда как заметно прибавилось всякого народонаселенья по берегам – всему есть место на земле, никто у нее в сиротах не ходит. Хозяйничал на луговинке, конечно же, пырей, все позахватил, мелкий и частый, щеткою стоял; но вон и лисохвост поднял и распушил свои султаны, пыльцою желтою облепленные, и мятлик с полевицей то здесь, то там качаются, и торчит над всеми красноватые гречишные семена уже выметавший конский щавель, здоровяк и гордец каких мало: кто, мол, как, а я со своим делом управился – вот они, семена… Со своих низкорослых, больше на проплешины смахивающих поместий перемаргивается с соседями клеверок – белыми соцветьями с тысячелистником, испестрившим весь луг, а розовыми с короставником. Кулижка золотящейся пижмы вымахала на закрайке, где теснится кустарник, а пред нею синим, фиолетовым кадит медуница и слепяще-желтыми свечками горит, много дней не угасая, льнянка, прозванная почему-то в этих краях курослепом. Но еще больше тех, кто не спешит лезть в глаза, и самый из них скромник – чебрец, травка богородицына с нежно-сиреневыми неприметными цветочками и запахом таким щемящим, призывно родным, что только он один и мог быть емшаном[6]6
См. стихотворение А. Майкова «Емшан».
[Закрыть] тем, возвращающим на степную родину заблудших сыновей… Тут же и подорожник, и шалфей головку склонил, еще не расцветшую, а в ложбинке, сбегающей к воде, гусиная лапка вперемежку с мелкой стелющейся, без лепестков, ромашкой пахучей, всякая другая мелочь травяная, и все это заплел по тенистому склону, заневолил мышиный горошек, мягчайшую выстлал постель, на которой так сладко под речной ветерок спится усталым косарям…
Но что же лопушок? Что его малая, мизерная жизнь в неоглядном этом сплошном потоке живого? А он просто жил, рос. Раздвигая слабыми еще корешками землю, всю пронизанную и переплетенную чужими корнями и всякой живностью заселенную, казалось, до предела, он понемногу осваивался в новом для себя мире, жить привыкал по-иному, нежели в маленьком семечке, свое главное дело делал – он рос.
А мир вокруг был огромным, полным движения и перемен, чудес земных и небесных – и, главное, не чужим. Все в нем было свое, даже и непонятное. Палило ли солнце, ветер ли ожесточенно рвал кусты или ночная гроза раскатывала, рассылала грома во все концы шумящей тоскливо тьмы, вдруг ее ослепительно распахивая молниями, раздергивая на черные распадающиеся куски, – все это было как надо, как и должно оно было идти. Гроза была нужна для освежения земли и застоявшегося в многодневном зное воздуха, для разряженья накопившегося во всем ненужного электричества. Зной выгонял из земли вредный для степи избыток влаги, сухим жаром своим закалял, терпенью учил. А косцы с острыми косами были самой справедливостью, уравнивая время от времени всех, не давая более сильным заглушить малых и слабых: без них совсем бы разросся жадный пырей, всех задушил, а его, в свою очередь, понемногу бы вытеснил, выгнал отсюда лозняк – и не было б на свете этого разнотравного душистого лужка… Нет, почти все справедливо было в этом широком и высоком жилище земной жизни, все существовало не для кого-нибудь одного, будь то растение, дерево могучее или даже сам человек, а для всех. Для всех, а значит и для лопушка тоже, пусть он и слабенький был совсем поначалу, едва-то пробился наружу.
Но и опасностей было много, и серьезных, потому что ни с кем он, этот мир, не шутил, все делалось всерьез. Некоторые насовсем пали под косою в один из последних июньских дней, не в силах возобновить себя, отрастить в сухое время отаву, погибли и корешки их. Большинство все ж сумело выжить, в корнях притаясь, но так и не поспело семенами, – косят траву в самый разгар цветенья, иначе, если припоздниться, сено грубым будет и бедным. Пал и щавель-гордец, не дозрев как следует семенами, и был выброшен косцом в сторонку, потому как малосъедобен и сохнет плохо, мясистый, сено в стожке может подпортить; но ему-то что, у него корневище сильное, еще не раз взойдет. И совсем близко от лопушка прошла, хищно вжикнула коса; тут бы и конец ему был, малосильному, да поопасался, видно, косец задеть сухостойную ветку лозняка или счел за ненужное губить – пронесло… Косец пошел дальше, переступая размеренно, плечами, всею спиною поводя, и отступала перед ним беспомощная стеночка невысокая травы, и никла безропотно, отдавая воздуху запахи пресных, парных своих соков – последнее дыханье свое…

И так он рос, и к осени, ко времени второго укоса, который так и не состоялся по сухости нынешнего лета, вырос намного-таки, листьями в добрую человеческую пятерню. Какая-то тля пыталась его есть, всю сердцевину ему паутинкой своею опутав; чуть не стоптала забредшая сюда по вечеру корова из тех, что так любят обчесываться в кустах; и сам куст, поначалу вроде как приютивший его, что-то уж слишком разросся, упорно застил небо, не желая делиться им и влагою земли с соседом: мол, много вас тут, нахлебников… И лопушок, тянувшийся как мог за светом, звавшим его в прорехи лозняка, вырос потому отрочески тонким, голенастым. Опять шумели ненастные ночи, тосковали о чем-то; глядели в душу кроткие раздумчивые деньки бабьего лета, посылая окрест бледно-голубое свое безразличное приветствие всему; холода уже приступали, не давая разогнаться в росте. Но главное-то уже было сделано: он жив остался, корень с запасами отрастить успел, теперь и зима не страшна.
И ударили заморозки, подвялив сразу, поскрутив многую траву; и сизоватой изморозью, засверкавшей в первых лучах, взялся весь луг, и под ее вроде бы невеликой тяжестью как бы осел сам в себя, вмялся осенний травостой, спутался, ни начал ни концов не сыскать в нем теперь – осень… Недолго и лопушок держался, поскукожило ему листья, свернуло, прибило к земле – и, должно быть, сон взял его, опутал всего до последнего корешка и в темную свою глубь увел, до весны…
Сон взял его, малого из малых; но та родовая, изначальная его связь со всем, что существовало и происходило в поднебесном беспокойно-прекрасном мире, – та связь не оборвалась. Может, наоборот даже – обострилась, не заглушаемая сейчас его главной нуждою выживания. Да, весь мир, как земля бесчисленными корнями и корешками, пронизан был и переплетен мириадами тончайших, чаще всего неуловимых связей, которых и человек, лишь часть всего сущего, не поймет до конца никогда, – не может же часть быть больше и умнее целого… И лопушок чувствовал не только корни и листья соседей, не только влагу и тепло земли или воздуха. Весь до клеточки последней вплетенный в безмерный этот, непостижимый узор связей мировых, он, может, не только слышал, как в одном из дворов села тешет тот самый косец топором колышек на пороге сараюшки, или знал, как тоскливо, невозможно одиноко в голой степной лесопосадке отставшему от своей стаи больному грачу, еле уже держащемуся на последней ветке своей. Он чувствовал грубую дрожь и подвижки землетрясенья за океаном, волны опасности и сорванные клики беды там, мольбы раздираемых трещинами корней; и одновременно отраду начавшегося где-то в тропиках сезона дождей ощущал, и знал, что в невообразимой где-то глубине пространств сейчас взорвалась очередная звезда – знал, что именно сейчас, за много-много лет до того, как придут от нее оповещающие о том лучи… Он, простой лопушок на бережку родины, ничуть не проще был других, самых причудливых растений и таким же бесконечно сложным, как любое живое существо, как человек в том числе, – а одна бесконечность всегда равна другой, пусть и по-разному они выглядят. Потому что жизнь едина не только сама в себе, она едина и со всем другим, что всегда считается неживым, – с водою и камнем, с воздухом, со звездой… И если бы лопушок умел думать и говорить, он бы, наверное, сказал за всех соседей своих, за все живое и неживое на свете, что жизнь и сам этот мир – это связь всего со всем. Только обособился человек, плохо ее понимает теперь и чувствует, отвлеченный грубыми своими заботами нынешними. И что эти бесчисленные связи и есть то самое добро, которое положено в основу всего мира. А самовольное нарушение этих все оживляющих связей и законов есть зло.
Но ничего этого сказать он не мог, спал, каждый сполох далеких полярных сияний чувствуя во сне, каждый порыв разгулявшейся наверху пурги; спал, зная не только о пробуждении скором своем, но и о том даже, что будет дальше и каким он станет, – многое может знать наперед, предвидеть живое существо. Изредка рискнет человек предсказать погоду на неделю, сам себе не очень-то и веря, а иное малое невзрачное растеньице или мышка степная уже за полгода ведают, какое будет лето, сырое ли, сухое, и как к нему лучше приготовиться… А комнатный какой-нибудь цветок не хуже, может, кошки или собаки знает, как к нему относится каждый из семьи человек, – откуда знает, как?..
Но вот уж просторнее стало зимнее небо – уже и не зимнее оно вовсе, а самое что ни на есть весеннее. Уже снега везде не те, поосели, кое-где провалились, подточенные снизу снеговыми голубыми водами, а сверху прибывающим, как никогда приветливым солнышком. Еще, кажется, все так же холодна, на вершок не оттаяла под сугробом земля – но отчего уже проснулся лопушок, уже выталкивает туго скомканные, еще беловатые от подземного житья листочки? Хорошо – с южной стороны куста поселило его, вот уже и мутный полусвет забрезжил сквозь зернистый, исходящий водицею и силенками своими последними снежок; вот подтаял он еще, подмок – и обвалился, и яркий залил свет с высоты и разом пригрел, приласкал, словно и сам соскучился по нему, лопушку, за эти долгие, в утесненье проведенные им полгода. Но это ведь лишь для человека стало бы утесненьем, не для лопушка; ему это зимнее окоченение было столь же необходимо и желанно, как и благодатные с моросящим дождичком летние дни, разницы никакой.
А река в полыньях уже вся, пошумливает, недовольная, ропщет под тяжелым льдом-лежнем, которому осталось теперь быть обузой у весны считанные дни. А дни эти бегут один за другим, один другого лучше под небушком голубым, под ясным греющим солнцем; строптивый лед снесло, первую показало травку и грачей нагнало, пахучие на тополях стронуло почки, и вот думаешь: как же в таком-то приветном мире – и жить плохо?! Зачем обманывать, вздорить, обижать? Чужое зачем отымать, ведь так просторна и щедра земля, всего на ней хватит, всем, лишь трудись не ленись… Ведь и без того нелегка, строга ко всему живому жизнь, труда и великого порой терпения требует, по-всякому испытывает, остерегает от благодушья – «на то и щука в озере, чтоб карась не дремал»… Вон мальчишки на днях мимо прошли со старой штыковой лопатой – совсем рядом, коренья всякие выкапывали и ели, а уж до репейника они всегда охотники, лопушок это знал.
Но уж не лопушок он теперь, а самый настоящий репей, сильный и раскидистый, – рано проснувшись, весенние холода претерпел, но успел зато, пока лозняк листву набирал и не мешал светом пользоваться, в добрые полметра вымахать, уже ему и тень не страшна. Ствол у него появился с зеленоватыми войлочными завязями и листочками наверху, не по дням, а по часам растет: уж на что силен прошлогодний знакомец, конский щавель, ныне тоже вылезший, но и его лопух обогнал, соцветья выгнал повыше, поближе к солнцу, куст подпер.
А росным благим утром, когда так тихо, будто еще не проснувшись, стоят в тенях от деревьев травы, солнца ждут и пробужденья, – в такое вот утро пришел на седую от росы луговину снова косец. И опять они полегли, все, и конский щавель, не на своем выросший месте, тоже, видно, так и заглохнуть ему, трудно переспорить человека. И опять уцелел репей, не стал его трогать косец: жилист уже, лезвие косе подпортит, да и не мешает, под кустом траве все равно не вырасти. Настоящий косец зря косить не будет, почем зря никого не обидит.
Так вот и вырос простой репей, такая у него простая история. Семена вырастил, раздавал их направо-налево, ко всякому встречному-поперечному спроста цеплялся, как хитроватый мужичонка на базаре, навязывался: бери, мол, не жалко… Берите, разносите жизнь – какая бы непритязательная она, на ваш взгляд, ни была. Ибо свято дело расселения и продолженья жизни, и есть ли на свете другое какое, чтоб святей было?..
И не творите зла, поменьше рвите связей-корешков в своем жилище высоком. Не самовольничайте почем зря, возьмите за пример настоящего косаря. Ведь не тогда зло, когда пташка проглотила мошку, – так заведено в природе, зла в ней нет. Оно может идти только от человека, зло, осмысленное или бездумное. Но жизнь строга, несмотря на всю свою красоту, к ослушникам беспощадна; и по связям бессчетным своим, сколько бы ни рвал ты их, рано или поздно возвратит тебе твое зло. Не простит, ничего в ней не проходит бесследно.








