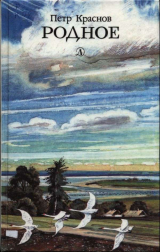
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

Петр Краснов
РОДНОЕ
рассказы

РОДНОЕ
РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ [1]1
«Родное» – переработанный и дополненный вариант повести «Высокие жаворонки».
[Закрыть]

Геннадию Хомутову с благодарностью посвящаю.
Автор

Даль неутолимая

Незадолго перед тем, как ему появиться на свет, прошла война, самая большая из всех, какие были. На разоренной ею земле, где исковыренной с безумным старанием, где обобранной до последней нитки, на оскудевшей людьми и хлебом земле жилось неладно, смутно. С трудом каким-то втягивались в другую, мирную вроде теперь жизнь, тянули и ее все в ту же гору, ломали день за днем работу, ничего другого пока не ожидая. Рассохлась вся, скрипела жизнь. Ее бы, как телегу, в тихую воду, на покой до времени, чтоб стрижи над нею стригли вечернюю небесно-пустынную гладь, чтоб укрепли все ее расшатанные сочленения, – а она все тащилась, скрипела.
Был дом, саманная, в три глубоких оконца, избенка с плетневыми сенцами, темными и щелястыми, все это белой глиной, перемешанной с навозом, обмазано – все не хуже и не лучше соседского. Вместо двора полянка курчавилась муравой и блеклой лебедой; приходила сюда по вечерам корова, и, загнанная в единственный сараишко, дышала оттуда теплым, парным, и все о чем-то вздыхала, неторопливо пережевывая, – степная, неказистая была коровенка, но старательная. Еще огород был с огурешником и запущенным калиновым садом, сумрачным, молчаливым; что-то там водилось такое, а что – никто не мог толком сказать. Рядом всегда, только подбежать, мать была, молодая и сильная, и отец, который победил на войне и потому все мог. Жили соседи возле и родня, все своей семьей и хозяйством, своими заботами. В конце длинной, с одною всего тележной колеей, улицы текла в черноземных берегах средь лопухов речка, бунтовавшая каждую весну против своей кроткой участи; за нею через луг, через камышовую тинистую старицу вставали степные продутые плоскогорья – взметывались и уходили куда-то на восход солнца, вольные, уходили далеко. От избытка земель кругом сельцо самовольно разбрелось среди кустов и ериков речной долины, по всей бывшей здесь когда-то уреме[2]2
Урема – лиственный лес в пойме реки, заросли.
[Закрыть], а кое-какие улицы даже наверх выкарабкались, в большую степь, на ветродуй, терпеливо и одиноко снося там всякую, какую ни пошлет, погоду. Редкозубые улицы-порядки, где косогором, где ямою, вековая посередь них мурава, на задах кособокие кизяшные скирды и навозные кучи, амбарушки, чересполосица огородов и голые, под высоким небом пустые пажити, поля кругом, – еще одно людское гнездовье, угол земной, нет им числа…
И пусть кому-то там другие места достались, покрасивее, и жизнь получше – а ему вот это; сам он уже был на свете, и оставалось теперь только жить и ждать, что будет дальше, в этом и состоял весь интерес.
Если судить по-нынешнему, они тогда сплошь нищетою все были, только что угол имели свой да еще как-то умудрялись коровенку продержать, а кто и пару-другую овец, – да и то сказать, нищетою белый свет не удивишь. Но что там ни говори, а в огне не сгорели, в воде не потонули – живы остались, интерес ко всему остался, мир вокруг простирался большой, и надо было жить, ждать.
Бесконечным было уходящее самое в себя небо, кипенно-белые высокие облака в нем, а еще выше солнце – то маленьким слепящим ободком, налитым ярью, плавилось, мнилось там, а то напрочь исчезало в нестерпимом своем свете; и однажды он, желая понять, так насмотрелся на него, что даже плакал от рези, от боли тупой в глазах, и мать настрого запретила делать это, отшлепала всего. Солнышко глядело теперь на него сверху и будто донимало, вниманье на себя хотело обратить, а ему было нельзя. Стало быть, не пристало на такое глядеть, не человеческое это было дело, и он не глядел теперь, оберегался, разве что покосится когда изредка. Вовсе не обязательно было на него смотреть, обходилось так.
Зато можно было взамен глядеть на все другое, многое, и он глядел и помнит, каким всё новым было и молодым, даже и старое. Широкая ровная улица досталась ему, с поля огражденная где взгорками ковыльными, где пойменной высокой зарослью с тяжелыми горластыми грачами, с огородными полянами тихими, открытая к реке. Тополя вставали на задах, и высоко возносились меж них проёмы, сквозные столбы воздуха, то светом косым просвеченные, то пробитые дождем, осенью просторные, пустые. Близкая соломенная крыша, скворечник одинокий на жердине у соседей, колодезный журавль с деревянной серой, обглоданной непогодами шеей – все вверх тоже лезло, хотело вровень с облаками плыть, но тут же и выдыхалось, останавливалось либо закруглялось, бессильное. Какой-то предел, запрет был там; вроде б нигде и не видно было его, а туда не пускал. Птицы – и те с видимым трудом превозмогали его, лишь коршуны одни, зловеще отдаленные, отрешенные от всего, были там свои, стерегли высоту, парили, иногда насовсем пропадая в ней, другое так не могло.
И была даль, и везде она простиралась, маревом дрожала, утягивалась за окоём. То в степь тянула взгляд, то за реку, где простор травяной до самых гор с кулижками камыша на озерах; и вот сами горы, подножия их зеленые, только трава все бедней с высотою да заметней белый крап камешника в промоинах, в потеках глины и бог весть какими переменами занесенного туда гравия. Идут вверх, скругляются на лбах, широкие ковыльные вершины скрыты высотой там, вольные, – а уже в проемы распадков другие отгорки видны, увалы пологие, синеются от глубины воздуха, невесомой толщи его. Идут, подымаются, и вот синяя последняя, маревом поразмытая гряда, за которой одно только пустое, безмерно далекое небо встает и больше ничего. Одна только даль, не утолить ею глаз, одна светлая тоска простора – такая, что сердце просится туда, чтоб заполнить ее собою и навек остаться там везде, чтоб не было так пусто и вольно там без тебя и не звало, не щемило бы напрасно свободою своею и светом…
И был еще, он помнит, вихляющийся скрип рыдванки[3]3
Рыдванка – телега с высокими бортами из жердей для перевозки сена.
[Закрыть], доверху накладенной обыденным сенцом, и ночь была уже – теплая, июньская, с последышком вечерней ясной зари; и звездное стояние, дрожание над головой; их, звезд, течение немыслимое где-то там, в такой заманивающей глубине, что боишься упасть туда… а вот покатилась одна, покатилась, все быстрей, беззвучней, пропала, не успело и сердце оборваться. Он лежит на самом верху воза и весь пропах непровянувшим, с живой еще пресниной сенцом, ягодником степным, пропах лошадью и сыромятной ее сбруей, тележным дегтем и даже будто махоркой от отца, шагающего обочь рыдванки с вожжами в руках, – и так высоко и шатко ему, сладко… Заря уж вовсе истончилась, потухла, припала к темному долу земному, уснувшему; и опять эта ленивая, впротяжку, перебранка заунывная колес с дорогою, сдержанное во тьме пофыркиванье лошади и вздохи сена; укачивает в сон, в звезды, в немолчный хор их согласный, звенящий степными сверчками, так высоко вознесенный над миром, что радостно и жутко за них… А потом пробужденье где-то во тьме – оттого, что все накренилось и грозит сползти куда-то, к опасному краю запретному… это воз накренило на повороте, едва не завалило. Еще разъято, зыбко всё, и теплая шуршащая тьма не отделена пока ото сна, сплылось все, только запах другой пробился уже – домашний запах скотины, построек и перепревшей соломы, политой в огурешнике земли. И внизу голос отца грубоватый, будто вязкой и темной, тяжело спящей тишине округи противоречащий. И материнский голос участливый: «А я ждала-ждала…»
И были голоса – множество голосов, отовсюду. Утренние птичьи, встречающие солнышко, когда вскатывалось оно, зоревую высвечивало воду, истребляло кроткий туманец. Вечный лепет тополей, говорящих что-то свое даже и в безветрии, настолько чутки они к любому движению воздуха. Грозный голос неба, раскаты его средь шума и плеска ливней обвальных, в холодной ярости молний. И те, в заводях сна, в затягивающих водоворотах детского беспомощного бреда, когда болел, голоса и лики, теперь уж забытые навсегда…
И еще ласковые помнил, баюкающие, как они уговаривали его, подтыкая заношенное лоскутное одеяльце: «Ну что ты испугался так, милый… чего боишься, родной? Не бойся, ты будешь; ты вот завтра проснешься с солнышком – и все будет!..» И как поспешно затыкали, завешивали какие-то пугающе темные провалы пространства, прогалы беспросветные, откуда мерклыми пустыми глазами глядела тьма и несло, как сквозняками, холодом и страхом. Как теплую тяжелую ладонь клали ему на голову, и он благодарно засыпал…
А назавтра он просыпался вместе с солнышком, ярко бьющим в оконца, и всё, весь белый свет диковинный был его.
Белая глина

На изрытом берегу речушки неподалеку от села застала их туча, так он помнил. Мать взяла его с собой: оставить дома было не с кем, отец и соседи ломали где-то работу – а мальчонка пусть прокатится, все веселее. Он, видно, еще и сам напросился, поскуливал, ходил, дергал за юбку, попробуй тут не возьми. Взяла, пусть прокатится парнишка.
Пока мать ходила, искала по ямам, где получше глина, а потом глину эту копала и накладывала в телегу (надо было обмазывать саманную их избу с сенцами и катух), он, верно, тоже ходил и смотрел, заглядывал в таинственные ямы эти и ямки, выдолбленные округлыми такими пещерками, с темными подкопами под сухой сыпучий дерн, совсем здесь небогатый, – хоть живи тут в них, если б не было таинственно так и боязно почему-то. Глина была тонкая, маркая, он скоро весь, конечно, измарался в ней, и на ощупь приятная, плотная такая и прохладная, хорошо было на ней сидеть, возвращаясь на телеге домой, а потом слезть, оставя на ней след своей попки; а мать поругивается и наспех то ли отряхивает, то ли отшлепывает его, а потом скидывает лопатой эту чистую глину, ровным конусом осыпающуюся, отекающую грубые колеса телеги.
Мать копала, а он, должно быть, уже наскучил себе этими ямами и пошел реку поглядеть, какая она тут. Какая она была там, дома, он хорошо уже знал – интересно, какая здесь. Опасливо обойдя козырек обрыва, потрескавшийся, наклонившийся уже над водой, чтобы упасть, спустился по муравистому уютному ложку вниз, на песчаное подбережье, песок был грубый, пополам с тиной, и там, где высох, комоватый, ископыченный скотом. Речка текла почти неслышно, редко плеснет или бормотнет когда у берега, будто недовольно, что подсматривают ее тайны всякие водяные – а их много, везде он их видит. Вон мать-и-мачеха лопушками на черноземной осыпи тенечек сделала, и в этом тенечке тоже какая-то тайна, неизвестно только – какая. И под козырьком крути молчаливой тоже, как под сдвинутыми бровями человека, который задумался сам не зная о чем, и в небольшом совсем водоворотике неслышном, все убегающем от здоровенного куска дерна, который обвалился сверху, наполовину в воде лежит, и в грудке плавника, прибитого к нему, – во всем тайна, тихая такая, про себя, никому не ведомая. И он там посидел, наверное, среди сокровенной той жизни, послушал, как еле слышно лепечет вода под берегом, шепчется с редкой галькой, перемывая каждую и всех вместе, робкий тальничек покачивая, словно зовя его с собой уплыть; поглядел на дремлющие, устало прилегшие берега ее, как они расположились всяк по-своему, кому как хочется, службу свою несут. А сам день, вот это он помнит уже точно, серенький такой и притемненный, почему-то рано притемнился – это от туч, наверное. Ветра мало, но тучи все идут, мать торопится, а над плоскогорьями за речной долиной уже сплошная темная синь, как в зимние сумерки, и все кругом, кроме речки с ее ласковой по-прежнему и теплой, чуть лишь потемневшей водой, почужало будто, погрубело во всем; туча дышит влажным холодом, пересохшая трава кажется грубой и колкой, воздух смутен и полон неопределенного движения, беспокойства, неласковый какой-то, домой бы надо. Дома хорошо, там воздух покойный, теплый и пахнет только своим, тоже малой своей тайной запечной. В каждом доме воздух свой, живет на полных правах вместе с хозяевами, хотя мало его замечают, лишь когда угар или что на плите подгорело.
Совсем туча омрачила все, засеребрели мертвым светом травы, высохшие и еще живые, холодом прошлось по всему, нет уже нигде покоя по реке – домой надо. Мать с тревогой окликнула сверху – домой. Она уже, должно быть, и жалеет, что взяла его с собой, и сама же думает, что хорошо, что взяла, – с кем бы он был сейчас, кто бы его приютил… сидел бы дрожащий, один, маленький в темной и пустой от ненастья избе, звал напрасно ее среди нахмуренного жесткого мира – нет, хорошо, что взяла, вместе лучше, не думать. А с неба уже падают мелкие редкие холодные капли, и каждая метит куда хочет… Где ты, горе мое?! Вот оно, твое горе и радость, вот, испачканный в нежной пыльце глины, щербатенький, с большими глазами тревожными, еще не испуганными грозой, карабкается и бежит, беззащитный, топочет, всегда готовый под защиту твою.
Безымянная лошадь, которой уже давно, наверное, нет на свете, вытаскивает, послушно мотая головой, телегу из ямы; телега скрипит всеми своими суставами, перекашивается на повороте, осыпая с себя лишнюю глину, штырь-сердечник едва не выскакивает из передка, – и останавливается наверху; лошадь тоже встревожена, поводит, прядет ухом туда, где первый слышится глухой говор дальнего грома, где-то повыше горизонта. Мать усаживает его на глину, ровной грядой насыпанную в телеге, и трогает лошадь, сама идет рядом. Она оглядывается, то и дело торопит, подстегивает, телега скрипит торопливее – и, незаметно подкравшийся, пугающе близкий грохочет вдруг, обваливается на них гром… Вздрогнув, замирает придушенная тучами степь, и ослепительным светом передергивает всю ее. Лошадь отчего-то жалобно ржет, – может, где жеребенок у нее остался? – наваливается в оглоблях, колеса передка вертятся шибче, телегу качает, шатает, а он уперся растопыренными руками и ногами в податливо ползущую ненадежную глину и оглядывается в страхе на мать, а та на небо, тяжело и грозно синеющее позади.
Они успевают доехать только до первой улицы (их, вторая, верстой дальше), как вздрогнувшее в очередной раз небо вдруг прорываться начинает, слышится шум огромный, обвальный, догоняющий – и, сминая все, водяной шквал догоняет и рушится на них, на вздувшуюся разом землю, глуша весь дальний и ближний мир… Он вцепился в грядушку телеги, боясь упасть, скорчился весь, матери не видно, а телега куда-то заворачивает накренясь, мать что-то кричит впереди, погоняет, какие-то постройки сбоку, колесо чуть не задевает столб какой-то, и телега вдруг въезжает из дождя под крышу лапаса, под солому-спасительницу и останавливается – приехали. Он весь мокрый насквозь, вода еще стекает, глину поразмыло, почти сравняло с краями телеги, мать под мышки снимает его, всего в белой глине, ругается на ливень, а его утешает, спрашивает, как он, не очень ли замерз, миленок, а то бы смыть надо эту глину… господи, и когда мучиться перестанем?

Потом они сидели в темной теплой избе у какой-то знакомой тети, он был одет в первые попавшиеся сухие тряпки, отогревался, а за окном была сплошная белесая стена ливня, молнии неистовствовали в белесой этой мгле, и страшно катался поверху гром, готовый все раздавить и разбить. Тетка крестилась, бегала, сухонькая, хлопотала, подставляла ведра и чашки в разных местах, даже в переднем углу, где икона, протекло; а потом, когда ливень спал и дождь вслед за тем тоже унялся, утих, оставив растрепанным все, мокрым и размытым, когда понемногу оправляться стала окрестность, нарушенная непогодой, и просветлело небо с высокими бегущими тучами и облаками, они поехали домой. Разъезжалась копытами по чернозему лошадь, все мокро светилось и блестело, воздух проникнут был теплой летней сыростью, запахами растревоженной огородной земли, картофельных кустов и разопревших навозных куч, бледно и высоко светились лужи, небом светились. Постройки их улицы потемнели, набухла солома крыш, а дорогу в низине перервал грязный клокочущий поток, вода все никак не могла стечь, утихомириться, столько ее было.
Дома первым делом мать нашла и кинула ему сухое, тут же и сама скинула с себя обхлюстанную юбку и другое все, мокрое; они вместе переодевались в сухой избе и радовались, что их такая старая соломенная крыша не подвела – нигде не протекла. По улице все еще бежали, стекались в одно ручьи и торопились в речку, которая теперь, наверное, полна мусорной парной водой ливня, принимает к себе все эти потоки грязные и ручейки, как мать своих грязных набегавшихся ребятишек… Где они только не бегали: по огородам, по запыленным придорожным лопухам и листве, по вымытому камешнику дальних плоскогорий, соломистым дворам крестьянским, везде, понатащили всякого – все, мать, принимай… Еще трепетали молнии. Уже бледные, усталые, брезжили они на краю неба, не пугая никого, лишь для порядку грозя, для виду. Шлепая сапогами, прошел мимо их окон сосед дядя Лагутин, весь мокрый, но с веселым отчего-то лицом, довольный, видно, дождем – и его тоже где-то застало. Всех застал дождь, везде был, никого не обошел стороной…
Дождик-дождик, пуще,
дадим тебе гущи,
дадим тебе ложку,
хлебай понемножку…
Так мать учила манить его, зазывать. А дальше как бы вроде непонятно даже, но почему-то и понятно тоже, по-другому и сказать нельзя было:
Я у бога сирота,
открывала ворота
ключиком-замочком,
золотым платочком…
Он не знал, что это за платочек золотой такой, но так надо было, и он верил, что кому-то, кто у бога сирота, можно и платочком открыть – сироте можно, бедной… Мать ушла сваливать глину, потом она погонит на базу лошадь, а он ее тут подождет, ее и отца, который тоже должен скоро вернуться – после такого дождя в поле делать нечего. Небо стало открываться, солнца еще не было видно, однако уже угадывалось, где оно должно быть; и оказалось, что день тем временем, где-то за грозой, успел склониться к вечеру – да, совсем почти вечер, низкие пологие лучи солнца пробились сквозь тучи сначала в одном, в другом потом месте, затем солнышко вышло в голубую прогалину пошире, засветило ярче, заблестели, занялись бледным холодным пожаром окна улицы, расхристанной ливнем и ветром, – совсем вечер…
Он тогда, помнится, вышел на улицу, весь в сухом, согревшийся. Матери уже не было, свалила и уехала; а у плетня сенец была глина, только что сваленная, белая глина, легким таким высоким конусом, она вовсе не промокла и была такая же сыпучая, мягкая, нежно-сероватого, серебристого даже цвета – чистая, не тронутая среди хлама послегрозового, среди скудости той жизни, островком материнской нежности и силы, белая глина.
Зимой, после войны…

Такой долгой была и темной казалась зима, и так наскучила изба, что куда ни ткнись – везде скука. В окно глянешь – там не разбери-пойми что творится: синё, вроде как пурга, и сугроб новый на месте старого, срытого, заглядывает уже белым своим, смутным, уже навьяло; мигает, переливается медленными загадочными искрами, отсветами избяными тусклыми стекло, на треть заросло изнутри наледью – не разобрать, зима. Воняет керосином семилинейная лампа, подвешенная к матице, все провоняло им давно; только что принесенные, все никак не отойдут с мороза кизяки у порога, пахнет от них двором и летним еще чем-то, вольным, травяным. За печкой, где скоро будет теленок, все его ждут не дождутся, сидит на соломке перед грязной чашкой с зерном скучный петух: отогревается, отходит тоже, ноги себе и гребень поотморозил – не остерегся, говорит мать. Целый день так сидит, и дикий хоть, а не боится, когда подходишь, но и не клюет. Ничего, отец говорит, оклемается. Скоро будут печь топить, не большую, а подтопок, отец посулил соломы принести, ею протопить. Баловство, все знают, а не топка, но вот любят. Толкается в окна снежный ветер, ставню дергает, со стены такают, все что-то считают старые часы с мишками, никак сосчитать не могут.
И вот шаги скрипят на дворе, в сенцах потом, визжат на разные голоса – туда снегу тоже нанесло, – останавливаются, потом отцовский голос, мать спешит ему открыть мерзлую, отмокревшую сверху дверь, на кузнечных болтах которой уже сахарными чистыми головками наросло, хоть лижи. Распахивается дверь, и заждавшийся там, как собака, врывается сначала, бежит быстро понизу холод, тычется во все углы, ноги заставляя подбирать, а потом спиною отец, пригибаясь, втаскивает огромный ворох морозной соломы, валит ее тут же, к устью подтопка поближе, а мать спешит опять притворить: «Выстудишь больше ею, чем натопишь…» Всегда она ворчит или ругается, особенно много зимою. Отец выходит, приносит еще беремя, за ней третье вваливает, пол-избы теперь завалено соломой, стылости набралось, а с нею воздуха нового – острый, праздничный какой-то воздух. Веселей становится, отец тоже усмехается сведенным еще ртом, мать добрее глядит, ставит на плиту чугунок. Ржаная солома, длинная, и с холодом, со снегом даже, много на такой не покувыркаешься, надо быстрей топить.
Поднесенный спичкой огонек цепляется за соломины, ползет, на цыпочки привстает, перебегает понемногу куда-то внутрь набитого подтопка – такой еще слабый, что его даже отпускать боязно туда одного, ведь погаснет… Но это лишь кажется так, и огонечек, совсем уже запропавший было там, вдруг освещает разом всю изнутри солому, пережженные кирпичи кладки, и еще первый дым путается в ней, нерешительный, а она уж в момент схватывается вся, с легким треском вздымается снизу и на глазах опадать начинает, рушится огненным сором, короток ее век. Еще дым не нашел ходу, его выплескивает, мягко вываливает в избу, по-осеннему пахуч он и горек, и тут же гудеть начинает, налаживаться в трубе тяга, теперь только подкладывай. Отец одним движением сворачивает жгутом солому, сует поглубже и отдергивает руку – кусается огонь, а на лице его свет новые, будущие морщины отыскивает, какие будут потом, а пока что только тут вот, у печки; и уже из тускло-красноватого желтым, как сама солома, становится этот свет, веселым, пляшет на стене и в слепых оконцах, то притушаясь, то разгораясь вовсю, спеша… Занесенный на ногах и с соломой снежок тает, свертывается в капли, светлым жаром несет от устья печи, волнами идет тепло по всей избе. Мрак в углы забился, глядит оттуда хмуро, выжидающе, и лампа теперь уже не та, померкла будто и в тень ушла, одна печка хозяйничает светом своим и теплом, она одна. Даже кошка, осторожно переступая, подошла и села, огонь в ее желтых глазах, равнодушно, как все кошки, смотрит.
Отец как-то нехотя расстается наконец с печкой, успел пригреться; уступает место – давай орудуй сам теперь… Где горячо, знаешь? Знает, научен уже. Сладко сидеть на ней, соломе, валяться на чистой, как земля где-нибудь далеко в поле, охапками брать, скользящую, совать в жадный, опережающий, чуть не из рук ее выхватывающий огонь, едва успеваешь заталкивать, лишнее обирать, чтоб не выпал, не выбежал наружу веселый этот жадина… Синеют, ослизняются на дверных плахах сахарные головки; к утру же опять они забелеют, предупреждая, какой-то белый мертвенный свет от них, будто вся стужа вселенская в нем собралась. В чугунке начинает бормотать. Отец сидит у лампы, возится с валенком, взглянет иной раз, прикрикнет: «Ты мне избу спалишь, кочегар… Обирай!» А мать ворчит: «Зима со двора, а он за дратву… Это додуматься надо: мальца такого – и к огню! Осенью в школу не пустил, а тут к огню. У самого-то что, спина переломилась бы истопить?» – «Ничего-ничего… пусть сам!»
Давнее все, старое, совсем уже древним стало. Языческий этот, едва прирученный огонь в темной их избенке на краю, в окна волчья степь глядит, ненастьем стучится в ставни, помнить велит, а ее и не забывал никто; древняя межень зимы, самая середина ее глухая, сретенские морозы и ночь – кричи не докричишься, не добредешь на пропадающие огоньки, лишь ветер слыша да собственное дыхание запаленное, безвестно все. Может, во тьме, простершейся неизвестно как далеко во все стороны, есть другие, убогие такие же закуты, где теплится, едва себя освещая, жизнь, схоронилась, сохранилась еще как-то, – но средоточие, середина ее вот здесь, у кособокой печи, среди теплых на печи тряпок, в тебе; а чуть дальше, если за порог, то все уже чужое там, одна сплошная окраина. Невидимые ночные деревья там скорбно шумят, пурга без препятствий гуляет везде, дымит, срывается с занесенных вровень порою крыш, скребется сухим от холода снежком, швыряется в окна, в примерзшие к косякам двери; по норам дрожит во сне всякая тварь, а другая и напрочь забылась, закоснела, не зная даже и о будущем своем пробуждении; и ноют, ноют в невозможной тоске столбы неведомо как забредшей сюда линии – забредшей, но не давшей обещанного света в сельцо и торопливо повернувшей к другим каким-то краям… И днем там, за порогом, не поля, а лишь огромное одно схватившееся в камень поле, даль и молчание, и только низкое и совсем чужое, с самого восхода вечереющее солнце холодно блещет иногда сквозь морозную мглу, играет равнодушным светом на полевых застругах, перебирает, пересыпает искрящуюся многоцветную пыль мертвую, никому не нужную; много снежного света, молчания и пустоты.
Средоточие, центр всей равнины жизни здесь – но как он глух, заброшен!.. Где-то перехватывает скудные зимние заработки отец, мать спозаранку тоже то на своем дворе, то на колхозном, разве что забежит отогреться; а он остается один, с петухом этим и кошкой наедине. Кошка безымянная, как-то некогда все было назвать, и брезгливая, все норовит куда в сторону, полежать, либо в подпечке мышей караулит, а петух, втянув голову, только глядит – скучно. Весь оконный ледок продышан ею, скукою: поскребешь, подышишь, проглянет малоезжая дорога, скособоченная и совсем одна хатенка на той ее стороне, розовеющие от стужи снега, далеко где-то за огородными раскоряченными ветлами переходящие в небо, – и тут же затягиваться начнет глазок, задергиваться тонюсеньким неуследимым ледком, меркнуть поспешно, так накалено закатными дикими папоротниками расцветшее стекло. К вечеру совсем нахолодает и стемнеет в избе, даже и на протопленной с утра печи все камни-плитняки, какими она выложена, остынут – все, кроме среднего, заветного, что ближе к трубе: еще теплый, но уже и не понять, кто кого греет – он тебя или наоборот. Опять заторопит мать отца, снова топить. Все видно, слышно с высокой печи: вот отцовский топор тупо и редко забухал в сенцах, раскалывая для подтопка кизяки; по дороге мимо с долгими мерзлыми взвизгами полозьев, с фырканьем заиндевевшей, должно быть, лошади проследовал поздний ездок на санях; а вот мать быстро проскрипела подоконной тропкой и вместе с клубом белого холода внесла два ведра прозрачно-тяжелой зимней, с ледяным звоном воды, дверь прихлопнула, подышала на пальцы. Размотала, совсем молодая, старенький свой серый полушалок, глянула наверх, к нему: «Живой? Щасик обтеплеет, милок!..» И быстрей к растопке. Уже на нет сошел негреющий закатный свет в окнах, лампу зажгли, когда вошел со двора, управившись с парой оставшихся овец и коровой, отец, принес, посмеиваясь, воробушка в рукаве – их много в застрехе на ночевку устраивается, полно этих норушек, прямо так рукой и достал. Воробей быстро отогрелся, стал летать по избе, тревожа кошку, залетал к петуху и клевал, а на другой день мать, открыв дверь, еле выгнала его тряпкой – грех, мол, неволить, да и пакостит.
А вслед за несмелыми, недолгими степными оттепелями нагоняло буран. Сначала, как водилось, поземка подымала голову, пуржила в лесопосадках, по огородам и тощим садам, взветривала оставшийся сухим по окрестным верхотурам снег, скачками унося его далеко в поле, где он не вот оседал, припадал к равнине; потом начинало подваливать сверху, крутить. За какой-то день, а то, бывало, и меньше того, матерел буран, невесть откуда набирал разнузданную, по всем, какие ни есть, бедам на земле тоскующую силу, шатал степь, хоронил все оставшееся в живых на самое свое глухое, в белых потемках дно, и нападала тоска.
И редко, то на ночь глядя, а то поутру, но приходили таким вот ненастьем повещать – опять пропал кто-то… Перехожие люди замерзали, блаженные, они тогда еще водились; блажные, каким вдруг приперло ни с того ни с сего, как рассказывали потом, с тоски какой-то к закадычному куму на соседнюю улицу, с версту огородами, наведаться; вертавшиеся с временных работ тоже, измотанные на отхожих заработках, из всяких иных отдаленных мест – и мало ль кто ни замерзал. Случалось, что находили вживе, под ветреный бабий вой снегом оттирали, скипидаром, чем придется, отхаживали; а чаще где-нибудь на обочине дороги, в распадке или на ковыльном, продутом суховеями взгорке среди чебреца и горькой сухой полыни вырастал на лето новый безответный крест, каких много в степи. И под небом, неизмеримо высоким, в теплом ветре июля, в грозовых полуночах – где та душа заблудшая, нашла ли дорогу, покой?..








