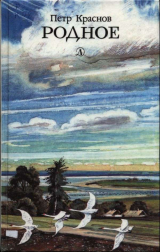
Текст книги "Родное"
Автор книги: Петр Краснов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Ишь ты, – сказал конюх, не удивляясь, потому что Кузьку таким знали давно. – Как же бы это я успел, коль так получилось…
– А что, – совсем неожиданно для себя вдруг спросил Гришук, и голос его опять сорвался и перешел почти в шепот, отчего стало неудобно вдвойне, – Лютого тоже бить будут, да?
– Не бить, а убивать, – солидно поправил Кузька, даже не глянув на них. – Конечно, а што ж с ним – лук чистить, что ли. Дядь Понырин вон сколь патронов набрал – как даст! Я, когда в восьмой пойду, тоже ружье достану…
– Ты дорасти сначала, – жестко и удивленно сказал дядя Пантелеев, и Гришук тоже удивился и обиделся на него за такую неверность Лютому. – В восьмой он пойдет… убивец какой! Молоко оботри сначала.
Кузька надулся, но ответить не посмел и, захватив свою дубинку и хмуро шмыгнув носом, поспешно отошел к толпе. Там гомонили уже разом, даже руками помахивали. Молодой, с мелкими чертами веснушчатого, уже пропитого лица, Филька-счетовод говорил высоким досадующим голосом, стараясь перебить Понырина:
– Э, нет… Э-э, нет! Тебе дай волю, так ты со своей ружьей… Да подожди ты, ей-богу, дай сказать: ты со своей ружьей не подумавши начертоломишь…
– Когда это я чертоломил?!
– А всегда! За что ты осенью Дамку у Соловьевых убил? Не дал тебе Микита в морду и до сих пор жалеет. А ты и счас…
– Ты про морду забудь говорить… тоже мне, деляга, про морду говорить! Не дорос еще до моей морды.
– Как-нибудь дорасту, будь спок. А вот Ефим вам правильно говорит: Волну с Лютым надо прибить – и только, остальные сами поразбегутся… А вы что? Неужели еще и тогда, в первый раз, не настрастились!..
– Он вон передумал уже, твой Ефим. И вообще, что это за разговоры такие – жалеть?! Все люди как люди, только вы тут с Ефимом мозги крутите. Неохота тебе обчее дело делать, ну так дуй к своей Мане, отдыхай и будь здоров. Кто тебя знает: может, ты дома и мух не бьешь оттого, что жалко… Ненормальный какой-то. – Понырин брезгливо и равнодушно отвернулся.
– Дак ведь совесть надо иметь, что ж сволочиться-то, ну!
– Вот и имей. Праведник нашелся!..
Филька выругался, грязно и заковыристо, и видно стало, что он уже хорошо выпил. Все молчали и даже ругань его слушали сочувственно, потому что сколь ни был Понырин человеком веселым и артельным, а жалости не знал.
– Сволочи! – сказал еще раз Филька, оглядываясь в толпе и разводя руками недоуменно и горько. – Ну, не будьте вы, в самом деле, сволочами такими… хрен с ними, пусть бегают, а? Сдались они вам?!
– Ты там не очень сволочи, парень, – подал вдруг голос Пантелеев, и все оглянулись на него. – Ты лучше посмотри, как они парнишку разделали – жуть одна! («И ничего не жуть… так это он», – подумал Гришук, недовольный, что на него стали смотреть.) Решили – стало быть, будем бить, нечего тут митинговать. С умом надо, это другой вопрос.
– Да, – сказал Васька Котях, до этого с замкнутым лицом слушавший спор, – ты бы, знаешь, заткнулся, Фильк, мы тут не рыдать собрались. А ты напился и рад.
– Да как вы не понимаете! – закричал зло Филька, сразу весь встопорщившись и покраснев пьяно так, что конопины исчезли. – Как не понимаете, что нельзя так, а? Дураки! Што ж вы…
– Но-но, дурачить будешь! Иди отседова!
– И уйду! Я таким паскудством век не займался, и ничего. Поперек горла вам эти собаки стали, да?! Развлечься захотели, да?! Я в газету напишу, гад бы меня взял, если што!
– Ну и дурак ты, – тихо сказал, морщась, конюх и встал. – Люди дело хотят сделать, а он встревает. Иди, ради бога, отсюда, пока не наклали. Не морочь головы. Они без тебя замороченные.
– Я уйду! – Филька распаленно погрозил высоко поднятой рукой и, воинственно пятясь, выбрался из толпы, лицо его от гнева совсем распарилось, и глаза покраснели от навернувшихся злых слез. – Я уйду, будь спок… а только вы не думайте, гады такие, что если вас много собралось, то вы уже народ! Сообча, говорите?! Мальчонков набрали, приучаете, а они вам потом сами головы поотвернут, гад буду! Уйду я!..
– Иди, иди… уч-читель какой! К Мане в подол сморкайся, огурец зеленый.
– Втык надо бы дать, – мечтательно сказал не потерявший присутствия духа Понырин, глядя вслед Фильке-счетоводу. – Чтоб не орал. Халява непутевая.
– Ну его к черту, связываться с ним, – с досадой бросил Боборыкин. – Он кому угодно мозги запудрит. На трезвую голову парень как парень, а выпьет – все ему кажется, что очень уж люди друг друга забижают. Он и прошлый раз напился, и все себя за рукава кусал, прямо мучился. За што, грит, они друг дружку так понапрасну, даже-ть по мелочам обижают, душу себе рвут? Ладно бы, грит, по крупному делу, по нужде: а то ведь – так, от вредности натуры. Разве так, мол, надо?! Ладно, грю, сам не больно неженка, переживешь. Он этого самого… Золю и еще всяких читает, ну и мучается…
Боборыкин задумался на миг, поскучнел и потом удивленно и невесело хохотнул, еще вспоминая:
– Человек, грит, должен быть чистым перед мать-природой, как, например, лошадь или свинья… Так и сказал – свинья!..
– Делать ему боле нечего, сопливцу, – лениво сказал Понырин и огляделся. – Ну, хватит нас?
– Сейчас еще подойдут. – Пантелеев опять сел на бревна, ссутулился. – Человек тридцать хотя бы надо, иначе не управимся. Не больно спеши, успеешь.
Гришук с усилившейся вдруг от всего этого тревогой наблюдал за ними, смотрел на примолкших, ставших будто недовольными людей и чувствовал и ждал, как и все вокруг, чего-то нехорошего. В самом деле, и что это они вдруг так разволновались. Конечно, собак жалко; но вот и Тамара Павловна говорит, что больше так нельзя, и дядя Пантелеев – не зря же он мужиков поднял и с Поныриным связался… Филька, конечно, тоже правду говорит, но он ведь ничего не понимает, его собаки не кусали. Но что-то в Фильке, в ругани его было такое, отчего все жальче становилось Гришуку собак, особенно Лютого; и он, преодолевая робость, тихо спросил хмуро смолившего папироску Пантелеева:
– А чего это он так, а?
– Кто, Филька-то? – переспросил конюх недовольно, затянулся в последний раз и сунул окурок под галошу чесанка, растер его. – А спроси его поди. Дурит он, и боле ничего… Дурь свою выказывает.
– Нет, – сказал почти шепотом Гришук, не поднимая глаз, – как же он дурит, когда вправду жалко… – И, не услышав ничего в ответ, заторопился. – А Лютый хорошая ведь собака, он вон как у Анисина коров стерег. Это Анисин его бил, вот он и сбежал.
Конюх не отвечал, а потом сказал подсевшему Боборыкину:
– Черт-те знает, как мы живем с этими собаками, никак миру не получается. Шабры, видать, не те.
– Шабры фиговские, это надо прямо сказать, – с охотой поддержал шофер. – Зло на человека держат, а это хуже всего. Да и мы тоже… Взять хоть этого Анисьина Лютого – как его Анисин порол!.. Знамо дело, синяков или еще чего у пса не увидишь; заместо этого у них в тех местах, где побьют, шерсть этак топырится… как трава вянет, когда дернину подрежешь. И помню, всегда он в лохмах бегал, а в позапрошлом году Анисин на дойке его так перетянул кнутом при моих глазах… я думал, он его надвое охвостником развалит!.. Нет, отлежался где-то пес, травки покусал и вернулся-таки к хозяину, простил. Пошло у них опять все по-старому: Анисин дрыхнет, а Лютый коров сторожит день-деньской за двоих; а если что не так – Анисин за кнут. Кобель, известное дело, от этого злел, ну и дотерпелся до точки, и теперь вот ни себе, ни людям… Непутево с ним вышло.
– Так от Анисина уже вторая собака бегает, – веско и значительно подтвердил Котях. – Не вытерпливают. Скучная, должно быть, житуха.
– А вот Волна – та, наверное, лисьей какой-то породы, сроду такой стервы не видел. Через нее и все остальные наглеют дальше некуда; как гавкнет на кого, натравит – на того и кидаются, а она в стороне, сучка. Она нам всех ребят перепортит, если не изничтожим, так что, Василек, гляди: первой ее кончай, а потом уж кого хошь.
– Сам знаю, – буркнул Котях. – Да и хватит трепаться, давай по местам. А то уже надоело.
Ожидание затянулось, все это понимали и потому заторопились. Понырин не мешкая отобрал в свою группу человек десять загонщиков, мальчишек, и сразу повел их вдоль задов к Казаковой лощине. Ею он рассчитывал выйти в тыл скотомогильнику и оттуда гнать собак к улице, мимо копешки, где засядет Котях. Скоро они все скрылись в лощине, пажить оставалась пустой, и никто бы не мог сказать, что дело уже началось. Сразу видно, что на войне был, с уважительной завистью подумал о Понырине Гришук; небось никто бы до этого не додумался.
Боборыкин и Пантелеев собрали всех оставшихся, распределили по дворам, и вышло, что на каждый двор приходится по два, а то и три человека.
Гришук не отходил от конюха и попал с ним в один двор. Они разместились возле заднего плетня, на какой-то колоде. Дядя Пантелеев опять покуривал, поцыкивал слюной в желтый от коровьей мочи снег, изредка оценивающе и зорко глядел сквозь щели плетня на пажить и молчал. Гришук сидел рядом, сжимая в руках даденную Кузькой палку, и все думал, как, наверное, негоже убивать собак, если Филька еще с того раза помнит и ругается. Сам он много раз видел, как режут овец, колют свиней; и ничего, не страшно вовсе. Вообще-то немножко страшновато, что и говорить, но больше жалость берет; а тут он не знал даже, что и думать. Может, и вправду Филька дурил, потому что выпивши? Он такой, он все может, вон тетя Маня, жена, рассказывала, что не успевает его из всяких историй вытаскивать… Но все, чувствовал он, было сложнее; на собак он уже почти не злился – в самом деле, ну их к черту, этих шатох, – и уже начал втайне надеяться, что из такой затеи взрослых ничего не выйдет.

В соседних дворах после окриков старших говор мало-помалу стихал, переходил в несвязные шорохи, еще тишал, но истинной тишины, казалось Гришуку, не наступало; напротив, по мере того как умолкали бубнящие что-то голоса, возбужденные переклики, кое-где смех – по мере этого в начинавшейся, ожидающей, подчеркнутой редкой неосторожной возней тишине стало наконец проявляться, копиться в самом воздухе то неопределенное, томительно-возбужденное напряжение, исходящее от молчания двух десятков спрятавшихся людей – и еще совсем малоопытных, чей азарт будто бы пока не выходил за пределы условностей игры, и людей поживших, видавших виды, чья цель была теперь в том, чтобы сделать поскорее это не совсем приятное и хлопотливое, но нужное, по общему признанию, всем дело – сделать и пойти домой отдыхать. Все они, наверное, и думали по-разному, и делали разное; но недавно происшедшее с мальчуганом Перевязовых и облетевшая вслед за тем все село весть, что собаки, мол, обнаглели вконец и уже проходу никому не дают, – все говорило, что здесь надо обязательно сделать что-то, иначе потом поздно будет.
Гришук не знал ничего этого, он только сидел, ждал. Не тишина, а молчание затаилось по всему концу; и он, смутно чувствуя суть этого расплывшегося во всем возбуждения, угрозы, неуверенности и злорадства, наконец понял, что все это вместе называется засадой. Он и не знал даже, как можно представить себе картину предстоящего; но от всего уже виденного и слышанного сегодня ему стало неуютно и тоскливо, как у чужих в долгих гостях; потянуло домой, в его теплую тишину, к коту на ходиках, к ветеринарному запаху отцовского рабочего халата… Но дело уже началось, пошло своим чередом, выйти из которого казалось ему теперь невозможным, и он вместе с другими людьми сидел, ждал и все надеялся, что ничего не будет.
Они сидели минут пятнадцать, а может быть, и больше, никто не знал сколько; и тут конюх, заглянув очередной раз в щели плетня, вдруг замер, а в соседнем дворе средь общей тишины кто-то, не выдержав, крикнул: «Вона!.. Собаки – во-о-она!..» У Гришука екнуло внутри, он торопливо подобрался к плетню, прижался к влажным прутьям лицом, стараясь поймать в щели серый размытый горизонт и этих, уже появившихся, как крикнули, собак. Он нашел скотомогильник и сразу понял, что там происходит нечто, что будто бы сам воздух, сам оттепельный день пришел там в движенье. Он увидел что-то мелькнувшее раз-другой сбоку и сзади гребня и тут же догадался, что ребята уже дошли туда и выпугивают собак; и, словно в подтверждение, оттуда донеслось следом друг за другом два ружейных выстрела, приглушенных сырым воздухом, нечетких, но пугающих. Гришук, суетясь и сердясь на самого себя, выломал прут, щель стала совсем широкая.
Он отчетливо увидел, как из-за глиняного, в белых потеках отвала траншеи выскочили несколько собак и, не останавливаясь, высоко вскидывая лапы, запрыгали по глубокому, нетронутому в низине настом снегу в сторону задов, к ним; и тут же в той стороне над отвалом вспухнул белый дымок, донесся уже более ясный, будто там шар лопнул, звук выстрела, и вороны, поднявшиеся из траншеи при появлении людей, с тревожными криками, пикируя к земле и беспорядочно взмахивая крыльями, рассеялись над степью.
Собак было десять – двенадцать, они бежали растянутой стаей – как раз к копешке, где сидел Васька Котях, только чуть правее. Стаю вела Волна, двигалась медленно, словно нехотя, изредка приостанавливалась и поворачивала голову к скотомогильнику. Остальные трусили следом, всяк по-своему, еще не напуганные как следует – лишь бы отвязаться от преследовавших… Гришук облизнул пересохшие губы, подался еще ближе к плетню: сзади, неподалеку от Волны, чуть припадая на свою криво сросшуюся лапу, бежал Лютый, подобрав хвост и согнувшись, словно ожидая удара в спину. И другие собаки тоже поджимали хвосты и пригибали виновато и угрюмо головы; но то, что так делал сильный, умный и так всегда уверенный в себе Лютый, настораживало, придавало всему свою особую значимость и угрозу.
Слева от скотомогильника высыпала на пажить ребятня, и теперь оттуда стали слышны крики, свист и улюлюканье, слабое разноголосье. На верх гребня вылез, отставив от себя ружье, Понырин, повертел головой и торопливо припал к земле. Пыхнул дымок, докатившись до дворов звуком, картечь черканула снег возле черной с желтыми подпалинами собаки. Было странно, но он вроде бы попал. Собака, словно подстегнутая, рванулась было вперед и потом сразу отстала от товарок, запрыгала тяжелее, неровнее, с каким-то неестественным, больным даже на вид прискоком, забирая влево. Из-за сарая, справа от Гришука, грянул разрозненный торжествующий крик, и тут же Пантелеев, взбеленившись и ругаясь самыми последними словами, кинулся к той стенке, к крикунам.
Понырин там выстрелил опять – «б-пах!», потом еще раз, но все никак не мог попасть в отставшую; и наконец встал, отряхнулся и двинулся, тяжело переваливаясь в снегу, вслед за собаками.
Эти выстрелы и неожиданная немощь товарки совсем встревожили стаю, но скорости они по-прежнему не прибавляли, будто не зная, куда убегать. Угрюмо насторожился Лютый… Он тоже с натугой поворачивал свою лобастую голову назад, к Понырину, что плелся глубоким снегом и на вид был пока неопасен; и совсем не чуял, что приближается к погибели своей, к копешке, где сидит мнительный и молчаливый, редко промахивающийся Котях со своей малокалиберкой. Гришук застыл, глядя на Лютого и давно уже забыв обиды свои на стаю – лишь бы Васька промахнулся.
Село совсем притихло, затаилось, оградившись с задов плетнями, сараями, покосившимся горбылем заборов; немели разинутые рты ворот и дверей, ждали равнодушно, и в этом молчанье, в сером дне трусили по полю, проваливаясь в снег, собаки, будто под замахнувшейся неумолимой рукой пригнув головы – бежали ничьи, бесхозные и всем чужие, догоняемые серой мешковатой смертью, с виду неопасной, но такой неотвратимой в упорстве и равнодушии своем, что они, кажется, даже повизгивали в покорном страхе, в предчувствии худшего…
Сначала Гришук подумал, что это ему просто кажется; но затем явственно, несмотря на отдаленность, услышал он, как прерывисто, на бегу, скулит какой-то пес – на одной ноте, по-щенячьи беззащитно, чувствуя, как замыкается круг глухой неизведанной тишины и, кажется, смерти. Вдруг заскулила еще одна собака, потом другая затянула тонко и жалобно, приостановившись и подняв к небу морду – точно принюхиваясь в тоске к опасности, исходящей со всех сторон. Короткий нервный скулеж возник на пажити, потянулся в небо, скорбный; и такая обреченность, такая тоска слышались в этих глухих, будто из самой земли вышедших звуках, такая ребячья боязнь перед окружающей их неизвестностью, творимой судейской жестокостью людей сзади и тех – чуяли и слышали они, – что ждут их впереди, что Гришук задрожал, заволновался, заметался у плетня и вдруг встал и пошел, сам не понимая зачем, к воротам.
– Сядь! – настиг его голос конюха; и он остановился и почувствовал сразу, как отекли, устали его ноги, как он ослаб, будто прибитый этим голосом к месту. – Ты эт-та… ты мне брось это! Сиди и не ворохайся, понял мне?!
– Я тольки…
– Сядь, – прервал конюх, глядя уже зло и настороженно, и по его лицу видно было, что он все понимает и не советует выкидывать всякие штуки. – Тоже мне, нашелся… Ты посмотри, какой щенок – и слушать не хочет. Сядь!
Он отвернулся к плетню, стал следить, как понемногу приближаются собаки к копешке, входят в зону огня Котяха, а Гришук, красный от волнения и боязни перед старшим, от недовольства собой, неохотно пошел на свое старое место.
Пантелеев уже успел забыть о происшедшем. Он начал волноваться: отрывался от щели, поглядывал, будто по солнцу хотел определиться, на низкое небо и приговаривал осевшим от нетерпения голосом:
– Да что ж это он, а? Что не стреляет-то, мать честная, иль патроны забыл?! – И недоуменно поворачивал к Гришуку побледневшее, с резко проступившей оттого щетиной лицо, словно справлялся у него об этом. – Иль он взаправду забыл? Ну давай, ну?! Бей, дурак!
И почти тотчас плоско и хлестко хлопнул, перетянув все поле, винтовочный выстрел, и тут же Волна прыгнула в сторону, неловко и неверно, потом ткнулась носом в снег и, заваливаясь на бок, быстро-быстро перебирая лапами, поползла в сторону, оставляя за собой темную размазанную полосу. Котях, видно, быстро перезарядил, из-за копны опять, словно кнутом щелканули в воздухе, протяжно и стремительно полоснула мелкашка. Крайняя к копне собака встрепенулась, приостановившись, и медленно и неохотно осела, легла.
– Ага! – крикнули радостно в сарае. – Ага! Так их, Котях, м-мать иху!.. Бей!
– Да вы што! – принижая голос, страшно закричал конюх. – Вы что ж, гадье… слов не понимать! Молчи!..
Из стаи, вытянувшись в прыжке, вырвался Лютый. Котях (видно было, как он ворочался в копне) поторопился выстрелить, но пес, не сбавляя скорости, мчался прямо к сараям. За ним, взлаивая и повизгивая, кинулись было остальные, но сразу отстали, будто разуверившись в вожаке, и остались на пустой полукилометровой пажити.
Волна ковырялась в снегу, все пыталась поднять голову, и ее сиплое страшное скуление прорезывало разрозненное и испуганное тявканье растерявшихся собак, проникало насквозь, в самую душу. В муке, в недоуменье доживала она свои последние минуты – еще не понимая случившегося, но вся пронизанная ужасом перед своим неизвестно откуда взявшимся бессилием, как раз тогда, когда бы надо бежать, во что бы то ни стало бежать от настигающей сзади напасти. И она пытается поднять голову, посмотреть, а сильное тело не слушается ее и уже подрагивает, дергается в первых мускульных разрядах агонии и слабеет с каждым новым мгновением боли и муки…
Понырин после нескольких холостых вскидок решился наконец выстрелить; присел и, поведя стволом, вытолкнул тугой пучок огня и звука. Искусанная картечью, бешено завертелась на месте молодая собака, изгибаясь и цапая пастью воздух сзади, словно назойливых мух ловила; и потом будто успокоилась, прилегла, положив морду на лапы, уже не глядя никуда, ничего не желая и не боясь, высунув язык и часто дыша. И ее точно сковывали лень, снег, неодолимая внутренняя сонливость, она тоже подымала голову, беззащитно и тяжело, и голова падала на лапы…
Лютый большими прыжками приближался к задам. Он вышел на соседний, кулугура Харина, двор: и Пантелеев, не отрывая глаз, удобнее перехватил вилы, тряхнул ими, примеряясь, потихоньку кашлянул, изготовился, чтобы вовремя выскочить и отрезать ему дорогу назад. Лютый замедлил бег, оглядываясь на ходу и приволакивая задние лапы (пуля, похоже, все же попала ему в ляжку), и скользнул в открытые ворота. Конюх выскочил за плетень, кинулся туда.
Из ближних дворов выбегали и спешили к попавшему в ловушку Лютому ребятня, за ними мужики, и двигавшиеся за вожаком собаки отвернули в степь. Гришук остался один. Он не знал, что делать и куда ему идти теперь, бежать куда, и растерялся. Смотреть, как будут бить Лютого, он не хотел, но и домой сейчас уйти не мог…
Он неуверенно вышел через ворота на зады, и ему стала видна вся пажить – теперь уже взбудораженная, полная суеты, кликов, неестественно-торопливой деловитости… Еще несколько человек пробежало на поле, крикнул что-то на бегу Кузька, махнул призывно и возбужденно, и Гришук пошел в ту сторону.
Над пажитью тяжело провисали, давили окрестности сплошные, синюшные в предсумерках облака, сыро чернели постройки, с улицы от выброшенной золы несло оттепельной гарью. Совсем молодой кобелек, ближний к Гришуку и людям (он забежал сюда, раненный, а сейчас обессилел), полз куда глаза глядят и выл прерывисто, на одной ноте…
Поджав хвосты, уходили в сторону, к ближнему овражку, остальные собаки, а вслед им с видимой торопливостью пускал, привстав, пулю за пулей Котях, и так же торопливо вспухали клубки плотного дыма и нечеткое, как сквозь вату – «б-пах-бах-х!» – дуплета вместе с пугающим свистящим шорохом крупной дроби, но за отдаленностью все мимо. А вот Понырин дошел до Волны, переломил ружье, перезарядил и вдарил по собаке метров с двух-трех – так, что шерсть на ней вздыбило…
Гришук подошел к ставшей кругом толпе, пролез вперед. Кобелек лежал посередине, редко и тяжело подымая дыханьем свалявшуюся грязную шерсть на тощих боках, – молодой, не утративший еще щенячьей голенастости – и затравленно и непонимающе озирался, оголяя молодые клыки и поджимая уши. Полусогнувшись, разгоряченный Кузька сунул ему в морду палкой, и пес дернулся весь и зарычал, завозил передними лапами, пытаясь ухватить белыми в розовой слюне зубами палку…
– Сыночек у Волны!.. – присвистнул кто-то. – Ну, давай кончать.
Гришук, разом озлев и яростно толкаясь, выбрался из толпы, отер сухие глаза. В разных местах пажити добивали собак, качались и сновали фигуры людей, бегали, таскали что-то мальчишки, перекликались. К скотомогильнику осторожно, окольно слетались вороны. Гришук неизвестно почему пошел к грязному бугорку вдалеке, к тому, что всего полчаса назад было игривой хитро-жестокой Волной.
Люди быстро оставляли пажить; и один раз, оглянувшись и еще не дойдя до Волны, Гришук увидел, что поле уже почти пусто, если не считать трупов собак, и тоже повернул, пошел назад, ко дворам, чувствуя все сильнее за спиной большую умолкнувшую пажить, заторопился, залез по колена в какую-то заплывшую снегом лощинку и стал выбираться, оставляя позади себя зимние колонки следов. И оттого, что выбирался он медленно, а все ушли с пажити и даже мальчишки успели отойти далеко, и еще оттого, что невдалеке лежали мертвые собаки с вытянутыми закосневшими лапами и вдавленными в бурый снег головами, он тоскливо пугался, и все в нем немело от какого-то недетского одиночества, такого же пустого, как и тогда, когда эти собаки катали и рвали его на косовой дороге…
Он выбрался наконец на дорогу и направился было к проулку, поскорее домой. Но что-то ему мешало сделать так, потому что он видел, как у двора Харина собралась толпа и не расходилась. Там что-то неладно было, и он понял – Лютый еще жив, наверное. Он не то чтобы обрадовался этому, а просто ему показалось, что там может по-иному все быть, и пошел туда.
Харин только что пришел с работы. Он стоял обочь всех, засунув руки в карманы кургузых ватных штанов, и его красное, как у многих белобрысых, лицо и маленькие пронзительные глазки медленно и неотвратимо наливались неприязнью, и он уже не давал себе труда скрывать это.
– Слышь, да брось ты ломаться – што тебе, не один черт, как мы его оттуда выковырнем, – говорил Понырин, сообщнически обводя всех насмешливыми и дерзкими после недавнего азарта глазами. Он будто торговался. – Ну, пульну я разок, крыша, чай, не обвалится. В целости, говорю тебе…
– Не велю я тебе стрелять в катухе, не проси. – Харин отчужденно отвернулся, зябко повел плечами. – Вас только допусти – вы и в избу попрете, шленды непутевые. Ни страху божьего, ничего… делом бы лучше занялись.
От покровительственных, будто походя, поныринских спросов (ты, мол, хоть и хозяин тут, а ради общего дела подвинься) он все больше злился, прямо-таки волком глядел.
– Ладно-ть, Петрович, что уж… Дай нам этого, седьмого, добить, мы и уйдем, – примирительно, с малой долей заискивания сказал Боборыкин. Он удовлетворенно отдувался, торжествовал. – Зачин хорош был – дело за кончинами. Позволь, это самое…
– Седьмого? – Харин даже побледнел. Он и не предполагал того, что было на пажити. – Да вы что это… Н-ну! – сказал он, помолчав и не зная, что еще крикнуть или сделать. – Дак вы что ж это, душегубы, – тихо, совсем тихо сказал он, и растерянность никак не могла сойти с его отекшего враз, бесформенного сейчас лица, – бога забыли, да?
– Да будет тебе! – неожиданно крикнул Понырин, и губы его плаксиво дернулись. – Мы ж не кого-нибудь – детишек это… оберегаем! У самого трое, а туда же… Разум надо иметь!
Харин растерялся еще больше, даже глазами сморгнул и потом, словно за соломинку хватаясь, выговорил:
– Не велю стрелять… катух вам не пажа. – Он старался, чтобы это вышло у него по-хозяйски твердо, но голос сорвался, подвел; и он почти выкрикнул Понырину в лицо, уже изображая твердость: – Тольки стрельни у меня, подлюка, – испробуй!..
Топорщась от гнева, Харин повернулся, кольнул людей злыми, недоверчивыми глазами и зашагал, не вынимая рук из карманов, к дому. Подошел к невысокому заднему крыльцу, обернулся и высвободил руку, пригрозил пальцем.
– Только стрельни, кровопроливец! Грех этот вам… он не отмолится!
И, помедлив и обведя всех зажегшимся откровенной ненавистью взглядом, плюнул и скрылся в сенях.
– Ну вот, – сказал Понырин насмешливо, с еще не остывшей сварливостью, – вот и свяжись с такими хмырями. Они рехнулись, а ты их слушай. Не надо бы его ждать, и хозяйки не спрашивать. Не стреляли, а теперь вымани его, туды иху…
Конюх стоял тут же, все глядел вслед Харину, а при последних словах Понырина взял из послушных рук соседа вилы, давнул их на излом, проверяя прочность, и молча пошел к двери сарая, где в дальнем углу за деревянной перегородкой засел Лютый.
И теперь вся толпа стояла вокруг, с суеверием и любопытством поглядывая на темный дверной проем сарая, ждала чего-то, а может, и растягивала зрелище, находя удовольствие в приподнятой суете этой, в разговорах, предположениях и ожидании – тем более что пес теперь никуда от нее не денется…
Пантелеев, щуря глаза, заглянул в сарай, постоял, привыкая к темноте, невнятно выругался. Стоявшие во дворе сгрудились у входа, кое-кто тоже пытался заглянуть туда. Разговоры как-то сами собой стихали, наступала выжидающая тишина, и Гришука опять стала схватывать за сердце та давешняя тоска, ожидание боли – такое, что захолонуло все внутри; будто бы его били, мучили, а вот теперь, передохнув, вознамерились снова… Он заработал локтями, головой, проталкиваясь боком в плотной толпе к середине. Кто-то ругнул его, а один из взрослых приподнял его суконный малахай и, проговорив с жесткой веселостью: «Эт-то те в науку», дал щелбана – не больно, но обидно. Гришук уже не обращал внимания на такие мелочи, а все лез и лез, ему надо было обязательно пролезть.
Когда он очутился вблизи двери, Пантелеев как раз шагнул туда, приглядываясь в темноту и выставив вилы; и Гришук отчетливо услышал, даже почувствовал всем собой, как медленно, низко, с тихой угрозой зарычал Лютый в глухом своем углу. Конюх вызывающе тряхнул вилами, перехватываясь удобнее, на мгновение оглянулся назад, показав бледное, с резко зачерневшими странными глазами лицо, и в них, в лице и в глазах этих, еще жила какая-то последняя усмешка страдания и подневольности и неожиданная затравленная злоба на оставшихся снаружи, будто бы выбравших и пославших его убивать…
И Гришук все понял. Он вспомнил вдруг, как позапрошлым летом он и Кузька играли на поросшем яркой плотной муравой широком подворье. Играли с тремя вислоухими пузатыми щенками, что принесла Кузькина Косматка. Щенята (недели три от роду, с недавно прорезавшимися глазами) смешно, боком трусили по двору, путаясь неуклюжими толстыми лапами в траве и тыкаясь мягкими мордашками во что ни попало, тонко, по-детски тявкали от восторга и шевелили из стороны в сторону бархатистыми, еще вялыми хвостами, Кузька, когда сердился, легонько постегивал их прутиком; и тогда они обиженно и недоуменно повизгивали, неловко вертелись на месте, не боясь замахнувшейся руки, потому что не знали, что с ними делают и кто это делает. Злея от их бестолковости, Кузька стегал их больнее, иногда просто жестоко; а они лезли к нему и под него, спасаясь от чего-то быстрого и больного, чего даже не успевали рассмотреть, и ему приходилось, сидя на корточках, отодвигаться, а они все бежали, лезли под него… Потом одного щенка отец Кузьки оставил, а тех утопил (просто побросал их за ненадобностью с крути на середину реки, и они, возясь, неясно шевелясь в воде, всплыли раза два мокрыми шкурками наверх и пропали в веселом, сверкающем бликами перекате). Отец держал за шиворот взбесившегося Кузьку, растерянно говорил: «Да ты што… ты што, рехнулся никак, змееныш?! Ты ж мужик, елки зеленые, а?..», даже испугался; а Кузька рвался, дико, по-взрослому, ругался и искусал и раздерябал ему всю руку… Кузька через неделю ожил от побоев и бегал как ни в чем не бывало; Гришук, сразу кинувшийся тогда к перекату, ничего не нашел там. А вот теперь дядя Пантелеев идет, не хочет, но идет убивать Лютого – зачем, за что? – а Лютый рычит, уже не сдерживая рвущейся к двери угрозы, готовый оборвать этот клокочущий в горле хрип последним прыжком.
Гришуку кажется уже, что это хриплое, исходящее невыносимой злобой рычание чем-то схоже со взглядом конюха; в нем и прощальное, до предела натянутое отчаяние, и ненависть ко всему безысходная – такая, что от нее немеет все внутри у Гришука, отмирает, отваливается накипными пластами, и остается одна голая, стынущая от бесприютности и беды душа, и уже и она не терпит… И он, Гришук, на все согласен, и что бы он только не сделал, лишь бы освободиться, вылезти, как из ямы провальной, из этой ненависти…








