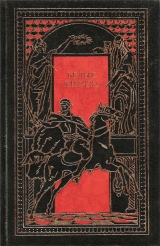
Текст книги "Белые витязи"
Автор книги: Петр Краснов
Соавторы: Василий Немирович-Данченко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Она отбивалась от его поцелуев, а он целовал её губы, щёки, шею, целовал розовое ухо и чёрный локон.
– Ну, оставь. Разве можно так? Сломаешь. Ты ведь сильный... А тут война. Я в сёстры милосердия... Всё, как посмотришь-то на чужие страдания, легче станет.
– Ты страдала?..
– Как же, ведь о тебе ни весточки, ни слова, ничего. Не знаю даже, жив ли ты. А я тебя полюбила.
– За что?
– Разве любят за что? За всё. Любовь разве спрашивает. За кудри твои русые, за глаза твои серые, за губы, милые, родные, за шею, за силу, за всё... – И она целовала его и, прижавшись к нему и обняв, вдруг откидывалась и ясным взором смотрела ему в глаза... – Мужчина!.. казак!.. муж! – и быстро падала на его высокую грудь и, как кошечка, ластилась и извивалась...
– А Платов что?
– В немилости. Поехал на Дон собирать полки.
– За что?
– Его оклеветали. Сказали, будто он был пьян в день Бородинского сражения.
– Боже мой!
– А как твой папа?
– Скучает, бедняга. Ему тяжело без меня. Он хороший. Он один ничему не поверил, что ему говорили, и тяжело ему было, а отпустил всё-таки. Понял, что мне легче так-то будет, у дела.
– Добрый старик!
– Слушай, ты долго останешься у меня?
– Как позволишь.
– А тебе как надо?
– Завтра к вечеру надо быть в Стромиловой деревне. Послезавтра – сражение.
– Сражение?! Береги себя, Петрусь, ненаглядный...
Нахмурился казак.
– Милый! Для меня... – И горячий поцелуй ожёг его губы. И эта нежно любимая женщина, предмет мечтаний в далёких поисках и на сырых бивуаках, целующая его поцелуями любви, и воздух тёплый, ароматный, и тишина уснувшего сада, и сладкий шёпот нежных уст – всё говорило о любви, всё жгло его сердце и возбуждало нервы. И забылись тяжёлые походы, ушли куда-то далеко неприятности и обиды, исчезли вечные тревоги и волнения, усталость и голод – и тепло, радостно было молодому хорунжему с этой любящей, взволнованной волнением любви девушкой. И бежали часы, лились рассказы о петербургских интригах, о сражениях, об орденах.
– А где Ахмет?
– Он остался на бивуаке, близ Стромилова.
– А это что за лошадь?
– Занетто.
– Откуда она у тебя?
– Достал.
– Купил?
– Нет. Не спрашивай, дорогая, этого нельзя знать женщинам.
– Но почему? Ну, скажи, я так хочу.
– Ну, право, оставь.
– Нет, скажи теперь непременно. Мне хочется знать. Я любопытна.
– Любопытство большой порок.
– Ну всё равно. Ну скажи, голубок мой радостный! – И она прижалась и ластилась к нему. – Не скажешь? Рассержусь. Ну что за тайна.
– Это лошадь французского офицера, лейтенанта Шамбрэ.
– А он где?
– Я убил его под Кореличами и взял его лошадь, – тихо сказал Коньков.
– Убил!
Она отшатнулась от него. Её милый, такой нежный и ласковый, – убил! Это ужасно! Страшно подумать.
– Вот видишь, дорогая. Как же мне быть. Ведь это обязанность моя. Убивать на войне надо.
– «Надо убивать»! Как ужасно звучат эти слова. Он был стар или молод?
– Молод. Красив.
– Быть может, и у него невеста есть?
– Он женат...
– Бедная... Зачем ты это сделал?
Поникнул головой Коньков. Слёзы выступили на глазах у девушки.
– Боже, как война ужасна! Но хорошо, что ты жив, мой радостный, ненаглядный! – и она кинулась ему в объятия, всем телом прижалась к нему и покрывала его всего своими поцелуями; слёзы ещё текли по её лицу, а губы уже улыбались, и счастье светилось в глазах.
И тёмный лес задумчиво шумел сухой листвой над их головами, и чутко насторожил уши золотистый Занетто, и крепче захрапел уставший вестовой казак, сильнее полился аромат цветов, и слаще стали лучи томного месяца...
Уже светало. Предметы стали ясно видны, когда Коньков простился с Ольгой Фёдоровной. И долго стояла она, взволнованная горячими поцелуями, но чистая и святая, и смотрела, как медленно улегалась пыль за двумя всадниками. И дорог, до безумия дорог был один из них ей – тот, что прекрасно сидел на золотистом коне...
Возвращаясь, она встретила похороны Какурина, Она перекрестилась и ничего не почувствовала: ни жалости, ни сожаления – всё-всё победила и залила собою любовь.
XVII
Толкуй казак с бабой.
Казачья пословица
– Матрёна Даниловна, неужто правда то, что вы говорите? – спросила полная и высокая, с плоским широким лицом, немолодая казачка, закутанная в пёструю шаль, жена есаула Зюзина.
Матрёна Даниловна Кумова, хорунжиха, невысокая, сморщенная старушонка, бойкая и крикливая, поспешно ответила:
– Что же, я брехать, что ли, буду? За такую брехню никто не похвалит... Да пусть мне на том свете не естся и не спится, коли не правда... Да ты слушай, дальше-то что... Молодой Каргин, слышь, женится на ней на будущей неделе... Ловко!
– Этого, мать моя, давно ожидать надо-то было. Ведь Каргина-то из сипаевского дома палками выгнать нельзя было!
– Ладно! Много ты понимаешь! Да кабы не то, отдали бы разве Марусеньку за Каргина-то? Да ещё без отцовского благословения.
– Чем Каргин не партия. По нынешним-то походным временам неслужилый муж куда веселее. Его и не убьют, да и думать о нём не надо.
– То-то и оно-то! – торжественно провозгласила хорунжиха. – Одного муженька убили, так мы за другого примемся.
– Ну да что ты неладное, мать моя, говоришь.
– Разве не слыхала, что сипаевским лошадям давно пора хвосты резать[51]51
На Дону обрезать лошадям хвосты – то же самое, что в России вымазать дёгтем ворота.
[Закрыть].
– Да разве Маруся?
Хорунжиха заговорила таинственным шёпотом:
– Рогова помнишь?
– Ну?
– Хаживал к ним, женихом считался, совсем дело слаженное, решённое. Да и как не отдать девку за такого хвата! Об весне-то, в мае, что ли, месяце, он и соблазни девку. Девка, известно, глупая, ну и опять романы почитывала, да по-иностранному говорила – всё к одному. Рогов уехал, да, слышно, в июле и убит, и старик Сипаев отписал так, что женишок, мол, готов... Ну, а Маруся полнеть начала, да там разные приметы. Тётушка-то Анна Сергеевна аж сомлела, как узнала...
– Вот-то грех, – сказала есаулына и любопытными глазёнками уставилась на рассказчицу.
– То-то что грех. Однако Анна Сергеевна, сама знаешь – бой-баба. Ну, ласкать Николеньку-то Каргина. А он «болезненькой» казак, да теперь, как отец-то уехал, он и размяк совсем. Его долго ли обмануть. Тут сватов позаслали, сейчас сговор да рукобитье, и свадьбу вот чрез неделю готовят.
– Ах, мать моя! Сраму-то сколько. Ведь до дела-то как дойдёт, что будет! Неужели гостей сзывать будут да песни старые петь!
– Будут, мать моя! Будут. Свахой-то Анна Сергеевна, она же ей и тётка, да и всему делу зачинщица! Она втолкует, а Каргин разве поймёт что? Он ведь ровно тёлок несмышлёный. Его всякая проведёт.
– В народе-то говорить, поди, будут. Узнаёт. А и узнаёт – смолчит. Да ещё как бы его на войну не упёрли, слыхать, дела наши плохи, все бьют да бьют казаков. В каждом доме, глянь, упокойник аль больной, до свадьбы ли будет.
– Ловкая эта Анна Сергеевна! – с восхищением промолвила есаулыпа. – Её на это взять – хват, а не баба.
– Она оборудует. Ну, Матрешенька, бывайте здоровеньки, и то заболталась я, а мне надо арбузы присмотреть, которые поспелее отобрать пора.
– Ну, Маруся! Драла, драла нос-то! Тону-то задавала – на-поди!
– Может, ещё люди и брешут.
– А может и неправда, – согласилась хорунжиха, – греха на душу не возьму.
– Ну, бывайте здоровеньки.
– Бывайте здоровеньки, – и хорунжиха, сопровождаемая хозяйкой, вышла с крыльца на пыльную и жаркую улицу.
Маруся действительно выходила замуж за Каргина, и причиной скорой свадьбы был её «грех». Как оно случилось – Маруся и сама понять не могла.
Соловьи ли слаще прежнего пели в вишнёвом саду, воздух ли был ароматный, яблоней ли сильно пахло, Рогов ли лучше казался, слаще ли были его речи, тяжёлая разлука перед войной, но только Маруся сдалась на красивые речи, сдалась на льстивые увещания, да и не много она понимала... Она поняла только три месяца спустя, когда пришло с командой раненых лейб-казаков известие, что Рогов убит наповал, и тогда-то с ней самой произошла перемена.
Весёлая Маруся загрустила, затосковала и в один из душных летних вечеров пошепталась с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна в ужас пришла, но не сробела. Она разбранила девушку, даже побила её сгоряча, Маруся всё перенесла, теперь она поняла, что начинается что-то ужасное, позорное, за что лошадям хвосты режут. И отчаяние напало на неё, но не надолго. Не такова была Маруся, чтобы долго печалиться! Странное дело, то, что она будет матерью, наполняло её сердце радостью и гордостью. Притом же Анна Сергеевна нашла и исход неловкому положению. Что Каргин – казак несмышлёный, это знала и Маруся, обмануть его легко... Но... но ей тяжело было воспользоваться наивностью своего друга, своего Николеньки, и пустить на его дом худую славу.
Одно время она даже совсем отказалась.
– Пусть будет так... – сказала она тётке, усиленно помешивая сироп в медном тазике.
– То есть как это так? – ядовито спросила Анна Сергеевна.
– Ничего пусть не будет, – молвила Маруся и усмехнулась простой и доброй усмешкой.
– Ничего не будет! Ишь ты! Вширь не по дням, а по часам растёшь. Здорового казака сделаешь, а не ничего.
– Я не про то, тётя! – сконфузилась Маруся. – Пора вишни класть?
– Нет, погоди.
– Да уже тянется, тётя.
– Тянется, да не так, ты помешивай, не ленись.
– Я хочу казака. Пусть такой здоровый бутуз будет, толстый, мягкий... Я его сама бы и кормила, – и Маруся оглянула свою высоко поднявшуюся грудь.
– Как же без отца-то будет?
– Так ведь отца убили.
– Нельзя так, Маруся. Вот теперь сыпь ягоды-то – время.
– Но, тётя, мне жаль Николая Петровича.
– Чего его жалеть-то. Если бы силком его гнали, а то сам просит и торопит-то сам. Да и не поймёт он ничего.
– Как не понять, тётушка. Это всякий понимает.
– Ну, поймёт, за косы оттаскает, больше того не будет. А всё грех прикрыт.
Замолчали обе. Жаркое августовское солнце обливало их чистые белые платья. Маруся со спутанными, упрямыми волосами на голове, с добрыми серыми глазами, была всё так же прекрасна. Даже эта роковая задумчивость шла к ней... Она вся ушла в медный тазик, поставленный на маленькой печурке в центре ягодного сада, и глядела, как медовый сироп краснел от ягод и ягоды разбухали и становились больше и больше.
– Разве грех любить, тётя? – тихо спросила Маруся.
– Любить можно только мужа! – наставительно и едко ответила старуха.
– Тётя, ведь мы были женихом и невестой.
– А не мужем и женой. Ты, мать моя, не оправдывайся, кабы отец-то был тут да узнал, в живых тебе бы не остаться! Спасибо, отец Павел, принимая во внимание тяжёлые нынешние обстоятельства, согласен венчать без родительского благословения, а то было бы сраму на весь город.
– Тётя, я всё-таки не понимаю...
– Молчи, дура. Зря не болтай пустяков. Книжек начитаешься – и пойдёшь болтать вздор. Теперь доболталась, так хоть молчи, по крайней мере...
– Тётя! – раздался молодой, весёлый голос. – Можно войти? Анна Сергеевна...
– Иди, иди, дружок.
Каргин вошёл.
– Что рано тёткой звать-ло стал. Женись прежде, а там и зови, – ласково сказала Анна Сергеевна, целуя его в висок, в то время как он целовал ей руку.
– Женюсь, тётушка, я на днях... Вот бы только Успеньев пост прошёл, а там и женюсь. Варенье варите, Марья Алексеевна? – любуясь на раскрасневшееся личико невесты, молвил Каргин.
– Да вот за вишни принялись, а потом за сливы, там жерделы подоспеют, яблоню особенную, французскую, отец в прошлом году посадил, тоже сварим горшочка два.
– Что же, в наше хозяйство или отцу?
– В наше, – потупившись, отвечала Маруся, и, вдруг вспомнив про своё несчастье, про то, как обманывает она этого бедного человека, так сильно любящего её, Маруся раскраснелась и вихрем убежала из садика.
– Зачем девку смущаешь, – строго сказала Анна Сергеевна. Ну, садись здесь – она, верно, сейчас вернётся.
Каргин сел на маленькую скамеечку и глубоко задумался. Он глядел на тёмно-синее небо, на верхи деревьев, усеянных плодами и ярко озарённых солнцем, на переплёт ветвей, в которых с писком возились красивые щеглята, и думал он свою думу.
До него дошли слухи про роговскую историю, и он слыхал, что Маруся «не того». Г лаза его тоже не могли не видеть этого, и мучило это его... Но придёт он в сипаевский дом, глянет на него, широко раскрыв серые глазёнки, Маруся и зажжёт всё в нём, сладостным волнением зажжёт, и забудет он черкасские сплетни.
Маруся вернулась серьёзная, задумчивая, с опухшими от слёз глазами и молча уставилась в закипавшее варенье. Она внимательно подымала ложку вверх, смотрела, как тянулся сок, любовалась, как он искрился на солнце, прозрачный и красивый, и вся ушла в хозяйственные заботы. За ними горе у неё скоро забылось.
– Ну что, Николенька, из армии пишут?
– Из армии? Плохо, тётя. Мы отступаем дальше и дальше. Казаки знатно дрались двадцать шестого июня под Миром. Пишут, много пленных побрали. Награды большие вышли. Петя Коньков орден Святой Анны третьего класса получает.
– Ну, слава Богу. Может, за войной-то и забудет свою балетчицу, а то... – и вдруг осеклась. А чем её Маруся лучше балетчицы? У балетчицы-то хоть дети не родятся... А тут... ну, наделали позора. Впрочем, что тут такого? Редкая девка не согрешит, и уже лучше до брака, чем потом-то, как все с чужими мужьями живут. Ах, жизнь, жизнь... Да и как не путаться молодайкам, тоже и в их положение войти надо. Мужей-то за походами много ли видят они?!
– Мне станичник раненый сказывал, дюже храбрый казак Коньков!
– Петя-то! Ещё бы! Он и в те войны страху не знал. На него нет ни смерти, ни ран, сильно решительный казак.
– Сказывал, коня славного добыл у француза, своеручно, говорил, офицера ихнего зарубил.
– А вы бы зарубили офицера, Николай Петрович? – спросила просто Маруся.
Анна Сергеевна радостно посмотрела на неё.
«Отошло, значит, если задевает».
– Не знаю, Марья Алексеевна. Зарубить-то оно, конечно, можно – только грех это.
– Грех?! – протянула Маруся. – Что это вы? Да неприятеля никогда греха нет убить. Он веру христианскую поганит, он церкви в конюшни обращает – он, одно слово, враг. Нет, по мне, это славно и красиво для казака, когда он много убьёт неприятелей.
– Ведь и у них, у неприятелей-то этих, могут быть жёны, дети, невесты.
Вспыхнула Маруся.
– А не дерись. «На зачинающего Бог», а они зачали. Правда, тётя, – продолжала Маруся, – какой молодчик Коньков?
– Петя-то, племяш мой? Да я в него, как девка, влюблена. Красивый-то да ловкий какой, джигитует-то как важно. Перехват-то какой тоненький, у другой девки такого не будет.
– Мне, тётя, – вдруг сильно покраснев, сказал Каргин, – слова два надо поговорить по делу наедине.
Забило тревогу сердце Маруси. Вспыхнула она вся. Смутилась и Анна Сергеевна. На что уж смелая была.
– Пойдём, дружок, в горницы.
Однако тревога была напрасная. Каргин и не намекнул даже про роговскую историю. Он договаривался о дне, и назначили десятое сентября. Потом пошли разговоры о деле. Анна Сергеевна не утерпела, чтобы не похвастать Марусиным приданым, и пошли перечисления лошадей, коров, быков, волов, овец мериносовых и овец простых, овец шлёнских, овец русских, десятин пахотной земли, десятин под лесом, под пшеницей, луговой и прочее, и прочее. Каргин слушал со скучающим видом, а сердце его рвалось скорее к полной и пышной Марусе. Наконец, он урвался, простился с Анной Сергеевной и пошёл было в сад, да вдруг повернул назад и, выйдя из дома, тихо побрёл к себе.
Он проходил через оружейную, вспомнил, как на Рождестве лежал он в ней больной после выпивки, смутился чего-то и пошёл в свой дом.
После назначения Каргина командиром полка всё перевернулось в их доме. И «письменюга»-то не в большом порядке держал его, а с отъездом его при молодом барине Николае Петровиче всё расползлось по швам. Каргин был неряхой дома. Мать его, Аграфена Петровна, взятая отцом из простых казачек, лежала вечно больная в своей горнице на лежанке, на печи. Она читала с грехом пополам Псалтирь и Четьи-Минеи, молилась и плакала, принимала странниц, убогих людей и новочеркасских сплетниц. Сына своего она любила до болезненности, мужа боялась, и, хотя Каргин никогда её даже и не побранил, она всё боялась, что он её побьёт когда-нибудь.
Николай Петрович прямо прошёл к матери. Окна были занавешены, и в небольшой комнате, почти сплошь заставленной киотом с образами и с теплящейся перед ним лампадкой, в комнате, в которой пахло жильём, деревянным маслом, ладаном и ещё каким-то особенным крепким запахом, который только и бывал что в старину, свернувшись в комок, лежала старуха. Лицо её было расстроено, она недавно плакала.
– Здравствуй, Николенька, здравствуй, сынок мой родной.
Николай Петрович поцеловал свою мать.
– Что, мачка, чистят мне половину, что в сад выходит?
– Ох, Николенька, погляди сам. Мне где же досмотреть.
– Смотрите, мачка.
– Николенька, – повернулась к нему старуха, – родненькой мой... Нехорошее такое я про неё слыхала.
Каргин нахмурился.
– Мало ли вздору в народе брешут.
– Болезный ты мой, на правду похоже. Ведь была она невестою то красного, что к нам приходил.
– Ну? – сердито хмурясь, крикнул Каргин.
– Так видали, ох, сынок мой болезный! Видали, как через тын перелезал он к ней и целовал её...
– Я вам, мачка, довольно говорил, чтобы вы мне сплетён не передавали, что ваши ведьмы разносят Я сказал, так и будет!
И в этом решительном, суровом «я сказал, так и будет» сказался не молодой, застенчивый, болезненький Каргин, а сказался старик, «письменюга» Каргин, что в болезнь упрямством своим загнал жену, что так и не допустил сына своего поступить в полк.
– А сплетням-бабам вашим передайте, что если я хоть одну здесь увижу – плетьми разогнать прикажу!
– Ох, Николенька! Ох-ох-хо! Горестный ты мой! Чует моё материнское сердце, что будут у наших лошадей хвосты резаные, а конь твой будет лысый [52]52
Лысая лошадь – признак рогатости женатого казака.
[Закрыть], – причитала старуха.
Минувшая вспышка гнева у Николая Петровича сейчас же прошла, и он ухаживал и утешал свою мать, приносил ей арбузного сока и семечек и до ночи возился со старухой.
XVIII
Ты отворяй, матушка, ворота,
А вот тебе невестка молода...
Казачья свадебная песня
Тихо, торжественно тихо на Старочеркасском кладбище. Грустно поникли плакучие берёзы и ивы, ласково кудрятся дубки, краснеет своими ягодами калина и рябина. В беспорядке разбросались по нему деревянные кресты, каменные плиты с витиеватыми эпитафиями, могильные холмики, обложенные дёрном, и просто бугры и возвышения. И много казаков, ещё более казачек лежат глубоко под родной землёй, и ничто не нарушит их покоя.
Защебечет робко птица, пропоёт короткую песню и смолкнет, испуганная могильной тишиной, и опять покой, опять тишина. Налетит стая чёрно-сизых галок, покричат, погуляют и пошли далее к городу – и тихо среди казацких могил.
Солнце садилось красное и яркими огненными лучами озаряло ограду и клало блики на кресты и стёкла кладбищенского храма.
Природа засыпала. Слышался где-то далёкий стук арбы, и обрывок недоконченной песни широким размахом пронёсся по воздуху и вдруг стих, забравшись высоко-высоко. Ласточки реют над землёй и с слабым писком гоняются одна за другой; пахнет в воздухе смолой, и вдруг сразу пронесёт этот запах, и сильнее станет мощный аромат степи, цветов и трав.
По пыльной, выжженной солнцем, с заросшими травой колеями, дороге быстро идут две женщины. Одна – молодая, полногрудая, красивая, с добрым и пугливым выражением во взоре, другая – старая, в чёрном кубелеке, седая и сморщенная. Это шла, соблюдая заветы предков и исполняя старо донские обычаи, Маруся со своей няней помолиться о завтрашнем свадебном дне на могилах у предков. Вот подошли к ограде, и таинственная тишина охватила их. Маруся побледнела и шёпотом сказала няне:
– Страшно!
– Ещё бы, мать моя, не страшно. День особенный, таинство великое. Бывали, мать моя, случаи, что родители вставали из гробов и благословляли или проклинали своих детей...
– А упыри, няня?
– Нет, упырей здесь нет. Здесь упыря не похоронят.
– Но ведь бывали случаи?
– Бывали, конечно, бывали. Но только упырь нас не тронет. Упырь любит пить невинную кровь.
Кольнули эти слова Марусю, но промолчала она и быстрее зашагала по хорошо знакомым тропинкам. Дойдя до могилы своей матери, она опустилась на землю и припала лбом к холодному камню. Холод камня освежил её – ей стало легче, и она начала молиться. Вся молитва, где она призывала усопших предков, клялась им сохранить в чистоте данный ею обет, просила от них благословения, предстательства их у престола Отца Небесного, чтобы благословил Он новое поприще её жизни, казалась ей грубой насмешкой над её положением, но тем не менее и она её утешила. В конце молитвы ей стало легче, а когда там, далеко внутри, она почувствовала биение и трепетание новой, зарождающейся жизни, она радостно улыбнулась и, спокойная и счастливая, безбоязненно прошла назад через кладбище и вернулась домой.
И странное дело, при всём сознании своём, что она мать, она ни разу не вспомнила Рогова.
То, что случилось ранней весной в вишнёвом саду, казалось душным, ничего не значащим кошмаром. Она была женщина, и исполнение величайшего завета женщины её радовало и беспокоило, и мало заботило её, как это вышло, но сильно беспокоило её, как это выйдет. Ей казалось, что будущий ребёнок принадлежит только ей, и она начинала радостно прислушиваться к тому, что таинственно совершалось внутри неё.
Маруся не спала эту ночь. Её волновало ожидание того, что будет. Она знала, что свадьба пойдёт по старине, со всеми обрядами, и догадывалась, что разумела Анна Сергеевна, когда говорила, что будут изменения, потому что их дом передовой и приличия соблюдать умеет.
Гостей не должно быть много. Почти все мужчины ушли на войну, во многих домах были раненые или плакали по покойнику, с трудом можно было собрать необходимый поезд.
Не спал в эту ночь и Каргин. Надежда боролась в нём с сомнением и отчаянием. Он слишком много слышал, немногое даже и видел, но... но не верилось ему. Ему казалось, что если бы это было так, то простая, честная, наивная Маруся должна была бы сознаться ему в своём грехе, а раз этого не было – значит и греха не было. По крайней мере, он, Каргин, сказал бы ей всё, что было. И то, что невеста его молчала до последнего дня, возбуждало его надежду, с каждым часом переходящую в уверенность.
А если... И тогда ничего. Каргин настолько любил Марусю, что стоял выше этого, и ему это было всё равно, но, подобно отцу своему, он не мог вынести лжи и притворства.
С нетерпением ожидал он того часа, когда разрешатся его сомнения и Маруся чистой и непорочной выйдет из этого испытания.
И не один он волновался. Волновалась сваха, полковница Луковкина, есаулына Зюзина, хорунжиха Сокова, весь Черкасск ожидал, чем окончится «нахальство» Маруси и удастся ли ей провести своего недалёкого жениха. И если бы не тяжёлое время, если бы не как гроза надвигающиеся слухи с верховых станиц о том, что Платов едет на Дон комплектовать новые и новые полки, что русские разбиты под Бородином и Москва взята французом, если бы незакипавшая жажда помериться силами с смелым врагом и не возня по домам, – давно порезали бы хвосты сипаевским коням и подарили бы Каргину лысого жеребца. Но шум брани усмирял страсти, сплетни не производили должного впечатления в домах, где собирали меньших сыновей, пятнадцатилетних казачат, где плакали неутешные матери и проливали слёзы вдовы.
На это-то волнение перед войной да на славу сипаевского дома, как дома, на заграничный манер поставленного, и надеялась Анна Сергеевна, когда созывала со всеми церемониями пол-Черкасска откушать свадебного хлеба-соли. Старик Сипаев письменно благословил молодых, а расторопная тётушка Анна Сергеевна решила разыграть роль матери молодой и свахи в одно время. Первую роль она брала на себя, как старшая из родственниц Маруси, а вторую ей надо было взять, чтобы правильно наладить свадебный обряд и не дать пищи злым языкам.
Аграфена Петровна, мать Каргина, несмотря на болезнь, рано поднялась в этот день и отправилась благословить своего сына. Сын, уже одетый, сидел у окна и смотрел на пыльную черкасскую улицу. Долго говорила ему мать. Молодой внимательно и почтительно слушал старуху. По окончании её речей он нежно поцеловал её и сказал:
– Я уверен, мамочка, что всё так и будет! Если бы было иначе, Маруся сказала бы – она честная!.. Я уверен, и я счастлив!
– В добрый час!
К полудню начали съезжаться гости жениха. Приехал дружко, приехали ещё другие молодые люди, и горница Каргина наполнилась толками про войну. Большинство казаков пошило себе обмундирование, и красные, жёлтые и синие лампасы пестрели в толпе. Действия Кутузова беспощадно критиковались. «Мы-де да мы», – слышалось ежеминутно, и совет молодёжи решил наступать на Наполеона во что бы то ни стало. Хвастались оружием, и «волчки», настоящие генуэзские клинки, персидские и турецкие сабли со звоном вынимались из ножен. Пробовали рубить медную монету, разрубили стул в комнате Каргина, пошвыряли его книги на пол, говоря, что по нынешним временам всё это вздор, недостойный казака, об Марусе почти не говорили, намёков не было никаких, и Николай Петрович совершенно успокоился за свою Маню. Он оживился, рассказывал, что он прочёл про войну, что ему писал отец, и восхвалял Платова.
– Да, наш Матвей Иванович – это, можно сказать, голова, он один умнее всех.
– Но Багратион, – заметил кто-то в стороне, но его зашикали:
– Что Багратион! Если бы он был умён, давно бы побил француза. Бабы и отцы наши били, чего же он церемонится.
– Слыхали, атаманы-молодцы, Каргальницкая станица целиком пошла: и старые, малолетки двенадцати лет и те тронулись – мы, говорят, хоть прислуживать будем, пока вы будете драться.
– Это дело. Да ведь и Грушевская и Каменская также все идут.
– Так что же, атаманы-молодцы, неужто мы, старочеркасские станицы, не тряхнём славу Тихого Дона и не тронемся все напрямки под Москву поработать во славу донского оружия?
– Двинут-то двинут, только не все: молодожён останется.
Вспыхнул Каргин, но промолчал. Теперь, когда Маруся доставалась ему, ему не хотелось подвигов бранных, из которых редкие возвращаются, не хотелось также покидать молодую жену.
Дружко, товарищ Каргина по окружному училищу, урядник новоформировавшегося Лащилинского полка, подошёл к жениху и сказал:
– Ну, пора.
– Пора, идём к мачке, – сказал Каргин и побледнел.
Теперь, когда всё так отлично налаживалось, он боялся одного – чтобы мачка по простоте душевной не выдала и не наговорила чего-нибудь зря на Марусю.
Но всё прошло благополучно. Старик Зеленков, дед Николая Петровича по матери, заменявший «письменюгу», и толстая Аграфена Петровна благословили драгоценными образами в богатых окладах молодого, потом благословил его и крёстный отец, старик Денисов, одноногий полковник, весь усеянный орденами, священник прочёл молитвы, и жених в сопровождении товарищей верхом поехал в дом невесты. У крыльца собралась толпа любопытных, преимущественно казачек. Там шли толки, говорили «за» и «против»; казачат, что сбежались сюда, в пёстрых рубахах и старых папахах, занимали больше убранные коврами бланкарды и возочки, приготовленные для свадебного поезда.
Поезжане соскочили с сёдел, хлопцы-вестовые и дядьки разобрали лошадей, и все направились в богатую сипаевскую гостиную. Помолившись на образа, Каргин, ведомый дружком, прошёл к переднему углу. Там, вся закутанная кисеёй, в пышном, по-петербургскому сшитом платье, усеянном флёрдоранжами, сидела невеста. Рядом с ней сидел Лотошников, мальчик семи лет, в красной рубахе, опоясанной серебряным кушаком.
Лотошников держал в руке плеть, «державу», и со смехом отгонял дружка.
Молодой лащилинский урядник со снисходительной усмешкой, показывавшей, что «оно, конечно, обряд соблюсти надоть, только всё это пустяк один и дикость нравов», засунул руку в карман широких шароваров и стал доставать оттуда пряники и орехи.
Лотошников внимательно смотрел любопытными глазёнками на лакомства, ударил плетью по шароварам дружка и, детски картавя, говорил:
– Не хочу! Убирайся прочь, не отдам сестрицу.
– Ну а я вот что дам! – доставал урядник мятного конька.
– Не надо! Сестрица лучше.
Стоявшие кругом и притворно плакавшие женщины в богатых парчовых и шёлковых нарядах с любопытством присматривались к мальчику, многие улыбались, а мать Лотошникова восхищёнными глазами смотрела на своего Лёшеньку.
– Ну а вот хочешь казака? – достал дружко деревянную куклу.
Игрушка прельстила мальчика, он протянул было руку, но быстро отдёрнул:
– Не-е, не хочу! Сестрица живого казака сделает, а это ненастоящий.
Кое-кто фыркнул. Бледная молодая вспыхнула, и слёзы выступили на её красивых глазах. Но она скоро оправилась. Она готова была всё перенесть, она знала, что сегодняшний день будет для неё днём самой ужасной пытки, и она решилась перенесть все испытания ради того нового чувства, материнской любви, которое, вспыхнув в ней, разгоралось всё сильнее и сильнее и погашало и стыд перед людьми, и жалость к безвинному жениху.
Дружко, чтобы замять эту неприятную минуту для невесты, которая ему очень нравилась, быстро сунул куклу в руки Лотошникова, отнял у него плеть, передал её жениху и усадил его рядом с невестой.
Женский хор разом грянул свадебную песню:
Татарин, братец, татарин,
Продал сестрицу за талер...
И снова начались рыдания сильнее прежнего. Невесту, бледную, взволнованную, взяли под руки и усадили в бричку рядом с женихом, напротив сел священник с крестом и дружко. В предшествующий экипаж сели сват и сваха с благословенными иконами, родители остались дома, девушки разошлись по домам, а свадьба, предводимая вожатым, понеслась по пыльным черкасским улицам.
Встречные казаки и мужики снимали шапки перед сытыми, разубранными лентами, цветами и бубенцами конями и с удивлением смотрели вслед.
Свадьба в такое тяжёлое для Руси время казалась чем-то неуместным. Иные спрашивали: почему играют свадьбу теперь, и, получив ответ, говорили: «Да надо, так надо» – и задумывались.
Всю службу Маруся стояла потупившись, она почти не молилась, да и не до молитвы ей было. С трудом, вся раскрасневшись, целовалась она с женихом, с трудом ходила вокруг аналоя, сопровождаемая статными молодыми хорунжими. Когда же, по совершении таинства, Анна Сергеевна сняла с невесты шапку и на паперти при всём народе расчесала ей голову по-женски, убрала в две косы и, обернув около головы, надела повойник, Маруся расплакалась. Женщины сочувственно отнеслись к её слезам, и это ещё более успокоило Каргина. Он знал, что у женщины первый враг – женщина, и боялся их ядовитых насмешек.








