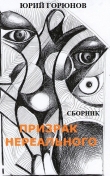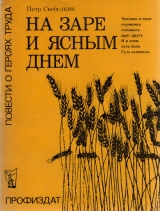
Текст книги "На заре и ясным днем"
Автор книги: Петр Скобелкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Да у нас чуть ли не в каждом мужике изобретатель сидит, – продолжает между тем Анатолий. – Вон сосед мой Дмитрий Иванович Шалагин мотонарты снарядил. Это, значит, если вдруг зимой ему потребность появилась в лес или степь съездить по делу, он и «запрягает» свою «мотокобылку»: сзади гусеницы, впереди две лыжи. И попер по любым суметам!
А я вспоминаю еще в тот раз встречу с инженером-электриком Сергеем Григорьевичем Подкорытовым.
И неважно, что все это изобретено было кем-то раньше их. Суть в том, что такие, как он, как Шалагин, Стремяков, увлеченные общим техническим прогрессом, сами подручными средствами двигают техническую революцию на селе.
* * *
Дом Стремяковых стоит почти на окраине Крутых Горок. Недалеко Миасс катит свои мутные весенние воды. А между селом и речкой уже зеленеет луг. Когда мы вышли после завтрака из дому, над лугом и над степью стояло яркое солнце и отчаянно заливались жаворонки. Было тепло и сухо. Как летом. За машинами, что беспрестанно проносились по центральной асфальтированной улице (а ведь три года назад асфальта здесь не было), поднимались серые шлейфики пыли. В апреле, пусть даже в конце, такое здесь увидишь нечасто. А вот на тебе – пыль, теплынь, жаворонки. Лето.
Расстегнув пиджаки, бодро шагаем в совхозную контору. Перед поворотом к пекарне нас обгоняет парень в сером пиджаке и в черных резиновых сапогах. Что-то знакомое показалось мне в его походке и фигуре. «Никак Володя? Асямолов?» – спрашиваю у Анатолия. «Он и есть, наш главный агроном».
– Володя! – кричу, радуясь встрече со старым знакомым. Асямолов останавливается, узнает и, улыбаясь, здоровается.
– Все те же знаменитые сапоги – вездеходы? Ты их хоть снимаешь когда?
– Какой-те там!.. – машет рукой. – За лето по две пары исхлопываю. Не по паркету.
Идем в контору вместе, уже не торопясь. Задаю самый дежурный, обыденный вопрос: «Как дела?» Смысл в интонацию вкладываю самый житейский – мол, как живется-можется, как жена, дети, по хозяйству что имеешь. А он (конечно, понимает мой вопрос, но не может и не сможет уже выскочить из деловой, видимо ставшей для него личной, колеи) отвечает со вздохом:
– Четвертый год погода испытывает на прочность.
Это я уже давно заметил: спроси у истинного хлебороба, как у него жизнь, непременно ответит только так: «Нормально – отсеялись вовремя» или «Какая там жизнь – дождя месяц нет!»
– Помнишь, Володь, по-моему, три года назад у тебя даже неверие появилось?..
– Было. Попозже: ехать или не ехать в Запорожье,
Вмешался Анатолий:
– Ты тут с ходу про Запорожье не поймешь. Напомни, я тебе потом все растолкую. Это особая статья.
– Сын уже большой? – спрашиваю, чтобы хоть как-то отвлечь его от повседневных хлопот, на которые он, уже независимо от себя, обречен. Володя сразу вдруг озаряется.
– Станиславу? Четвертый год. Понимающий мужик растет: собираюсь утром в степь, если мать проглядит, волокет ко мне мой резиновый сапог…
– Ну а хозяйством-то обзавелись? «Мужику-то» парное молоко нужно.
– Куда там! Когда? Жили две кошки, правда. За ними-то даже следить некогда. Одичали одни. Я больше полсуток в степи, жена в больнице. Ушли к соседям мои кошки. Сбежали. «Хозяйство!» Ну а парное молоко найти в деревне не проблема.
ЕХАТЬ ЛИ В ЗАПОРОЖЬЕ?
В кабинете я спросил Стремякова о Запорожье, о словах Асямолова: «Ехать или не ехать в Запорожье?» И вот что Анатолий Федорович рассказал мне об этом.
Осень прошлого года ничего хорошего не сулила. Скорее наоборот, – совхоз может оказаться без кормов для зимовки скота. Положение чрезвычайное. (Хотя, если говорить по правде, такие ситуации у нас случаются почти каждый год. Что поделаешь: зона рискованного земледелия!)
Григорий Тимофеевич темен, как туча перед пыльной бурей. Ему, Хохлову, отвечать перед районом и перед рабочими совхоза за каждую животину в хозяйстве – за коров, свиней, коней. И с него же спрос за скот в личных хозяйствах. У грозящей беды надежная союзница – засуха. И она сделала свое черное дело: кукурузы нет, хлебов нет (5–5,5 центнера с гектара – это не хлеб), однолетние травы выгорели, многолетние тоже.
Может, перепадет дождь? Может, еще можно оклематься хоть кое-как? Смешно, дождь сейчас как мертвому припарка. Поздно! Что делать? Где искать выход?
Телефонограмма из района: «Заготовка кормов – дело государственной важности. Своих резервов нет. Обсудите вопрос о направлении отряда механизаторов для прессования соломы в Запорожье. Формируется спецэшелон».
Григорий Тимофеевич глянул невесело на Стремякова:
– Что будем делать, секретарь? Исполнять указание сверху?
Анатолий Федорович спокойно посмотрел в усталые глаза Хохлова.
– Будем исполнять, – сказал твердо. И добавил: – Первую часть: «Заготовка кормов – дело государственной важности». Если идея исходит от исполнителей…
– Понимаю, – перебил его директор, – понимаю и поддерживаю. Собирай партком. Открытый. Приглашай всех, кто может дать хоть какой-нибудь дельный совет.
На другой день к вечеру в парткоме было тесно. Съехались люди со всех отделений. Пришли те, кого вызывали и кого не приглашали, – забота общая, решать надо коллективно.
После формальной процедуры тяжело поднялся грузный Хохлов. Оглядел внимательно каждого, кто пришел, зачем-то перебрал бумаги на столе, кашлянул, будто пробуя голос.
– В общем, товарищи, дело ясное. Дело, как говорится, табак… Если сейчас что-то не предпринять, сгорим мы синим пламенем. Я говорю о кормах. Из района пришел приказ, – посмотрел на парторга. – Пришло из райкома указание, совет пришел: собирать нам свои лучшие силы – и в эшелон, в Запорожье. Солому прессовать. Я свое мнение на этот счет имею, но хочу послушать вас. Решайте сами. Но при этом помните такой расклад: по примерным подсчетам, на одну условную голову нам потребуется около десяти кормовых единиц. Если прикинуть, все подобрать, что можно, совхоз сможет заготовить грубых кормов девять и две десятых кормовых единицы на голову. Это предварительные подсчеты… Сегодня здесь управляющие должны сказать, сколько кормов может заготовить каждое отделение. И сегодня же мы должны решить: ехать нам в Запорожье или не ехать. У меня все.
И сел, вытирая пот с широкого лба.
Поднялся Антонов Алексей Алексеевич, управляющий Ворошиловским отделением.
– Вчера мы с агрономом объехали все поля. Еще раз. На парах у нас неплохая пшеница, можно оставить на зерно. А вот ячмень надо весь убирать на корм. Есть трава. Где негусто, скосим вручную. Думаю, что около десяти тысяч центнеров кормов собрать сможем…
Мое предложение: обойти все дома, поговорить с населением и вести заготовку кормов дома, а в Запорожье не ездить.
Зеленецкий Петр Степанович, управляющий Комсомольским отделением:
– У нас все посевы идут на витаминную муку. И план, который нам спущен, мы выполним.
Суворов Павел Михайлович, управляющий Котликовским отделением:
– Надо оборудовать комбайны сразу после уборки на измельчение соломы и корма давать только в приготовленном виде. Мы сможем перезимовать. В Запорожье не ездить.
Микуров Вениамин Ильич, управляющий Центральным отделением:
– Считаю, что нужно приложить все усилия, собрать людей. Косить тростник на болоте, косить все, что дала природа. А в Запорожье не ехать.
Асямолов Владимир Ильич:
– Эту неделю я занимался работой АВМ. Два дня простояла машина – не успевали накашивать соломы. Вина тут была и моя, плохо, значит, организовал. Вчера я переставил кадры. АВМ работает и будет работать, сколько это потребуется.
Драчев Иван Семенович, председатель сельсовета.
– Депутаты сельсовета говорили с населением. Выйдут работать на заготовку кормов и служащие рабкоопа, и работники больниц, и учителя, и пенсионеры.
– И пенсионеры?! – раздался вдруг голос от дверей. Все повернулись на резвый возглас и узнали Петра Семеновича. Бывший завхоз школы, Петр Семенович уже давно был на пенсии, но на собрания и разные совещания ходить любил. И советы давать хлеборобам и специалистам считал чуть ли не своей обязанностью.
– Я не только пенсионер. Я старый коммунист. И потому сказать хочу сейчас прямо: вы игнорируете решение райкома партии! Формулировочку, видите, придумали: поступило «указание из района»… Нет, это не указание из района, а решение райкома партии.
Хохлов, не поднимаясь с места, резко заметил:
– Я лично никакого распоряжения из райкома партии не получал. Может, вам присылали, Анатолий Федорович, и вы не сказали мне об этом? Нет? Вот видите, не было. Была рекомендация. Понимаете?
И потом, если уж на то пошло, Петр Семенович, партийность еще не определяется тем, сколько лет человек носит в кармане партийный билет.
Он вытер лоб и нетерпеливо спросил:
– Так что же вы предлагаете?
– То, что… рекомендует райком – ехать на Украину.
Слово попросил Михаил Федорович Фомин, управляющий Дубровного.
– Как я могу отправить механизаторов сейчас, – он повернулся в сторону притихшего вдруг Петра Семеновича, – когда мне надо хлеб убирать, пахать зябь, готовить базы для скота? Как?!
Ведь мудрая это поговорка: «За морем телушка – полушка, да рупь перевоз!» Вон наши соседи из «Березового мыса», из «Искры», «России» ездили в Запорожье. И во что им обошлась соломка? А по 12–15 рубчиков за центнер! Это только колхоз выложил такие денежки. Да государство еще по столько же подкинуло на каждый центнер. Золотая соломка-то стала: по 25 рублей за центнер. Хлеба вдвое дороже. Это солома-то!
А возьмите самих механизаторов! О людях думать надо? Они же будут оторваны от совхоза, от семей своих на целую зиму, до самой весны. Это тоже надо брать во внимание.
Тут правильно говорили: вопрос этот государственный и решать его надо по-государственному: не ездить ни в какое Запорожье, а искать корма на месте. Старики наши были правы, когда говорили: «Не гляди на небо, там нет хлеба, а гляди ниже, к земле ближе». К своей земле.
Поднялся Стремяков.
– По-моему, вопрос ясен. Высказались товарищи со всех отделений. Кто за то, чтобы ехать заготавливать корма в Запорожье, прошу голосовать?
Ни одной руки не поднялось.
– Нету. Кто за то, чтобы заготовить корма на месте? Голосуют члены партии. Кто против? Нет. Кто воздержался?
Все оглянулись к двери. Стул у дверного косяка был пуст.
А поскольку на первом плане по времени была уборочная кампания, в решение собрания записали: «Считать уборку продолжением кампании по заготовке кормов – спасти животноводство».
Анатолий Федорович убрал протокол, составленный на том открытом заседании парткома, и посмотрел на меня, ожидая естественного и закономерного вопроса: «Чем же все это кончилось? Надо все-таки было ехать в Запорожье или не надо?» Спрятал бумаги в сейф и спокойно сказал:
– Мы были правы. Мы оказались правыми и только благодаря тому, что сумели доказать, что иначе было нельзя. Вот окончательный «приговор». – Он достает еще одни бумаги. – Падеж скота. Самый естественный, как и в благополучные годы. Поголовье скота? Увеличили. К 1 октября выполнили годовой план по продаже государству мяса и молока. Полностью сохранили поголовье свиней. Хлеба вместо 70 тысяч центнеров по плану сдали 100 тысяч. А корма? У нас еще и запас остался.
«Как нам это удалось?» Извини, но я не люблю это слово: «удалось». Ведь оно, по-моему, идет от слова «удача». А у нас совсем иное дело. Я ведь тоже в институте учился и хорошо помню арифметику философии: «Если идея овладевает массами…»
Все, кто мог хоть что-то полезное делать, пришли к нам. Массовые воскресники по заготовке кормов мы даже не объявляли. Каждое воскресенье люди сами собирались у конторы и ждали только распоряжения, куда идти работать. Косили камыш в болоте по пояс в болотной жиже. Помню, мы с Васей Пальченским из МТМ лезем первыми в болото. Он в черном берете, я в желтом. Вдвоем. Трясина. И смотрим – все за нами… Это же видеть надо!.. И понять.
Лезут за нами комсомолята: Юра Комарский, слесарь из мастерской, газосварщик Яша Богатенков.
Никакие они не богатыри и уж вовсе не «дяди Степы», а скорее даже совсем наоборот: еле на средний рост вытянули. А ведь болото есть болото – по пояс сразу засосало, а они косами как саблями орудуют. Увидели всю эту картину остальные, вслед за ними. Все сразу. Вот где уж действительно закипела работа!.. Это же видеть надо… И понимать.
Камыш резали на «Волгаре», «Вихре» – на всем, что могло резать. Потом пропускали через агрегат по изготовлению витаминно-травяной муки. Это тот самый АВМ, о котором говорил на парткоме Асямолов. И эту муку варили потом с добавкой концентратов. Скот ел – за уши не оттянешь.
ЗАВТРА В ПОЛЕ
Партийное собрание было назначено на 4 часа вечера. Но уже в половине четвертого у клуба стал собираться народ. Подъезжали серые от пыли машины с отделений, люди высаживались и скапливались у входа в клуб. Мужчины собирались в группы и нещадно дымили. Загорелые лица сосредоточены. Разговоры только об одном – о погоде и земле: «Почва прогрелась до восьми градусов», «Для кукурузы этого мало…», «С пшеницей надо еще пока годить…», «Вчера над Зеленым Мысом журавли летели…», «Весна ранняя, что и говорить».
Ровно в 4 часа Анатолий Стремяков открыл партийное собрание. В зале было человек 150, коммунистов же 107: собрание открытое.
Директор совхоза, а затем парторг доложили, по-моему, и без того всем ясную обстановку:
– Дождей ждать нечего. Снега мало выпало. Даже наш «пророк» Дьяков не обещает много влаги – осадков будет меньше нормы. Стоит прислушаться к словам Терентия Мальцева: «Надейся на лучшее, жди худшее».
И вот что говорили тогда хлеборобы:
– Быть строже к себе, к каждому до предела. Никакой контроль не поможет, если совесть спит.
– Или бороться, или руки вверх! У нас нет выбора. Бороться. Испробовать все свои силы – вот самая высокая мудрость.
– Ответственность огромна: год нынешний юбилейный, а «Большевик» моложе Октября всего на 14 лет. И мы не ставим так вопрос: «С нас спросится». Это мы должны спросить с себя – какой каравай мы принесем к праздничному столу.
– Главное условие соцсоревнования в честь юбилея Октября на обработке почвы – качество, на весновспашке – качество, на севе – качество, на обслуживании механизаторов (ремонт, снабжение запчастями, семенами, питание хлеборобов) – качество, это требование не только месткома, а мнение всей профсоюзной организации.
Поднимались по очереди на сцену строгие мужчины, а некоторые и прямо с места. Докладывали: «Механизаторы готовы», «Техника на ходу, хоть завтра в поле», «Общежития на станах в порядке», «Передвижные вагончики-столовые могут выехать в поле уже завтра».
– Завтра выезжаем в поле. Задача номер один – закрытие влаги.
Вера Павловна Чудинова, председатель рабочкома, предложила выступить с инициативой – начать соревнование за качественное проведение всего комплекса сельскохозяйственных работ.
Принимается решение. Стремяков обращается в зал:
– Кто за то, чтобы утвердить проект решения? Голосуют коммунисты.
Шуршащее движение рук и одежды в тишине. Молчание. Оглядываюсь назад. Голосуют «за». Все до единого. И беспартийные. Нарушение Устава партии. Парторг поправлять не стал и был, по-моему, на сто процентов прав, подводя итог: «Принято единогласно!»
– Объявляется перерыв. После перерыва коммунистов прошу зайти в зал. На повестке дня организационный вопрос.
В перерыв я вышел вместе со всеми в фойе, а вот на улицу пройти, чтобы перекурить, оказалось не очень-то просто – лил как из ведра дождь! В самом деле дождь, плотный, косой, он барабанил по крышам, по асфальту, по всей земле, куда ни глянь. Надо же, какая оказия: ведь только два часа назад на дворе было солнце, сухо и пыль клубилась за машинами!
И это стало главным событием. Спокойные и степенные всего пять минут назад, мужики вдруг пулей вылетали из клуба, стаскивали с головы картузы, подставляли их под ливень, разглаживали мокрые головы и приговаривали: «Как славно-то, ах, как славно!..» И как бы переспрашивали друг друга радостно и удивленно: «Дождь? В самом деле дождь? Ей-богу, дождь!» – подтверждали солидно старики и натягивали картузы на сырые волосы.
ХОХЛОВ
Возбужденные, рассаживались по местам. Когда чуть приутихли, Стремяков продолжил собрание.
– Предлагается вывести из состава партийного комитета Хохлова Григория Тимофеевича и снять его с партийного учета нашей организации в связи с переходом на другую работу.
Как оказалось, теперь уже бывшего директора совхоза Хохлова на собрании не было, он уже работал директором в соседнем, Юргомышском районе.
Проголосовали единогласно.
– В состав парткома предлагаю избрать директора Агеева Геннадия Константиновича.
Избран единогласно.
Для меня этот оргвопрос был неожиданным. Однако в «Большевике» все об этом уже знали и реагировали спокойно. Очень многие жалели, некоторые отнеслись спокойно, а кое-кто и обрадовался – реакция вполне естественная. Григория Тимофеевича я знаю уже чуть побольше десяти лет. Человек он, прямо скажу, необыкновенного склада характера – волевой, настырный. Ради блага хозяйства готов голову свою подставить под удар. Не идеальный человек этот Хохлов и уж совсем не из добреньких. Были у него в работе и загибы и перегибы. И ругали его за это больно и часто (по делу, а то и без дела), все было. А он не стал от этого ни обозленным, ни слабохарактерным. Стоит упрямо на своем, тянет хозяйство. Уродился уж, видимо, таким этот сын сибирского крестьянина. В 24 года избрали его впервые руководить хозяйством – председателем колхоза «Заветы Ильича». Пришел Григорий Тимофеевич в колхоз этот, принял хозяйство. А хозяйство… В стойлах ревут коровы. Падает снег. Только что ушел сентябрь… Но ведь поднял колхоз! За три года поднял. А потом и «Большевик» на ноги поставил. Но пока ставил, шишек получил порядочно. За характер, за ослушание и партизанщину. Но не озлобился. Был выше личных обид, считал их делом мелким и неразумным. С удивлением и улыбкой иногда разведет руками: «Вот двенадцать лет проработал уже в «Большевике», немало выговоров отхватил, еще один зарабатываю и почто-то не дают. Как-то неуютно, не по себе, жду, а все нет…»
Забегая вперед, скажу, что получил-таки Григорий Тимофеевич «свой», последний выговор. «Сорвался малость», – поясняет он охотно. А дело тогда было так.
Требовалось срочно отстроить бункер под зерно и тракторы «Кировцы» под крышу в теплый гараж поставить. А где железо? Нет на железо фондов. И едет Хохлов в Челябинск. Везет с собой мясо. Там передает его (по всей законной форме) на одном из заводов в столовую для общественного питания рабочих, а взамен привозит железо. И зимуют в теплом гараже двадцать ухоженных «Кировцев», принимает зерно новый бункер.
Нет, не защищаю я эту самодеятельность Хохлова, не хвалю его за такие кавалерийские налеты. Но как только соберусь осуждать, вижу довольные, голубые глаза Владимира Александровича Шевкуленко, бригадира трактористов с К-700, кавалера ордена Ленина, и слышу слова его: «А ведь могли бы загубить такую технику…»
Так считает и сам Хохлов. Однако выговор этот он получил не за «добывание» железа, а «за нарушение государственной и партийной дисциплины».
Когда в первый раз встречаешься с Григорием Тимофеевичем, то поначалу кажется, что человек он спокойный и даже невозмутимый. А впечатление это создается потому, что от всей его крупной фигуры веет чем-то добродушным и даже домашним. Так ведь часто бывает – физически сильные люди зря не хорохорятся. А Хохлов и впрямь могутен: высок, широкоплеч, большеголов.
Пешком ходить на далекие расстояния Григорию Тимофеевичу трудновато. Но «давить пешечка» он любит. Оставит машину и идет на другой край поля. А поля здесь, известно, немалые. Но идет, потому что там сеют. Останавливает агрегат и, пыхтя, взбирается на приступок у сеялки. Одну ногу поставил, сеялка присела, другую – и сеяльщик, весь черный от пыли парнишка на другом конце, аж подпрыгнул.
А Хохлов машет рукой трактористу: «Поезжай!»
Поехали. А сошники с той стороны, где пристроился на
одной доске с Хохловым молоденький сеяльщик, только чуть чиркают пашню. «Стой! – останавливает. – Там мелко, тут глубоко, не годится».
После этого веселого эксперимента разговаривает с парнями. Беседа идет непринужденная, настроение у ребят веселое.
Встретил я раз Григория Тимофеевича в самую осеннюю страду. В поле искать легче ветер, чем директора совхоза. Однако я решил подождать его в конторе. К тому же вечером соберется планерка. Случайно зашел Володя Асямолов. Был он весь серый от пыли, и я даже не узнал его резиновые сапоги. «Купил новые?», – спросил я его здороваясь. «Не-е, степь подарила».
Говорю, что вот Хохлова поджидаю. Асямолов махнул безнадежно рукой: «Пустой номер…»
– Он и дом-то свой, наверное, уж давно забыл. Как его еще хозяйка терпит?! Можете себе представить – десятый год крышу дома, в котором живет, перекрыть не соберется!
– Плохой хозяин, значит?
– Частник никудышний, – уточняет Асямолов. – На селе жить без хозяйства негоже…
Мне смешно:
– Володя, и это ты говоришь! От такого хозяина, как ты, даже собственные кошки сбежали!..
– Я не ветеринар, – полушутя добавил Владимир, а потом уточнил: – Видимо, мы с ним одного поля ягоды или хотя бы с соседних.
Но мы все-таки и разные, – после некоторого раздумья продолжал Володя. – Я люблю, например, каждое дело заводить немедленно, тут же, по горячим следам. А Тимофеевич – специально, что ли? – вдруг забывает, что ему надо в данный момент сделать. А потом шпарит!
И вдруг совершенно неожиданно спрашивает: «А вы не читали случайно мемуары немецкого канцлера фон Бюлова?» Я не стал демонстрировать ему свою эрудицию, так как мемуары Бюлова изучал больше двадцати лет назад на историческом факультете, слушая лекции доцента Кировского пединститута, ныне ректора его Георгия Андреевича Глушкова. А промолчал, так как начисто забыл их и, выражаясь словами Джером-Джерома, с тех пор чувствовал себя гораздо лучше.
Володя отнес молчание на счет моей памяти и продолжил:
– Так вот этот Бюлов любил повторять о России слова, которые я бы прямо отнес к характеру Хохлова: «Русские долго запрягают, но быстро скачут».
– Это как же понять? Как нашу русскую поговорку: «Пока шлея под хвост не попала»?
Асямолов несколько смутился.
– Совсем нет. Хохлов – человек склада особого. Ему зараз все дела хочется сделать, то есть немедленно. Вот он и хватается за все сразу. А время идет и что-то главное вдруг, оказывается, упущено. Это слишком болезненное восприятие – сделать все самому. Потому он часто не доверял нам и упускал момент. Потом его как бы озаряло, и начиналась атака. Тогда все! Он не жалел ни себя, ни людей, шел напролом. И, как правило, добивался своего. Но какой ценой?
Слышал я об этом не только от Асямолова. Некоторые, не понимая этого и уже потеряв веру в успех поздно начатого дела, пытались урезонить Хохлова. Но все было тщетно. Поздно! Он не мог уже не сделать этого. Он Хохлов.
Как-то на балансовой комиссии ему в глаза стали выговаривать, когда речь зашла о том же теплом гараже для «Кировцев» и бункере для зерна: вот, мол, Григорий Тимофеевич, вы для себя это хотите построить все, памятник, так сказать, при жизни себе поставить.
Они не знали, что он сможет это сделать, они видели только одно – неразумность задуманного предприятия. Не верили. И это его оскорбляло. Но не обезоруживало. А, наоборот, вызывало подвижническую злость. И он шумел на комиссию, показывая при этом весь свой, хохловский, темперамент: «Не путайтесь под ногами! Не мельтешите!»
А после остывал и, как провинившийся школьник, шел с повинной к парторгу Стремякову.
Садился напротив его на маленький стул, от чего тот жалостливо скрипел, доставал огромный, как скатерть, носовой платок и, тяжело отдышавшись, признавался:
– Тяжело со мной работать, Анатолий Федорович… Не надо меня защищать: знаю, тяжело. Тут вот и хворь моя старая: задремать могу не к месту.
Стремяков успокаивал: да бросьте, мол, Григорий Тимофеевич, я все понимаю. И тут снова просыпался истинный, задиристый и не щадящий себя Хохлов:
– Ты что мне в рот смотришь?! Ты мне в рот не гляди! Ты же парторг, ты одерни меня. Ну поручение партийное какое-нибудь мне дай. Почему у всех они есть? А…
– У вас и так забот хватает, – успокаивал его Стремяков.
– Ну это ты брось! Нет пока у меня партийного, общественного поручения.
И не уходил, пока не получал его, совершенно конкретное и с точным сроком исполнения.
И совсем не случайно вспоминаю слова Григория Тимофеевича, сказанные им в одной из бесед. Это были думы не о себе, не о личных каких-то заботах. О людях. В этом он весь. Человек и коммунист.
– Я помню, какой перелом произошел в деревне после сентябрьского Пленума партии в 1953 году. Едва ли не такое же значение имел для судеб села мартовский Пленум 1965 года. Много утекло воды в Миассе с момента организации молодежного совхоза – как-никак скоро 50 лет минует. Все меняется. Не меняется только вера хлебороба земле, преданность ей. Земля с доброй охотой обращает человека в свою веру, делает из него настоящего пахаря.
И вот однажды получил Хохлов ответственное партийное поручение, и на этот раз не от Стремякова, а от первого секретаря Шумихинского райкома партии Тихонова Бориса Михайловича: вытянуть из прорыва, спасти урожай в совхозе соседнего Юргомышского района, а самому лично сделать детальный анализ всей его хозяйственной и организаторской деятельности. Со своей задачей Григорий Тимофеевич справился с честью. Однако хозяйство было там запущено. Вот обо всем этом и доложил Хохлов на бюро райкома партии. Ему задали вопрос, конкретный и бескомпромиссный: «Сможет ли в короткий срок руководство совхоза «Юргомышский» выправить положение?» Григорий Тимофеевич в душе добрый человек и только потому заколебался вначале. Тем более с директором совхоза Хохлов был знаком лично, знал его как неплохого человека, но здесь спрашивали о руководстве. И он промолчал.
– Ну что ж, тогда вам и карты в руки. Обком партии вас рекомендует. Поезжайте принимать новое хозяйство. Желаем успеха!
По старой студенческой привычке и примете Григорий Тимофеевич хотел сказать: «К черту!» Но вовремя опомнился и старательно улыбнулся: «Спасибо…»
На дворе шумел ветрами февраль. Пахло свежевыпавшим снегом. И запах его напоминал аромат свежих огурцов. Со стороны станции Шумиха доносились знакомые предупреждающие свистки постоянно спешащих электричек.
Григорий Тимофеевич достал свой, все тот же огромный, как домашняя скатерть, платок, вытер пот со лба и, аккуратно складывая его, подумал вслух:
– Через два месяца в поле…
Потом подсчитал в уме и удивился своему открытию:
– Двадцать шестая посевная…
ПРЕЕМНИК
Геннадий Константинович не так широк в плечах и совсем не грузен. Роста он среднего, но скроен так же плотно и крепко. Густые темно-русые волосы аккуратно зачесаны назад. Потемневшее от степного ветра лицо не по годам спокойно, взгляд всегда внимателен, но без того любопытства и страсти, которые так присущи Хохлову.
Агеев моложе Хохлова на десять лет. Но тоже уже коренной крестьянин и в деревенском деле поднаторел немало. В «Большевик» его направили из соседнего колхоза «Россия», где он успешно председательствовал несколько лет подряд. Однако перед этим успехом в первые годы, когда пришлось взять в свои руки бразды правления, молодому председателю пришлось ой как несладко. Хозяйство, которое принял Агеев, было невелико, но беспорядков в нем хоть отбавляй. Ему некогда было вникать, искать причины, кто в том виноват, по чьей недоброй воле получил он это тяжелое наследство. Надо было ломать старые устои и утверждать новые. А ведь это как дом строить: его легче сломать и сотворить заново, чем ремонтировать капитально.
У многих колхозников, и не только у одних нерадивых, укоренилось неуважительное отношение к науке и к людям, которые несли ее в деревню. И объяснить эту неуверенность было можно неустойчивостью погоды. Зона рискованного земледелия служила живительной почвой для различного рода предрассудков и суеверий. Отсюда, наверное, и пошла гулять по белу свету лихая, но неуемная поговорка: «Был бы дождь да был бы гром, на хрена нам агроном!» И скрывались за ней уставшие от недородов земли пахари, а больше всего откровенные лодыри. Однако на приусадебных участках своих и они умудрялись получать вполне приличный урожай. И в эти личные хозяйства вкладывали максимум своих сил, а в колхозе работали спустя рукава. Благо железная дорога под боком, Курган, да и Челябинск не за горами – сбыть излишки продукта всегда можно без особого на то труда.
Дело дошло до того, что в уборку на колхозных полях, особенно на картошке, работали «присланные» горожане, а члены артели (исключая механизаторов) или на огороде своем копаются, или трясутся на попутках на рынок. Правда, истинный хлебороб оставался верен земле и колхозному добру. Но и он уже начинал колебаться.
Разобраться во всем этом Геннадию Константиновичу было, прямо скажем, не так уж и сложно. Подобная картина в той или иной мере наблюдалась и в других колхозах. И, поблагодарив колхозников, избравших его председателем, он честно и открыто на том же перевыборном колхозном собрании, прямо, без обиняков сказал:
– За мешки держитесь, колхозники, за огород свой!
Понял, что перехватил, поправился:
– Не о всех речь идет, поймите меня правильно…
И продолжал уже спокойно, но по-прежнему напористо:
– Если будет в колхозе дисциплина, если все пойдет путем, с уважением к колхозному добру, к земле – и колхоз на ноги поставим, и заработки будут… Но за невыход на работу, за пьянку, наказывать будем нещадно. За опоздание – штраф. Лодырей и пьяниц будем гнать из колхоза и лишать приусадебных участков.
Из зала вдруг возглас:
– Круто берешь, председатель! Кабы шею не сломал…
Но кто-то перебил этот голос:
– Правильно говоришь, правильно.
Зашумели.
– …А тем, кто будет добросовестно работать, помогать будем. И ссудой, чтоб строились, и транспортом, и кормами для личного скота.
А на другой день собрал правление и специалистов. Вопрос один: учиться хозяйствовать на земле, изучать агротехнику.
Колхоз переживал ту же болезнь, которой «Большевик» уже переболел. Условно я бы назвал ее «инерцией параграфа». Вот есть указание – делать так, сеять тогда-то и то-то. Никакого тебе ломания головы. А значит, и творчества никакого. Беда была еще глубже: хлебороб отвыкал размышлять. Ему все расписано – столько-то сеять, на такую-то глубину засевать. А что можно ждать от пахаря, который самую главную работу свою делает вслепую?
И вот подобные встречи на севе только поначалу были в диковинку:
– Что сеешь? – спрашивает председатель молоденького тракториста.