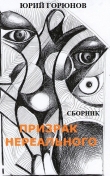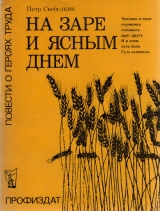
Текст книги "На заре и ясным днем"
Автор книги: Петр Скобелкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
– Пшеницу вроде, – отвечает тот неуверенно.
– Какую пшеницу?
– Да будто «мельтурой» звали…
– А почему «мельтурум», а не «цезиум»?
– Это вот ему, агроному, знать надо.
– Ну и на какую глубину сеешь?
– Да, кажись, сантиметров на семь-восемь.
– Может, это мало или много?
– Может, мало… А может, и много. Так бригадир сошники велел поставить.
– А сколько центнеров на гектаре высеваешь?
– Полтора центнера, это точно.
– Годится так?
– Откуда я знаю… Агроном вот установил такую норму. Мне-то все равно.
Вот где корень зла, понимал Агеев: «Мне-то все равно, так агроном установил». И ведь это говорил пахарь, человек, которого громко хозяином земли зовут! Вот ведь в чем штука!
Ясно было одно: наступать надо по всем линиям. Поднимать сознательность колхозников (ответственность, дисциплину) и повышать агротехническую грамотность каждого.
Да мало ли еще что! Сколько еще «сюрпризов» преподносила работа председателю.
Тут оговорку должен я сделать. Заинтересованность в крестьянском, колхозном деле у людей была давно, еще с тех самых тридцатых годов. Только вот случилось однажды такое в колхозе «Россия», подорвали эту веру. И дело тут не в бывшем председателе. Василий Афанасьевич Гребенщиков сделал немало для развития и укрепления хозяйства. Но состояние здоровья не позволяло ему успевать за быстротекущим временем. Ушел на пенсию.
Что там говорить – ведь любовь, какой бы крепкой она, казалось, ни была, и та нуждается во внимании, в поддержке.
И вот когда поднялось хозяйство, начались перестановки. Хохлова перевели на другое место, а Агееву предложили принять «Большевик». Собрали в «России» собрание. Колхозники должны решить, кому дальше ходить в председателях.
Человека хорошего, тоже знающего, вместо Агеева подыскали. Представили честь по чести колхозникам. Потом стали голосовать. А колхозники не отпускают старого (пусть и молодого) председателя. Провели на первый раз голосование. Полный провал: за нового председателя мало рук поднялось. Стали второй раз голоса считать. Опять незадача: не хотят отпускать
Геннадия Константиновича, и все тут. Тут уж пришлось выступить самому Агееву. Не знаю, что он говорил этим людям, за которых так круто брался вначале. Не был я на этом собрании. Но на третий раз скрепя сердце от-пустили-таки, согласились. Может, еще и потому, что «Большевик»-то вот он, рядом.
И вот сидим мы со Стремяковым и Асямоловым у нового директора «Большевика» в кабинете. Осторожно расспрашиваю Геннадия Константиновича, какое впечатление произвел совхоз на первый раз. Отвечает спокойно, за две недели уже успел, видимо, в главном для себя разобраться:
– Хозяйство большое. «России» намного крупнее. Но, похоже, крепкое. Специалисты деловые. Есть перспектива. Огромное строительство. Крепкая партийная организация. С кадрами проблем нет, много молодежи. Свиноводческий комплекс создается. Но, думаю, сохраним вместе с тем и стадо коров. В общем, я доволен.
Стремяков широко улыбается:
– И мы тоже пока довольны. В прошлом году по 18 центнеров с гектара взяли. Одной только прибыли больше пятисот тысяч рублей получили. А вот такая деталь: у нас все специалисты с высшим или средним специальным образованием. Молодежь вперед выдвигаем. (Кстати, у нас каждый третий житель в возрасте от 16 до 30 лет.) И не просто там, как бывает: похвалили, и ладно. Квартиры даем, ссуды, кто захочет сам строиться. А вот наш план социального развития…
Он развернул широкий лист.
– К восьмидесятому году все до тридцатилетнего возраста будут иметь среднее образование. Уже в этом году переходим на твердую пятидневку. Сегодня в нашей совхозной библиотеке, например, 12 тысяч книг.
Спрашиваю у Геннадия Константиновича, каким он представляет «Большевик» через 10 лет? Агеев надолго задумывается, вслух повторяет мой вопрос: «Каким я вижу «Большевик» через 10 лет?»
– Во-первых, не вижу многих деревень. И это естественно: люди не захотят жить на отделениях, потянутся к центру. Мы не можем, да это и неразумно, строить на каждом отделении больницу, школу, новый клуб. Невыгодно, когда все это есть на центральной усадьбе.
А там, где сейчас отделения, оборудуем полевые станы. Наладим регулярное движение автобуса, иначе нельзя. Надо, скажем, ехать в поле – пожалуйста, подаем транспорт, отвозим на работу. У нас самые дальние отделения 15–20 километров. Не очень близко, правда. А разве вы, москвичи, не ездите на свою работу на такие расстояния?..
А вот каким путем, каким образом, это уже другой вопрос. Но ясно одно: самое главное, самое первое – это качество. На каждом участке. Это лозунг сегодняшнего дня, сегодняшней пятилетки. И мы его понимаем так: речь идет об отношении к труду. Сейчас уже мало работать под лозунгом «Давай – давай!». И конечно, эффективность. Все это мы знаем. Дело в том, чтобы суметь подкрепить материально эти категории. А на пустых словах и полынь не растет.
Надо научить людей считать государственную копейку. И не только специалистов – каждого человека. А у нас, как я тут убедился, хозрасчет еще пока что примитивный. Подсчитываем только фактические затраты. Нет пока еще экономического анализа на каждый месяц. Я имею в виду анализ по себестоимости.
Нетерпеливо заскрипел резиновыми сапогами Володя Асямолов.
– Именно по себестоимости. А иначе у нас эти два понятия: эффективность и качество могут войти в противоречие.
– Простой пример. Вот садим картофель. Хорошо. А настоящие траншеи не соорудили. Вырастили большой урожай. Количество налицо. Но не создали подходящих условий для хранения. И чем больше получим урожай, тем хуже для нас. Парадокс? Да, парадокс. Хранить негде – поморозили…
Оживился директор.
– Прав агроном, прав Владимир. Так было. Еще совсем недавно. А сейчас мы, как говорится, на коне. Постановление июльского Пленума ЦК партии дало нам и дает поистине живительную силу. К нам, земледельцам, пришла новая мощная техника: «Нивы», «Колосы», мощные «Кировцы». Одним словом, полная комплексная механизация. Нам остается только, как говорил на Пленуме Леонид Ильич, «еще более усилить требовательность». Требовательность к себе и к людям. Для нас же делается сейчас все. Вот хотя бы такой простой пример: повысили закупочные цены на зерно, молоко, на картофель. Да, тот самый картофель, о большом урожае которого горюет агроном. Значит, теперь все только от нас зависит, надо срочно строить картофелехранилища.
– А главное все-таки сейчас зерно. Независимо от профиля. В прошлую осень мы прекрасно управились с ним, как-никак скосили хлеба за девять и обмолотили за одиннадцать дней. И зябь успели полностью поднять. Нынче тем более нам нельзя ни на день, ни на час уступать.
СКВОРЦЫ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ
И никого этим здесь не удивишь – утром ярко светило солнце, пели жаворонки, после полудня хлынул дождь, а к вечеру повалил снег, А на дворе стоял апрель.
Наутро после собрания мы поднялись с Анатолием Федоровичем Стремяковым, как всегда, рано. Во дворе, в загоне, жалостливо мычал теленок. Когда я вышел во двор, мне стало понятно его беспокойство. Весь двор был покрыт снегом. Вода в лужах замерзла. Дул резкий ветер. Холодно.
Вот так в течение суток сменилось три времени года: весна, осень и зима.
– Такое здесь не в новинку, – показывает во двор Анатолий. – Привычное для весны явление.
Климат здесь, что и говорить, суровый. И даже, пожалуй, не так суровый, как неожиданный.
Однако от случайностей оборонить эти земли – задача не из легких. И каждый год каждая аномалия в природе, вызванная климатическими сюрпризами, ставит человека лицом к лицу с животрепещущей проблемой охраны окружающей среды. А зачастую ее ставит себе и сам человек. И здесь речь пойдет уже не о климате, а об отношении человека к природе.
Вспоминаю мудрые слова Михаила Пришвина из его книги «Глаза земли»: «Если будет вода и в ней ни одной рыбки – я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка – я не поверю воздуху. И лес без зверей с одними людьми – не лес, и жизнь без таящегося в ней слова – все это только материал для кино».
И в самом деле, какой только рыбы не было еще совсем недавно в Миассе?!
А сейчас, выражаясь словами Пришвина, нельзя верить этой реке: нет в ней рыбы. А и та квелая, которая нет-нет да и попадет случайно на рыбацкий крючок, несъедобна, воняет от нее самой современной химией.
Александр Герасимович Сапогов, бывший завгар совхоза, а ныне пенсионер, жаловался как-то своему земляку Павлу Сергеевичу Максимову, проживающему там же, в Крутых Горках:
– Прошел я вчера, Сергеич, по Миассу. Прогулялся с одного конца села до другого и больно стало мне: еле-еле на короб прутьев заготовил. Вот ведь как!.. А все оказалось просто, все вроде для дела: карачельцы летом опрыскивали посевы, а заодно и пойму Миасса, гербицидами. Да пусть даже если бы они и не задели Миасс, все равно после дождя вся эта химия была бы в реке…
И вот получайте результат – ивовые кусты поначалу пожухли, а потом и вовсе высохли.
И соловьев сейчас по весне не услышишь в Крутых Горках. А как пели, как пели раньше крутогорские соловьи!..
– Человек стал черстветь, – философски заключает Александр Герасимович и тут же добавляет: – Отпели соловушки. И вернутся ли они к нам на посохшие кусты? А только ли соловушки? Помнишь, Сергеич, как-то прошлым летом обкосили мужики недалеко от колка рысь. Так что придумали? Тут же побежали за ружьями! Убить непременно им ее надо! А она, эта самая рысь, может, какой большой санитар среди зверья. Убили…
Печально было слышать эти слова, порой несправедливые, но была в них доля той горькой правды, корую мы подчас прячем за словами о спасении животных и хлебов от вредителей и хищников.
И я согласился с ним. Только сомнение было – неужели вот так все крутогорцы такие уж «живодеры» и неразумные люди. Случай убедиться, что это не так, представился уже на другой день.
В это утро мы со Стремяковым решили пройтись по Крутым Горкам. Но задержались. Надо было Анатолию Федоровичу наказ сыну своему дать перед тем, как он уедет в техникум связи. А Алеши дома не было. «Где Алеша?» – ищет отец. А тот сидит на суку у клена, опутавшись проводами, и молчит.
– Ты что там делаешь? А ну-ка слазь! – кричит отец.
– Да я, па, микрофон устанавливаю, – отвечает сын деловито.
– Что, обалдел, микрофон на дереве! Для скворцов, что ли?
– Ага, па! Для скворцов.
Свесился с сучка, объясняет отцу как неразумному:
– Па, знаешь, я сейчас запишу, как поют скворцы, а зимой, на новогодней елке и включу. Па, понимаешь, на улице мороз, ветер колючий, снег кругом, а у нас на елке будут петь скворцы! Наши скворцы. А, па! Я и жаворонков тоже записал. И они петь будут у нас на новогодней елке…
ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
Идем по главной улице Крутых Горок. Справа клуб и совхозная контора. Между ними везде пока голыми густыми сучьями к весеннему небу выстроились карагачи. Интересное это степное дерево – карагач. Неторопливое, уверенное и сильное дерево. Уже сирень зацвела и вишня цвет выбросила, а он молчит среди всей этой буйной зелени. Часа своего ждет. И вдруг ранним утром стрельнет узкими листочками, а потом и цветы, неяркие, похожие на потухающие угли, выпустит. Зацвел упрямый карагач, значит, тепло установилось прочно до окончания лета. И будет зеленеть до самого снега. Всех переживет. Вот уж опали листья вишен и яблонь. И дуб потерял зеленое ожерелье. Обнажились березы в колках. И только карагач наперекор всему – заморозкам, пыльным бурям, суховеям – стоит зеленый и потому молодой всегда. Вот уж и снег первый лег на землю, а карагач все зеленеет, не желает сдаваться. Такое вот упрямое и славное дерево карагач.
Через дорогу, прямо напротив, где кренится под ветром карагач, на высоком постаменте высится памятник Ленину. Ильич стоит, вытянув в свободном жесте вперед правую руку.
Сколько связано истории, сколько событий и чувств соединено с этим именем в «Большевике»… Даже в самом названии совхоза, слове самом «большевик», мы слышим отголосок биографии Ильича.
Впервые в этих местах Владимир Ильич побывал еще в конце XIX века. 2 марта 1897 года. Пройдет всего 22 года, и вот весной 1919 года из этих мест, по которым проезжал Ленин, придет на его имя в канун Первого мая телеграмма из села Котлик (ныне отделение совхоза «Большевик») такого содержания:
«Приветствуем Рабоче-крестьянское правительство, стоящее на страже интересов трудового народа, все его мероприятия, направленные для защиты этого народа от гнусных контрреволюционеров!
Да здравствует борьба с буржуазией всего мира!
Да здравствует единение трудящегося народа!
Широченко, председатель собрания,
Патов, секретарь собрания
с. Котлик, 26 апреля 1918 г.»
С именем Ленина связана и первая борозда «Большевика».
Так вот, первую борозду крестьяне совместного хозяйства на Урале провели в день рождения вождя революции Владимира Ильича Ленина – 22 апреля 1931 года.
К Ленину обращались люди «Большевика» в самую трудную годину и в самые светлые дни своей жизни. А они кровными узами были связаны с биографией страны.
22 июня, в первый день войны, крутогорцы, ошеломленные невероятным трагическим известием, без зова, без клича, сами молча пошли к памятнику Ленину и стали там, как бы ожидая от него совета и благословения на священную Отечественную войну.
Отсюда, от подножия памятника, брали они священную горсть земли, отправляясь на фронт.
9 мая все, которые уцелели на фронте (а таких было ой как не густо), выжившие и победившие, вновь придут к подножию памятника и скажут два слова: «Мы победили!»
И правы они будут тысячу раз – дравшиеся на фронте и не воевавшие, раненные войной и голодом, не сломленные, не покоренные, говоря Ильичу эти слова: «Мы победили!»
И поныне площадь та – заглавное место. Сев ли начинать – здесь народ услышит слова напутствия. Хлеб ли убран – здесь прозвучат слова благодарности. Нет дождей – и опять народ сюда потянется, к Ленину. Потому как считают: о любом деле здесь будет сказана вся правда.
И здесь же на Ленинском уроке, посвященном новой Конституции, поздравили комсомольца Владимира Кол-такова, который на вспашке зяби обошел таких опытных ветеранов, как Юрий Абакумов, братья Алексей и Виктор Агеевы, и стал чемпионом совхоза. Новый комсомольский секретарь Володя Шалагин зачитал решение райисполкома и райкома комсомола о присуждении комбайнеру Валерию Звягинцеву звания чемпиона Шумихинского района: на уборке урожая он намолотил 6,5 тысячи центнеров зерна. А когда Володя объявил потом, что «нашему чемпиону сегодня исполнилось ровно 17 лет», ребята подняли победителя на руки.
Каждый год в день рождения пионерской организации – 19 мая – сюда, к подножию памятника, собираются на красную линейку пионеры, чтобы принять в свои ряды юных ленинцев и дать клятву верности заветам Ильича.
В 1978 году исполнилось 40 лет, как стоит в «Большевике» памятник Владимиру Ильичу. Но память сердца хранит этот светлый образ на протяжении шести десятилетий, и в славную годовщину Великого Октября крутогорцы вновь и вновь обращаются к этому священному имени.
И это естественно, как каждый день хлеб на столе.
«НАСТРОЕНИЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ…»
Уезжаю из Крутых Горок. Зашел в партком к Анатолию Стремякову. Несмотря на ранний час, у него уже посетители. Молодая женщина снимается с партучета. В соседний район едет, замуж вышла. И не успела еще все бумаги заполнить, заходит высокий парень в синей куртке.
– К вам на учет хочу встать, – объясняет, как будто извиняясь.
Подает заявление. Стремяков читает вслух:
– Перелыгин Василий Дмитриевич, тракторист. Альменьевский район…
– И чего же ты к нам вдруг? – спрашивает спокойно.
– Не вдруг, – отвечает. – У вас здесь школа хорошая, учат, говорят, хорошо. А у меня ребятишки. Да и я работу люблю.
– И вот так, не задумываясь?
– Почему это не задумываясь? Я все взвесил. Слышал, что работящих здесь ценят.
Вот и еще одним пахарем стало больше в Крутых Горках. Правда, вопросы о кадрах здесь уже не волнуют хозяйство, механизаторов вполне достаточно. Заботит другое.
– Люди по хлебу истосковались, – объясняет первый секретарь Шумихинского райкома партии Борис Михайлович Тихонов, – по хорошему хлебу соскучились. Засуха вымотала…
Вот сейчас перед севом все готово – люди, техника, семена только первого класса, а настроение очень сложное, тревожное. Только апрель начался, а снега уже как и не было. И влаги в почве совсем мало. Удастся ли все сделать так, как хочется?..
И снова по порядку вспоминаю те сутки, когда сменилось на протяжении их три времени года. И старушку вижу, которая, кутаясь в широкую шерстяную шаль, жаловалась кому-то:
– Господи, да за что же такие напасти на нас! Ведь вчера только было – теплынь, хоть в кофте по улице ходи, птицы пели, а сегодня – вот на тебе – мороз и ветер зимний.
И кто-то из молодых объяснил ей коротко и спокойно:
– Это, матушка, просто жизнь. И радоваться надо всегда этой жизни.
– Чему радоваться? – недоумевала старушка, зябко кутаясь в свою надежную шаль.
И парень стал ей объяснять терпеливо:
– О совхозе хорошо говорят. Радостно. Тяжелый год пережили и хлеб хороший получили – разве это не радость? Единственные в районе за кормами в Запорожье не ездили, а своим обошлись – это же здорово! Квартиры в новом доме получили, что это, по-вашему? Внук ваш в техникум поступил, учиться поехал– как это называется? А вы: «Что за напасти такие на нас!..».
Потом я вспомнил этот короткий разговор, наткнувшись в подшивках «Литературной газеты» на анкету «Наука и общество». Внимание мое привлек ответ профессора Юджина Вингера (США) на вопрос: «Какие наиболее важные научные открытия могут произойти в обозримом будущем, о чем вы мечтаете?»
Профессор Ю. Вингер тогда ответил:
«О каком научном открытии я мечтаю? Я бы хотел, чтобы был найден какой-нибудь способ объяснить всем и каждому, что счастье не во власти, а в работе и ряде мелких достижений».
Я готов прийти на помощь профессору и подсказать, что открытие такое сделано в Советской России 62 года назад и официально закреплено в Основном Законе Союза Советских Социалистических Республик.
«БОЛЬШЕВИК» ГЛАЗАМИ СИБИРЯКА
Покидал я Крутые Горки со спокойной душой.
Единственное, что мне хотелось на прощание, – встретить в Кургане знающего человека, который смог бы помочь определить место совхоза «Большевик» на общем фоне сибирской земли.
Пусть, может быть, строго, но определенно и справедливо.
В Кургане на этот раз мне не удалось это сделать. Так вот уж получилось. А надо, очень надо было взглянуть на «Большевик» глазами сибиряка, знающего до тонкости, «почем здесь хлебушко достается», человека, который бы помог определить мне, заезжему корреспонденту, и место этого совхоза среди других хозяйств области, и промахи его назвать (если такие были), и заслуги отметить.
Для себя я эту задачу отметил протокольно: «Расставить акценты».
И вот надо же, такая незадача: на обратном пути угодил я в Курган как раз под субботу, а срок командировки истекал уже в понедельник.
Но тут бросил мне спасительную соломинку редактор «Молодого ленинца» Игорь Чумаков и его с азартом поддержал журналист Анатолий Дмитриев.
– Если тебе никак нельзя без этих самых акцентов, наберись смелости и добейся встречи с Геннадием Федоровичем.
– С каким Геннадием Федоровичем? – У меня где-то в глубине души затеплилась надежда.
– С Сизовым, естественно. Председателем Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Сизов много лет проработал первым секретарем Курганского обкома партии. Кстати, начинал он здесь свою работу директором треста совхозов. Причем в самое трудное послевоенное время – в сорок восьмом году.
Подключился снова Анатолий Дмитриев.
– Все от человека зависит, – начал он философски. – А Геннадия Федоровича курганцы хорошо помнят за его простоту, человечность. Особенно хлеборобы. Он в этом самом «Большевике», к тому же раз сто, наверное, бывал. Я, кстати, жил тогда в Шумихе, я это точно знаю.
…Ровно в 15.30, как было условлено, секретарь Г. Ф. Сизова, невысокая женщина с открытым добрым лицом, пригласила меня в кабинет.
Навстречу мне легко поднялся среднего роста, плотно сбитый человек в светлой рубашке и нарядном галстуке. Лицо его показалось незагорелым и чуть раскрасневшимся от жары: на улице 29 градусов тепла как-никак. Брови русы и голубые глаза выделялись острым вниманием и доброжелательностью.
Уже в начале беседы выяснилось, что историю совхоза «Большевик» Геннадий Федорович знал и знал неплохо. И особенно его самые трудные послевоенные годы.
– Принял я курганский трест совхозов в марте сорок восьмого…
Геннадий Федорович встал, прошелся по кабинету, задумчиво посмотрел в окно на Новую площадь, на беспрерывный поток машин.
– Трудное было время…
Во многом нас выручила тогда агросистема Мальцева. Терентий Семенович – наш земляк, курганец, и он прекрасно знал эту землю, ее характер. Правда, любовь тут была взаимной: Мальцева тогда, я имею в виду конец сороковых годов, самое начало пятидесятых, знали мало. Опыты его были еще несколько кустарные, замыкались небольшим полем у себя в Шадринском районе. Мы сделали его агроучение достоянием всей области, всей нашей сибирской зоны.
Приживалась его наука неходко, со скрипом. Многие специалисты, руководители, да и ученые с легкой руки окрестили его учение так: «Метод безотвальной вспашки Мальцева». А ведь чепуха это! Это значит, выхолостить из мальцевского учения самое главное – комплекс всей системы. Суть в том, что учение Мальцева, как мы его усвоили, – это не просто наука о безотвальной глубокой вспашке. Это основанная на многолетнем опыте и проверенная жизнью, землей сибирской научная система хозяйствования на этой земле, получения высоких устойчивых урожаев в условиях зоны так называемого рискованного земледелия. Что она в себя включает, эта система?
Безотвальная вспашка. Раз. Норма высева зерна на гектар. Два. Мы же, к примеру, до Терентия Семеновича высевали на гектар по полтора центнера, а чаще всего и того меньше. А Мальцев – по два, два с половиной центнера. И при этом мы всегда теряли в урожае, как там ни паши.
Третье – сроки сева. Это очень важный фактор для нашей зоны. А вот который из них главней, сказать затрудняюсь. Да их и нельзя порознь рассматривать.
Вот этот-то фактор: сроки сева – как раз и не брался во внимание в те первые послевоенные годы.
Сроки эти самые, как правило, устанавливались сверху и спускались к нам, вниз. А вместе с указаниями направлялись уполномоченные, следить, чтобы они безукоснительно выполнялись. И обычно эти уполномоченные старались сев провести пораньше, чтобы скорее отчитаться. А особо ретивые, так еще и раньше указанных сроков старались отсеяться, досрочно, значит. В те годы даже присказка ходила такая про этих уполномоченных: «Куда едешь?» – «На сев». – «Сеять, значит?» – «Нет, жать!»
И получалось, что жали-то в конечном счете на землю. А земля насилия не терпит. Она мстит за него хлеборобам.
Что такое, к примеру, посеять рано у нас, в Курганской зоне?
Допустим, отсеялись мы где-то до 10 мая. Сообщили об этом «радостном» событии в центр. Разъехались по домам довольные уполномоченные. Вскоре посевы взошли и к началу июня уже куститься готовы. А начало и первая половина июня у нас обычно попадают под засуху. Задуют суховеи и прихватят, опалят посевы. Потому-то Терентий Семенович, например, никогда раньше 10 мая в поле не выезжает с сеялкой, а все где-нибудь поближе к середине мая. Отсеется, скажем, до 20 мая. Наступил июнь, пора засухи, и семена спокойно перенесут ее, укрытые в земле.
И этот третий фактор из системы Мальцева мы и взяли также на вооружение. Пришлось, конечно, повоевать, попартизанить. Вот так и получилось: был «доставало», потом стал «партизан», – улыбается Геннадий Федорович.
– Правда, сверху на нас особо уже не нажимали. Но была другая опасность – инерция, привычка, наконец, нетерпение самого хлебороба поскорее закончить весеннюю страду в совхозе и за свой огород приняться.
Но мы терпеливо ждали своего часа. И вот числа этак 14–15 мая (команды сеять мы еще пока не давали) сажусь я в «газик» и еду в степь. Еду и приглядываюсь внимательно. Смотрю, у соседей, у североказахстанцев, уже посевы прикатаны. А наши тракторы и сеялки еще на приколе. И вот представляете – тишина стоит в степи… Только слышно, как жаворонки заливаются. Земля на ощупь теплая, прогрелась, зерно готова принять. И погода как по заявке, самое время начинать.
Но знаю: надо, надо еще денек-другой продержаться.
Встречают специалисты, и те из них особенно, которые помоложе, мнут землю в ладонях и глазами спрашивают: «Может, пора? Может, начнем, а?» Уж очень велик был соблазн отсеяться раньше, свалить наконец со спины эту тяжелую ношу и расправить плечи.
Нет, говорю, не пора. Годить, годить еще малость надо…
И снова едем дальше. И чем дальше, тем больше боюсь: не выдержат у кого-нибудь нервы, сдадут. А ведь это дело такое – стоит только одному сорваться, все пойдут.
Поздно ночью возвращаемся в Курган. На другой день, уже ближе к вечеру, объявляю перекличку по радио. Во всех хозяйствах, райкомах, райисполкомах включается радиотехника. Вначале шумы разные, помехи идут из эфира, потом наступает тишина. И слышно (а может, это только мне кажется), как настороженно дышат там, у микрофонов, люди в ожидании сигнала.
А утром на другой день уже не спится. И встаешь вместе с первыми петухами, и чудится тебе, будто гудит земля, и от причастности к этому таинству, к вечному и священному делу на душе становится светло и чисто…
И нельзя забывать еще один фактор – это черные пары. Систему Мальцева без этих самых черных паров в условиях сибирской степи нельзя поднять.
Что такое эти пары? Это прежде всего отдых земле. А значит, забота о будущем урожае. Вот этого-то не могли, к сожалению, понять некоторые.
А черные пары без дополнительного внесения удобрений давали отличный урожай. И в первый, и во второй, и в третий годы.
Они в самом деле были черными – по весне ни одного сорняка не увидишь. Но для этого использовалась также особая, мальцевская система подготовки и обработки этих паров…
Некоторое время Геннадий Федорович сидит молча, погруженный в свои, только ему ведомые хлеборобские мысли, затем с интересом спрашивает:
– Так, значит, недавно из «Большевика»? Какие там новости?
Рассказываю коротко: с кадрами хорошо, только коммунистов в совхозе 107 человек. И молодежи много. Хозяйство расстраивается – жилые дома со всеми удобствами каждый год вводят, баню новую недавно пустили, гараж теплый для «Кировцев» соорудили, асфальт протянули от Шумихи почти до центральной усадьбы без малого, и сейчас «Большевик» с Курганом связан прекрасной дорогой.
А Сизов интересуется дальше:
– Помню, «Большевик» был раньше зерновым хозяйством. Как он теперь, идет тем же курсом или, может, уже сменил свой профиль?
– Изменил, – отвечаю как есть. – Сейчас это уже специализированный свиноводческий совхоз.
– Как изменил? – удивленно улыбается и, как мне показалось, огорчается Сизов. – Он же испокон веков на зерне поднимался! Что же с землей они собираются делать? Такие выпасы там! Свиньи-то, сколько я знаю, траву не едят. А знаменитое на весь мир курганское масло! Оно и сейчас, по-моему, высоко ценится на европейском рынке, особенно в Лондоне. В пойме Миасса такие тучные выпасы – богатейшее разнотравье! Оттого и масло получается особенное, душистое, курганское… Что-то тут не так…
Насчет «не так» я уж слышал в совхозе. Они сами жалуются, что только за последние три года у них сменилось три куратора – сначала передали в распоряжение производственного объединения совхозов, затем зернотресту, а сейчас вот тресту Свинпром.
– Не знаю, может, тут и есть какой-то смысл, – продолжал раздумчиво Сизов, – но абсолютно уверен, что на стопроцентную специализацию «Большевику» переходить неразумно. У них же земля – пашня, выпасы, ее надо рационально использовать, брать все, что она может родить.
Другое дело – направление свиноводческое, профиль. Но только не голая специализация…
Геннадий Федорович оживился:
– Как-то не очень давно приехал я в один совхоз. Беседую с директором, со специалистами. Спрашиваю, между прочим:
– Как дела с молоком?
– А никак, не разводим коров, – отвечает.
– Где же берете молоко? Для детского садика, для яслей, для столовой?
– Завозим. У соседей покупаем.
– Ну а с птицей как?
Разводят руками:
– Не обзавелись птицей…
– А яички откуда завозите?
– Откуда придется. По-разному. В общем, тоже покупаем.
– Что же производите?
– Картошку садим, свиней разводим. Овощи там разные.
Вот так, не по-хозяйски, распоряжаются землей. У воды, как говорится, живут и пить просят… Не получилось бы так с «Большевиком».
И спросил вдруг с интересом:
– А как там жив-здоров Григорий Тимофеевич Хохлов? Все директорит?
Вспоминаю последнее партсобрание, на котором Хохлов был снят с учета «в связи с переездом и переходом на другую работу».
– Перевели его на другое хозяйство, в соседний Юргомышский район, тоже директором.
Ответил Сизов на это уклончиво:
– Бывали, правда, у него срывы. Однако целеустремленный и настойчивый человек Хохлов… «Большевик» он поднял и сил для этого, да и здоровья не жалел.
На прощание Геннадий Федорович посоветовал в будущей книге непременно вернуться еще раз к тем трудным, но славным дням довоенных и послевоенных лет.
– Надо помнить об этих годах и не забывать отдавать дань уважения тем людям, которые вынесли на своих плечах все трудности и невзгоды, не требуя ни похвалы, ни наград, а думая только об одном – о будущем, вот об этом прекрасном сегодняшнем дне в те яростные годы испытаний…
* * *
Я снова перечитал все 17 томов приказов, все подшивки эмтээсовской и районной газет тех первых шагов коллективной жизни. Вспоминая рассказы очевидцев о том, как где-нибудь на хуторе отдельные крестьяне вымещали свою вековую ненависть к кулаку-мироеду на его избе, спиливали углы, сжигали половицы, а потом сами селились в этом доме и мерзли в длинные уральские зимы. И мне становилось жаль их. Я смотрел на те события с высоты сегодняшнего дня, глазами человека, живущего во втором пятидесятилетии после Октября.
Мы дети своего века. И наш суд может быть несправедливым: нас не караулил кулацкий обрез, не косил безжалостный тиф.
Вправе ли мы претендовать на абсолютную истину в оценке поступков и противоречий прошлого? Не знаю. Однако в любом случае мы не вправе забывать то прекрасное, которое эти люди создавали для нас, жертвуя собой.
Я закрываю толстые книги приказов. Автор их многолик и в то же время один – ВРЕМЯ. Первые приказы написаны на блеклой линованой бумаге. Книги военных лет склеены из мягких обоев, и только книга послевоенных приказов написана, что называется, на нормальной бумаге…