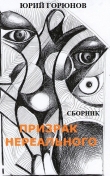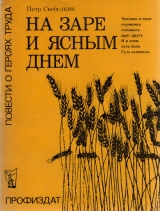
Текст книги "На заре и ясным днем"
Автор книги: Петр Скобелкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Потом у памятника на заступочек встал тогда наш директор Косарьков (Соломенник как ушел в армию, так больше и не вернулся), снял свою фуражку и сказать что-то хотел, да не смог, видно, не совладал с собой и просто закричал: «Ура-а-а!» И мы все тоже кричали: «Ура!» А кто-то принес ружье и пальнул кверху. А я подумала, что ни Саша, ни Коля никогда больше здесь не будут…
Так кончилась война.
И ЯСНЫМ ДНЕМ…
Победа, выстраданная и завоеванная потом и кровью, принесла и радость и печаль. Печаль об ушедших в бой и не вернувшихся оттуда.
Кончился последний военный год, и над теплой землей буйно цвели вдруг воскресшие яблони.
Однако весна не приготовила много радости. Земля была истощена, люди измотаны, техника пришла в разнос. И по-прежнему было голодно. Еще действовали хлебные карточки. Недоедали дети.
С фронта вернулись немногие. Да и те, вернувшиеся, были, как тогда говорили, «излом да вывих».
Подошла пора сеять. Время ответственное. Как-то оно пройдет?
Так уж сложилось, что совхоз «Большевик» был чем-то вроде барометра. Барометром настроения людей, их мерой ответственности. Хорошо идут дела в «Большевике», доброе настроение в Шумихе, во всем районе. Застопорилось что-то в совхозе, хромает на обе ноги весь район. А Шумихинский район в Курганской области очень заметный. На него оглядывались и другие.
И вот едет в Шумиху, а оттуда, разумеется, и в «Большевик» Геннадий Федорович Сизов, в то время первый секретарь Курганского обкома партии, ныне председатель Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС.
Об этой запомнившейся надолго поездке он и сейчас вспоминает с невеселым настроением:
– Весна в тот год выдалась ранней, в апреле уже хоть сей. А на дворе уже май… Еду я, значит, по районам, – вспоминает Геннадий Федорович. – А в степи тихо, жутко – ни трактор не тарахтит, ни машина не пройдет. Почва уже прогрелась, зерна просит, марево струится над теплой землей. Но стоят тракторы! Не идут машины. Молчат, будто умерли – запчастей нет! А в иных бригадах и тракторов-то вообще не было.
Заехал в «Большевик». Направился в совхозную контору. Но попасть туда сразу не удалось: у самого входа окружили меня женщины. Узнали. Да и верно, как не узнать – я и до этого в совхозе бывал часто, раза два по крайней мере в месяц обычно.
Так вот, окружили они меня, не пускают, за рукава тянут несмело, просят:
– Хлебца бы ребятишкам в детский садик… Не помирать же им с голоду. Война кончилась ведь…
И сейчас помню лица этих женщин – темные, худые. Смотреть в их голодные глаза было невыносимо. Многострадальные кормилицы, они не о себе заботились и переживали всю долгую войну – о фронте, о победе, о детях. О себе у них и мысли, видимо, не было.
Война-то кончилась. Победа на нашу улицу пришла. Но сразу-то ничего не делается. Страна опустошена. Хозяйства запущены. Земля обрабатывалась кое-как – ни техники настоящей, ни специалистов. Откуда хлеб?!
И вот можете представить вы себе мое невероятное, нелепое и, можно сказать, жестокое положение: сам-то я приехал как раз за этим – просить у них хлеб! Забрать хлеб.
Вот ведь какие трагедии были…
Были истории и еще печальнее этой. Только вспоминать их сейчас не хочется, да и не стоит.
Одним словом, время было страшно тяжелое: скот кормить нечем, людей кормить нечем. Своих, совхозных, не оделишь, голодные. А ведь надо еще, мы должны были это делать, кормить страну, рабочий класс кормить…
Сизов долго молчал, перенесясь, видимо, мыслями, да и чувствами своими в те трудные далекие годы. Потом заговорил о том, как вставали люди на ноги, как поднимался «Большевик».
Где-то улучив паузу, я несмело спросил у Геннадия Федоровича, чем все же окончилась та печальная история с женщинами, ребятишками и хлебом…
Геннадий Федорович посмотрел на меня удивленно и строго, почти сердито и спросил:
– Ну а как же вы думаете чем? Как я мог поступить в тот момент?
Сизов уже спокойно закончил:
– Дали же, конечно, ребятишкам хлеба. И мяса дали и молока. И конфет-леденцов достали.
Помолчав, вспоминает дальше:
– …В другое хозяйство заехал. Тоже тихо, не сеют – горючка кончилась и кормежки нет. А голодный человек, что он наработает?! Такие тогда были дела… Вот и носишься по области из конца в конец, перебрасываешь из одного места в другое – кому бензин, кому подшипники, кому мясо. И уж вовсе не директор треста совхозов я был тогда (это еще до обкома), как официально значился, а просто «доставало». Так я сам себя тогда окрестил…
Какие уж там сроки сева, агротехника! Земля и без того запущена, истощилась за войну. Что она могла родить? От силы пять-шесть центнеров на гектар.
А пришла уборка, та же картина: убирать нечем. Но ведь надо еще и зябь поднимать! Сибирь, она весновспашки не любит. Чем? Какими силами и средствами все это делать? Сейчас вот совсем другое дело, все зависит от ума. А тогда хоть у тебя семь пядей во лбу, не прошибешь. Да и урожай, если вдруг выпадет, тоже беда. Помню, в один послевоенный год уродилось по тридцать пять центнеров на гектаре. Как их взять? «Коммунар» – комбайнешко слабосильный, не по такому урожаю. Захлебывается, давится хлебом. А тут еще дожди – и вовсе встала техника. Потом снег. Запал хлеб… Но ведь жалко, хоть тут плачь! Искали спасение. Молотили по весне. И знаете, по восемнадцать центнеров весной еще все равно взяли!
Вот так мы поднимались после войны. И в конце концов все-таки болезни прошли, дитя выжило…
– Но случилось, понятно, не сразу. Коренной поворот произошел восемь лет спустя после мартовского Пленума ЦК КПСС 1953 года.
Именно после этого Пленума в «Большевике» по-настоящему поняли и учение своего славного земляка Терентия Семеновича Мальцева. Система Мальцева обрела тогда уже и материальную силу. Его советы, его многолетний опыт становятся зримым достоянием хозяйства…
Почему же о нем здесь, о Терентии Семеновиче? Хотя почему бы и нет: Мальцев тоже сибиряк, тоже курганец. Не только зона – область одна, земляки. Но истинная-то суть здесь не в этом.
Есть люди, не рассказав о судьбе, о мыслях и поступках которых, труднее понять судьбы и биографии других людей, живущих рядом. Именно таким человеком видится мне Терентий Семенович. Без его судьбы, без его отношения к полю не понять до конца и биографию поля «Большевика», хлеборобов.
Его мысли, весь жизненный путь – это и ответ на вопрос, почему устоял, выдюжил, победил «Большевик». Это похвала крестьянскому труду сибиряков, их отношению к полю, к его настоящему и будущему.
* * *
Мне неоднократно приходилось встречаться с Терентием Семеновичем, бывать у него в доме в его родной деревне Мальцево Шадринского района той же Курганской области. Из всех этих встреч с народным академиком я вынес, мне кажется, главную черту его характера, его мировоззрения – это ответственность за землю и за тех, кому она достанется в наследство, – за молодых хлеборобов. Вот на этих священных критериях своего земляка и воспитывались целые поколения хлеборобов «Большевика».
Вот почему так высок авторитет этого народного академика, почему к нему идут учиться. Учиться не только науке управлять землей, но и человеческой мудрости.
А сейчас мне хотелось поделиться своими впечатлениями о встречах с этим мудрым человеком и вспомнить заодно те любопытные детали его биографии, которые характеризуют всю большую судьбу курганского академика.
ГОРСТЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
…Когда отец сказал ему, что обязательно выпорет и несмотря на то, а именно потому, что он его сын, Терентий забоялся. И, пожалуй, не то слово «забоялся» – обеспокоился. Ведь наказание обещал исполнить его родитель. А это значило больше, чем обычная взбучка.
Было это пятьдесят пять лет назад. Но как сегодня Терентий Семенович видит тот майский день. А день этот выпал на праздник, большой, уважаемый дедами и прадедами праздник – пасху.
– Только посмей, отлуплю! – пригрозил в последний раз отец.
Для Терентия пасха значила не больше дня рождения чужого дяди, но открыто выступить против родительского запрета он не смог. Однако и отказаться от своей выношенной затеи тоже не мог. А еще знал Терентий, что отец уважал его и ремня отведать не придется. Однако отец есть отец. Потому перечить не стал. Решил выждать.
На другой день праздника папаня и родственники укатили в соседнее село Канашево справлять пасху. Дождавшись, когда они уедут, Терентий запряг лошадку и в поле.
Парни, значит, гуляют, пасхальные крашеные яйца на крепость пробуют, а Терентий пашет. Хороводы водят, а он лошадку погоняет.
Слух об этом быстро по селу разнесся. Народ сбежался. Молодые посмеиваются, старики бранятся на чем божий свет стоит: «Терешка! Безбожник! Нехристь, против обчества?!»
А он знай себе лошадку понукает.
Как и думалось Терентию, с отцом он уладил, все обошлось ладом.
И вот подоспело время сеять. Выехали в поле все. Нарядились. Как принято испокон веков, накануне в баньку сходили, все честь честью. Выехали и Терентий с отцом. У межи своей встали. А народ потешается. И ведь было, так они тогда думали, чему: у всех поля чистые, а у Терентия пашни не видно, один сорняк. Отец недовольно крякал, косясь на сына, а сын успокаивал: «Папаня, это нам только и надо, не торопись!»
И не сеять стали отец с сыном, а боронить, вырывать с корнем эти самые сорняки. Прошлись два раза, а на третий и посеяли.
Осенью на поле Терентия вымахала ровная чистая пшеница с тугим колосом. А у тех, кто потешался, суховей высосал из колоса жизнь, а живучий сорняк и вовсе доконал хилые колосья.
Позицию, занятую Терентием Семеновичем в отношении к земле, образно назвали уже на другом континенте, в Северной Америке, «безумием пахаря».
Такая вот была первая борозда у Терентия Семеновича.
А ведь и после жизнь не баловала деревенского пионера-хлебороба.
Не раз и не два Терентий Семенович получал за свое «самовольство» шишки. Так, в 1948 году, уже будучи лауреатом Государственной премии и депутатом Верховного Совета СССР, Терентий Мальцев был подвергнут резкой критике в областной газете. Правда, фамилия его не называлась. Статья в газете имела строгий и весьма недвусмысленный заголовок «Не в ладах с агротехникой». Речь в заметке шла вроде не о Мальцеве, критиковались председатель колхоза, директор МТС, председатель райисполкома. Но всем было ясно, что речь шла о методах Мальцева. Статья заканчивалась категорическими предложениями: «Пора районным организациям покончить с невмешательством в дела колхоза и навести в нем порядок… Долг колхозников, хозяев артели, поправить его грубые ошибки в севе».
Разумеется, справедливость восторжествовала. 24 апреля 1966 года Терентий Семенович Мальцев в газете «Правда» со всей присущей ему прямотой напишет:
«В недавнем прошлом у нас в науке… отнюдь не все было ладно. Многим ученым приходилось молчать о своих убеждениях, а подчас и отказываться от них. Ясно, это сильно повредило всей сельскохозяйственной науке. Теперь каждому ученому предоставлено право говорить о своих научных взглядах во весь голос.
Надо отбросить манеру вести дискуссии в оскорбительном тоне, ибо ничего полезного от нее ждать нельзя. Надо быстрей покончить с порядками, когда ученый говорит о своих достижениях лишь в том случае, если они не противоречат «установке». Сколько неумных «установок» родилось только потому, что их авторы, тонко чувствующие конъюнктуру, были ограждены от научной критики».
Себя Т. С. Мальцев никогда не ограждал от критики и всегда предупреждал, что его учение отнюдь не панацея от всех бед. Наоборот, он настойчиво советовал подходить к его выводам конкретно.
– Я, товарищи, – говорил он, – немножко опасаюсь, как бы мои предложения не превратились в новый шаблон… А шаблон, каким бы он ни был – старым или новым, он больше ничем не может быть, как самим собой, то есть шаблоном.
Но, прежде чем восторжествовала знаменитая система Мальцева, не раз и не два он отстаивал ее, воюя с косностью.
Упрямо и настойчиво боролся Терентий Семенович за свою идею. И сумел доказать свою правоту.
Сейчас его цитируют с уважением не только руководители хозяйств, но и ученые, посвятившие свои труды сельскому хозяйству. И вот эти его ставшие знаменательными слова: «Человек и Природа. Они всегда один на один, как за шахматной доской. При этом Природа всегда имеет право первого хода. Она определяет начало весны, приносит жару, холод, дожди, суховеи и заморозки. И Человек, никогда не зная очередного хода Природы, должен ответить таким, который бы принес урожай».
Главный принцип его: в любом деле, и в земледелии в том числе, а может быть, и в особенности, необходим жизненный подход.
Терентий Семенович всегда подчеркивает, что земледелие – дело творческое. А потому оно особенно не терпит никакого шаблона, в том числе и шаблона декретированного. Только всесторонний учет местных природных, почвенно-климатических и экономических условий, анализ и разумное использование многолетнего, обязательно глубоко проверенного на практике опыта создают ту основу, на которой успешно может развиваться и давать наилучшие результаты полеводство.
А творчество, как известно, встречает на своем пути немало препон и рогаток.
– Ведь что зачастую получается? Хозяева вроде есть, а ответственных нет, – сетует Терентий Семенович. – Пашут, как привыкли, сеют, что прикажут, лишь бы отрапортовать. Не везде, конечно, зачем говорить зря, очень много настоящих, рачительных хозяев и просто совестливых работников. Но рядом с ними нет-нет да и встретишь безответственного человека, и такой процветает и даже получает благодарности.
У нас тоже было по-разному. Но очень многое зависит от нас самих, от нашей настойчивости, принципиальности. Вот в первую послевоенную колхозную весну даже с милицией не заставили сеять, мы сумели убедить. Но на другой год меня ругали устно и печатно за нарушение сроков сева, а осенью хвалили за высокий урожай. И так продолжалось девятнадцать лет: весной ругают, осенью хвалят. Я как-то рассказывал, какой разговор состоялся со мной на совещании в Кургане в 47-м году. «Принимай, – говорят, – обязательство». – «Ладно, – говорю, – принять можно, только сеять буду не рано, а тогда, когда надо». – «Нельзя, ты не сеешь, другие на тебя глядят». Заставили, тогда много не разговаривали. Но все же пар я не дал засеять весь. Трактор ЧТЗ у меня сломался, надо ехать за блоком, и я подумал, что, пока езжу, засеют без меня. Позвонил товарищу в район. «Покарауль, – говорю, – землю, чтобы не засеяли, а я за блоком съезжу». Покараулил он. А когда я начал досевать, то уничтожил несколько делянок раннего посева (там уже всходы раскустились) и на том месте посеял тот же сорт пшеницы. Прошло время. Приезжает второй секретарь обкома, глядит: поле будто полосатое – поздние делянки выдержали засуху и стоят густые, темные, а на тех, что посеяли рано, хлеба жиденькие, низкие. Уехал он и доложил в обкоме, что Мальцев уничтожил часть ранних посевов и сделал свои делянки. Лобанов, первый секретарь, приехал сам, поглядел, прислал специалиста и корреспондента из областной газеты. Вот тогда-то и появилась статья «Не в ладах с агротехникой».
Не отступил я, написал в ЦК партии: «У меня хороший урожай, пусть убедятся». Выехали три человека, убедились. Потом вызвали на бюро ЦК всех нас, заслушали и постановили: разрешить нашему колхозу сеять по моему усмотрению в смысле сроков.
Ну а если говорить о земледелии как о творческом деле, здесь надо отдавать всего себя. Без остатка. Только тогда ты познаешь плоды своего труда.
Когда говорят о секретах творчества, продолжал Мальцев, я всегда вспоминаю пример, который приводит Гельвеций в своей книге «О человеке». Гельвеций рассказывает об одном земледельце. Так вот, земледелец этот, некто Гай Фурий Кресим, стал получать с маленького клочка земли большой урожай. Злые люди стали завидовать, обвинили его в колдовстве и добились того, что над ним был устроен суд. На суд Гай принес весь свой сельскохозяйственный инвентарь – кирки, лемеха, привел волов. Показал все это судьям и сказал:
– Вот мое колдовство, квириты, но я не могу показать вам или привезти на форум мои ранние вставания, мое бодрствование по ночам, проливаемый мною пот.
Никак нельзя сказать после всего, что нам известно о Терентии Семеновиче: «И удивительное дело…» Только так, только потому, что ученый не мыслит себе Природы без Человека, без своего личного участия.
И еще одна черта, без которой немыслим академик Мальцев.
Терентий Семенович отдает очень много времени воспитанию в человеке не просто хлебороба, а гражданина, глубоко сознающего и чувствующего свое гармоническое единство с природой. И самая его большая забота и печаль – это молодежь села, ее гражданские и нравственные устои.
Почетному академику ВАСХНИЛ, Герою Социалистического Труда Терентию Семеновичу Мальцеву уже за 80. Однако, несмотря на свой возраст, Терентий Семенович, как и прежде, остается добрым наставником молодых селян.
Вспоминаю еще одну встречу с Терентием Семеновичем.
Это была несколько необычная беседа.
Речь тогда шла не об агротехнике, не о земле – о воспитании молодых. И здесь открылась другая сторона Мальцева: не просто ученого, но и педагога.
– Для нормального нравственного развития молодежи сейчас созданы все условия. И тем не менее будем откровенны, мы еще окончательно не освободились от пороков прошлого. Ну таких, например, как пьянство, хулиганство, тунеядство, неуважение к старшим…
– На ваш взгляд, Терентий Семенович, чем объяснить подобные нежелательные явления среди нашей молодежи? Чем вызваны безнравственные поступки отдельных молодых людей? Многие видят одну из причин в образовании. Как правило, утверждают они, носителями этих пороков являются люди малообразованные или, в ином случае, не имеющие высшего образования…
Вот с этим я никак не могу согласиться. Мы ведь раньше тоже считали или, во всяком случае, хотели так думать, что грамота дает все. А ведь это, оказывается, не так. Я могу привести не один пример, когда люди, даже имея высшее образование, совершают весьма неприглядные, антиобщественные поступки.
Умственные способности, не просто грамотность, иногда соседствуют с самой низкой нравственностью и культурой. Широта ума, такт и энергия, честность и прочие качества могут отсутствовать и в ученом человеке. – Тут Терентий Семенович лукаво улыбается: – Если согласиться с мнением о том, что носителями пороков являются люди, которые не получили в учебных заведениях достаточно образования, то я самый безнравственный человек.
Тут, уже наслышанный «об университетах» народного академика, не выдерживаю я:
– Терентий Семенович, простите за деликатный вопрос. Я знаю, что университетов и академий как таковых вы не проходили. А сколько все-таки классов закончили?
– Нуль! Нуль классов. Что скажете на это? – озорно, вызывающе отвечает он и уже спокойно добавляет: – Вон няня Пушкина Арина Родионовна, ведь уж совсем неграмотна была, а ее сказки Александр Сергеевич величал поэмами и любил ее и уважал…
И еще одна встреча с Терентием Семеновичем в Мальцеве. Пятистенный дом его стоит в центре села. Одну половину дома и занимает хозяин. Нет, пожалуй, я неточно выразился, не хозяин, а книги. Сам же хозяин приютился между стеной и огромным шкафом. Два стола – за одним Терентий Семенович работает, за другим работает и пьет свой чай. Чай по-мальцевски: крепкий и ароматный. Но и столы эти оба завалены книгами.
Я был поражен этим книжным богатством. Ну посудите сами, свыше 5 тысяч экземпляров! Районная библиотека позавидует. Да еще как! В районной библиотеке, что греха таить, из пяти-то тысяч экземпляров добрую тысячу можно без особых переживаний сдать если не на макулатуру, что в лучшем случае в архив по физической и моральной старости.
Открываю дверцы одного шкафа – полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. С. Тургенева…
В другом шкафу, что слева, в солидных томах, изданных еще Сытиным и Марксом, философские труды Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Дидро, Оуэна, Спинозы, Гегеля, Лассаля, Песталоцци.
Раскрываю первую попавшуюся под руку книгу, вся она испещрена пометками, другую – красные, синие, зеленые карандашные линии почти на каждой странице.
Вот он весь тут, этот самый «нуль классов…».
– Терентий Семенович, и все-таки хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу: что определяет нравственность, где ее родная (главная, первая) колыбель?
– Ходят такие поговорки: «Манеры делают человека», «Ум делает человека…» Но есть и еще одна, и, думаю, она точнее других: «Семья делает человека». В этом я убежден.
Он по-молодому бодро повернулся к книжному шкафу, что слева, и, не переложив ни одной книги, уверенно достал и разложил на столе шесть томов каких-то, видимо, старинных книг. На обложках их ни названий, ни имен авторов указано не было.
– Вот очень любопытный философ. Это английский моралист Самуил Смайльс.
Он подает мне тяжелый том. Вверху «Самуил Смайльс». Посредине название книги: «Долг». Еще ниже: «Великие принципы и трактаты о важных вопросах и о конечных истинах и началах мудрости…» Это только начало названия трактата. В самом низу – «1895 г.»
– Здесь, кроме «Долга», «Саморазвитие», «Характер», «Честность» и прочее.
Так вот Смайльс приводит такие слова… Минуточку. Да. «Нации выходят из детских». Нации! Не только отдельные личности. Разве это не так? Или еще: «Одна хорошая мать стоит сотни школьных учителей». А вот, кстати, и по поводу нашего вопроса об учености и нравственности: «Горсть добрых дел стоит четверика учености».
Допустим, я не разделяю до конца все нравоучительные и поучающие взгляды и выводы этого моралиста, но то, что мы только что прочитали, разве не истинно?
Мы, особенно старики, любим иногда хулить молодежь, винить ее во всех грехах. А ведь, если разобраться строго, мы сами виноваты во многом. Мы сами создали, значит, такие условия. Некоторая апатичность отдельной части молодежи? Ее вина? Нет. Она у кого-то же училась! Все рождаются одинаковыми. Кого хвалить, что добрый сын вырос? Кого винить, что появился оболтус? Семью. Только семью. Она первая ячейка, где рождается и человек и гражданин.
Говорим, внушаем молодежи: надо любить кормилицу нашу землю. А когда спохватываемся об этом говорить? Да когда наши дети уже не дети, уже паспорт получили.
Раньше была такая в народе мудрая поговорка: «Учи ребенка, пока поперек скамейки лежит, а как ляжет вдоль – уже поздно будет». Надо научить молодежь любить землю… Что может быть священнее этого долга! Научить… А мы отрываем детей от земли до восемнадцати лет. Идет, скажем, сев, ребятишки учатся, уборка в разгаре, они в школе. Учить, по-моему, надо не с первого сентября, а с первого октября и не до июня, а до первого мая. И чтобы уроки-то в школе были связаны с сельским трудом. Самый лучший, а может, и единственный способ привить любовь к земле – это труд. Нас раньше с детства привлекали к труду. Что мы, хуже от этого стали? Мы благодарны за это нашим родителям. Да нам и самим хотелось походить на старших, тебе самому хотелось раньше стать мужиком-то. А над теми, кто отлынивал, не хотел работать, смеялись. У нас и игры раньше были «трудовые». Мы подражали взрослым, их работам. Играли в пахарей, пахали на заулках, в сеятелей…
Помню, у нас в школе тоже игры были связаны с крестьянским трудом. Была у нас любимая игра «А мы просо сеяли».
– Сейчас вот в «ручеек» играют, – робко вставляю я фразу.
– Не хочу бранить все «что теперь». Есть и сейчас прекрасные семьи. Говорю о том, что теряем мы что-то доброе и нужное из старых традиций и обычаев.
Современный ребенок еще не успел родиться, ему уже все готово – и игрушки и безделушки. Завалят на радостях. У нас никаких игрушек не было. Нашел камушек, стеклышко – радость-то какая! А постарше стали, сами делали себе эти игрушки – и сабан и борону.
Видимо, беды большой в том нет, что у детей сейчас игрушек много. Нашей детской индустрии надо отдать должное. Суть, мне кажется, в другом – в умеренности и разумности. В самом деле, если у ребенка все-все под рукой, что захотел, то и есть. «Хочу велосипед трехколесный» – и родитель, сломя голову летит в «Детский мир»; «Желаю самоходный танк» – вот тебе танк, у такого ребенка не пропадает, а просто не возникает интерес к изобретательству, к творчеству. А откуда он появится, когда все, что бы ни захотелось детке, есть? А коли нет, стоит только захотеть, и сердобольные родители в момент тебе все это доставят в детскую комнату.
Может, я не прав, но думаю, что надо взять все лучшее от старых обычаев и традиций. Сейчас выходных и праздников стало больше. Два выходных подряд. А чем занять эти два дня, не подготовились. И вот нарядятся парни и бродят, шляются без толку, без радости из конца в конец деревни. А к вечеру еще и напьются. В общем, получается веселое невеселье. Прежде меньше праздников было, но как готовились! И вот он пришел, этот праздник. Вся деревня гуляет, поздравляют друг друга, ходят в гости, молодежь игры устроит, песни поют, хороводы водят.
Не говорю, что копировать надо эти старые праздники, но ведь было в них что-то доброе и милое сердцу. Беречь его надо, это милое и доброе.
– Но вернемся к семье. Хотелось бы, чтобы вы, Терентий Семенович, поделились своим жизненным опытом воспитания детей в семье.
– Это долгая песня. Целую лекцию читать надо. А я не мастер читать эти самые лекции. И скажу, наверное, то, что уже давно известно. То есть я буду говорить о таких вещах, которые настолько устарели, что вполне могут выглядеть новыми.
Ну, во-первых, такая прописная истина, которую не всегда помним: ребенка легче воспитывать, чем перевоспитывать. Если мы забываем об этом, сам процесс воспитания становится неуправляемым.
Как воспитывать? Тут важно, чтобы ребенок не знал, что его воспитывают. Это должно быть само собой. Родитель воспитывает прежде всего своим примером. Ребенок смотрит, как поступают родители, и не просто подражает им, нет, он усваивает их поступки как единственную и нормальную норму поведения. Если отец, скажем, говорит одно, а делает иное, никакого добра от этого не получится. Да и не может получиться! Надо, чтобы дети уважали родителей не из-за страха, не из-за боязни. А это опять же зависит от личного примера.
Если мать будет внушать дочке, что вот такая-то одета неприлично, а сама будет уходить на вечера, скажем, в сверхкороткой юбке, никакого воспитания не будет. Ребенок перестанет верить. Контакт между ними распадется, появится ложь.
В нашей педагогике, да и среди родителей часто идут споры: какая семья лучше – большая или маленькая. Конечно, в большой семье интересней и полезней жить. Что это за семья – один ребенок?! По-моему, это эгоизм родителей – зачем лишняя обуза, поживем в свое удовольствие. Да и сам ребенок очень часто в таких семьях вырастает эгоистичным. Это незаметно, но так получается – оба родителя только над ним одним и дышат, только одного его и лелеют. В больших семьях дети вырастают более здоровыми в нравственном отношении.
– Простите, Терентий Семенович, а у вас какая семья?
– Шестеро. Было шестеро. Старший, Константин, офицер, погиб на фронте. Анка, дочь, со мной сейчас живет. Савва здесь, в Мальцеве, мой помощник, работает со мной на селекционной станции. Василий в Ростове, кандидат химических наук, преподает в инженерно-строительном институте. Валентина работает агрономом и самая младшая, Лидия, тоже агроном-селекционер.
Но вот ведь говорят: палка о двух концах. Если родители сами воспитаны дурно, то, с точки зрения воспитания, лучше уж один ребенок, чем большая семья. Но у нас сосед есть. Семеро детей. Отец и мать, мягко говоря, не являют пример благовоспитанности. И, пожалуйста, результат: двое сыновей сидят в тюрьме, третий – пьяница. У другого соседа, Макара, один сын и вот свихнулся. Ни сам Макар, ни его жена ничего не могли сделать. Ведь и смех и грех, мать-то этого оболтуса – учительница, а вот как получается, ходит сейчас жалуется во все общественные организации на сына. Пожалуй, надо браться за перевоспитание самих родителей, а может, начинать с этого.
Только так: с одной стороны, воспитывать родителей, а с другой стороны, воспитывать у молодежи уважение к старшим.
Помню, в детстве был у нас, в Мальцеве, старик, герой Севастополя, участник Крымской войны. И вот идет он по селу с тросточкой. Он идет, и все встают перед ним.
А сейчас идет не менее заслуженный старый человек, не поздороваются даже. Да что там не поздороваются! Не так давно у нас два парня избили старого заслуженного человека, который в войну защищал их же счастье. Так родители, вместо того чтобы наказать свое чадо, пришли ко мне. Вот, мол, ты депутат, помоги, заступись. А ведь это преступление! И вот посмотришь на этих грамотных людей и еще раз утверждаешься в мысли: нет, грамота сама по себе не дает нравственности.
Мой возраст, конечно, не мал, за восемьдесят годов. Может, ворчливость появилась. Но ведь все это не мелочное дело. И все это – и детские игры, и взаимоотношения между родителями и детьми в семье, и уважение к старшим – это же отношение к земле, отношение к родине твоих отцов. К Родине.
…Великое складывается из малого. Надо беспокоиться не только о том, что мы имеем сегодня, но и о том, что оставим после себя. Все мы сеятели на этой земле. Да, мы сеем добро. Но иногда кто-то сеет и зло. Очень это надо, чтобы каждый человек отдал этой земле, которая родила его, вскормила и воспитала, часть добрых дел.
Закрываю блокнотные записи этой беседы, мысленно возвращаюсь снова к биографии Человека и вижу, что понять крутогорцев, не рассказав о Мальцеве, почти невозможно. Разве можно говорить о хлебе, забыв при этом отдать дань земле-кормилице? И потом, именно здесь, в «Большевике», как нигде больше, были и есть у него не просто поклонники, но и достойные практики-продолжатели.
ЕЩЕ ОДНО ПРЕДИСЛОВИЕ К ХЛЕБУ…
…Как это, может быть, ни покажется странным, но случилось так, что сохранились приказы, изданные в «Большевике» в 1933 году, а вот послевоенных документов совхоза вплоть до 1968 года я так и не увидел.
С 1933 года до 1968 года прошло ровно 35 лет. И вот я листаю снова чем-то похожие, видимо только по-канцелярски, на те, давние, книги приказов и распоряжений директора.
Пожалуй, единственное общее, что их объединяет, – это стиль, положенный для любого официального документа. Так я подумал вначале, при первом просмотре. Но когда углубился в их смысл, то увидел то родство, которое объединяет эти документы разных лет. И общее – это доброта к людям, делающим хлеб. Доброта к тем, кто, несмотря на трудности, отдает все свои силы хлеборобскому делу – урожаю.