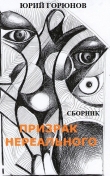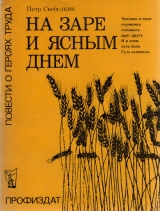
Текст книги "На заре и ясным днем"
Автор книги: Петр Скобелкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Он и «Катерпиллером» овладел самоуком. В 17 лет его уже никто из взрослых не кликал Колькой, а всегда уважительно величали: «Николай Егорович». В 17 лет он уже наравне с мужчинами обедал за ударным столом. И его отец, Егор Костромитин из соседнего колхоза «Память Ильича», не раз приходил в столовую, чтобы хоть тайком погордиться сыном, а потом рассказать об этом матери.
В тот трагический сентябрьский день, как и всю уборку, Николай Егорович работал в 3-й бригаде Горшковского отделения. Работалось особенно хорошо. К концу дня он уже выполнил свою норму и не чувствовал, как ему казалось поначалу, никакой усталости.
Усталость приходила тогда, когда хоть на минутку расслаблялся. Усталость валила с ног в борозду, и он засыпал на стерне, уже сонным, механически дожевывая кусок хлеба.
За последнюю неделю, если подсчитать, он спал всего не больше 30 часов. Это по четыре часа в сутки! Чтобы не терять времени на разъезды, спал, едва успев сбросить на землю свою телогрейку, тут же рядом со своим трактором, под шум его мотора.
Ни его, ни Даутова, ни Волкова, ни «т. Саламатова, который 50 часов за рулем не отходя от трактора…» никто не подгонял к такой работе и самоотверженности. Но все они, крестьянские дети, прекрасно понимали, что любая задержка уборки даже не на день-два, а на несколько часов обернется по совхозу не одним десятком пудов потерянного хлеба. А хлеб и без того выдался беден.
Над степью медленно опускались сумерки, но он продолжал косить пшеницу, пока не услышал перебои в моторе. Так и оказалось, как предполагал, – кончалась горючка. Прикинул: до заправочной еще дотянуть можно. И не раздумывая долго, развернулся в Горшково.
По мостику через ручей и ясным днем ездить было небезопасно. А тут уже наступила темнота. Но он поехал, так как был уверен, что переползет этот скрипучий, построенный еще для конских повозок мостик даже с закрытыми глазами. Что он, кстати, даже однажды на спор и сделал:
Но откуда ему было знать в тот темный вечер, что часть моста была кем-то разобрана или просто обвалилась.
Когда трактор стал медленно заваливаться, он включил заднюю скорость. Мост вздрогнул, и трактор с грохотом бревен и камня обрушился в холодную и темную воду ручья. При падении он перевернулся и ухнул в глубину вверх гусеницами…
Так в совхозе «Большевик» появился первый приказ о трагической гибели ударника полей при исполнении своего долга.
«Приказ № 166
по молодежному зерносовхозу «Большевик» от
7/IX-33 г.
4 сентября тракторист-ударник 3-й бригады Горшковского отделения Костромитин Н. Е. погиб, находясь на работе, выполняя задание партии и правительства по проведению уборочных работ.
Приказываю:
1. Наименовать бригаду № 3 именем Костромитина.
2. Возбудить ходатайство перед соответствующими органами о переименовании Горшковского отделения в отделение имени Костромитина.
3. Похоронить товарища Костромитина на центральной усадьбе Горшковского отделения и все расходы, связанные с похоронами, принять за счет зерносовхоза.
4. Выдать единовременное пособие отцу т. Костромитина, колхознику «Памяти Ильича», 500 рублей.
Директор Писарев,
секретарь Каткова».
Все помнят и хранят эти старые книги в коленкоровых и просто картонных переплетах. Но все ли сохранили в памяти люди о том яростном и прекрасном мире? Может, так уж человек устроен: он всегда хорошо помнит, что было доброго в его жизни, и забывает свои несчастья, свое минувшее горе. Может, это и хорошо для одного человека. Однако память людская не должна забывать имена тех далеких и близких, но одинаково дорогих, которым сегодняшним днем обязаны живущие ныне. Наверное, память должна быть коллективной – то, что не сумеет сберечь один, вспомнят другие.
А вот так случилось, что не уберегли. С болью думаю сейчас об этом, еще раз перечитывая документ, который должен быть дорог многим в «Большевике». Это приказ № 166 от 7 сентября 1933 года о трагической гибели тракториста-ударника Коли Костромитина, приказ, в котором говорилось о переименовании Горшковского отделения (сейчас это Свердловский совхоз) в отделение имени Костромитина. Так сложились обстоятельства, что мне не удалось побывать в Свердловском совхозе, телефонный же разговор с конторой был весьма неутешителен. Говорил со мною тогда главный агроном совхоза Михаил Егорович Мальцев. Он передал, что ровно год назад Горшковское отделение, наконец, переименовано… в Родниковское. О Николае же Костромитине лично он не слышал, но непременно попытается разыскать о нем все, что еще можно собрать.
Так вот получилось: забыли своего славного земляка, но очень хочется надеяться, что в Свердловском совхозе найдутся те юные следопыты, которые так много у нас делают для истории. Видимо, комсомольский комитет совхоза будет считать для себя высокой честью обязанность разыскать могилу героя, поставить ему памятник, и приказ от 7 сентября 1933 года, пусть с опозданием, но будет выполнен.
ОБЫКНОВЕННОЕ УТРО
А жизнь продолжалась. Какие бы встряски, невзгоды ни случались, все шло своим чередом. Вот и в доме тракториста Ивана Григорьевича Абакумова это было вроде бы обычное утро.
Когда все умылись, а ребятишки утерли носы и причесались, отец притушил цигарку и, важно поправив рубаху, негромко скомандовал: «За стол!» Но никто не садился, пока не сядет он сам. Ждали, переминались с ноги на ногу. Отец пробирался вдоль лавки, усаживался в красный угол, где раньше обычно висели образа. Стучал ложкой по столешнице: «Рассаживайтесь».
Как всегда, ребятишки в ожидании этой команды смотрели на отца. И тут заметили в нем нечто необычное. Был простой рабочий день, а их отец вырядился в свою любимую сатиновую рубаху с голубым отливом, которую он получил за ударную работу. Надевал он ее очень редко, только по большим праздникам. И тут на тебе – нарядился! К чему бы это, недоумевали они.
По лавкам рассаживались, как было заведено уже давно, по старшинству. Первым садился рядом с отцом старший Виктор, с другой стороны придвигался Василий. Рядом с Виктором, смирная как мышка, устраивалась Тоня. К Василию, как всегда не торопясь, пролазил молчун Юра.
Мать не садилась. Ей не до этого: подавать на стол и убирать со стола – ее забота. Но и ей место было тоже оставлено. И вот сидят за столом «четыре мужика и одна баба». Сидят, руки под столом. Ждут команды. Пять человек, десять глаз и все голубенькие. Поглядишь, будто ленок зацвел над зеленой домотканой скатертью.
Мать между тем поставила посреди стола глиняную плошку со щами. Над плошкой белый пар, а ноздри щекотало нестерпимым запахом томленого в русской печи мяса, картошки, моркови, капусты и еще чего-то вкусного. Витька не выдержал, поднял ложку и потянулся к плошке. Отец сурово глянул на него, рука у Витьки застыла на месте. Ложка брякнулась, он уронил виновато глаза и спрятал под стол руки.
Иван Григорьевич выждал для строгости еще минуту, потом потянулся к плошке, зачерпнул дымящиеся щи, поднес ложку ко рту и дал указ: «Хлебайте!»
И забрякали деревянные ложки. Мать едва успевала добавлять – пять ртов как-никак! Ели молча, деловито. Ребятишки иногда забывались, торопились, и тут отец строго поднимал ложку. А ложка у него была железная, у всех остальных деревянные, семеновские.
Вначале хлебали просто щи. Куски мяса, если попадали в ложку, оставляли во щах – команды не было таскать мясо. Вот только у Васи как-то случайно оказался кусочек. Отец приподнялся и через стол легонько стукнул его ложкой по лбу. Витька прыснул со смеху и смолк. Вася занюнил: «Я его не цеплял, он сам забрался в ложку». Отец поднял свое орудие второй раз. Вася не стал дожидаться, юркнул под стол и уже пробирался меж ног на выход.
Иван Григорьевич выждал, когда застолье успокоится, постучал ложкой о край плошки: «Волочите».
Позавтракали. Встали, не выходя из-за стола, сказали: «Спасибо!» И пошли по своим местам. Не было никакой указки, кому что делать, никаких понуканий.
А все как заведено давно: Юра с Васей убирали со стола посуду, Тоня мыла ее. Витя направился во двор пилить дрова. Но у порога окликнул его отец:
– Пойдешь со мной.
Виктор обрадовался – наверное, отец возьмет его в Шумиху.
Отец повернулся к матери:
– Доставай, мать, новую рубаху и Витюхе…
Ну, конечно же, так! И спросил у отца:
– Па, мы пешком или на лошади в Шумиху-то?
– В какую еще Шумиху? – удивился отец. – Мы, брат, с тобой сегодня на большой праздник снаряжаемся.
Он подошел к сыну. Виктор стоял смущенный посреди комнаты в новой белой рубашке и ждал, что дальше скажет отец.
Иван Григорьевич положил руку на плечо мальчику и продолжал:
– Сегодня, Виктор Иванович, у меня и у тебя праздник первой борозды. Для меня первой в сезон, для тебя первой в жизни. Поведем, брат, первую борозду: я на трактор сяду, а ты – на прицеп.
Виктор растерянно посмотрел на новую рубашку:
– Пап, а ведь замарается… Жалко.
Отец утешил его:
– Мы с тобой рабочую одежу возьмем и там, на месте, переоденемся.
– Так, может, сразу лучше?
– Нельзя на праздник идти как-нибудь. Будет митинг, соберется много народу…
Они вышли из дома рядом, высокий, широкоплечий и чуть сутулый отёц и малорослый, еще не окрепший в настоящей работе сын, и широко зашагали на главную площадь, к памятнику Ленину, где уже гудела толпа.
Мать смотрела вслед мужчинам, и лицо ее было озарено радостью.
Через несколько лет, когда отец перейдет работать на животноводческую ферму, Виктор сядет за рычаги трактора, и его место на прицепе займет Василий.
А потом, когда Виктора призовут в ряды Красной Армии, трактор передадут Василию, а самый младший из Абакумовых – Юрий станет прицепщиком.
Так от отца к сыну, от старшего брата к младшему, от деда к внуку– из поколения в поколение будет передаваться хлеборобская эстафета, а вместе с нею и незатухающая любовь к земле, уважение к благородному крестьянскому труду.
Обыкновенная история. Хлеб тоже привыкает к людям.
СОПРИЧАСТНОСТЬ
Не знаю, чего здесь было больше – удачи ли, терпения, но мне в самом деле посчастливилось разыскать и встретить в Москве человека, который писал и подписывал часть этих приказов именно в первые годы существования «Большевика».
Человек этот – Степан Андреевич Дерябин, тот самый Дерябин, который был первым директором комсомольско-молодежного образцово-показательного совхоза «Большевик» на Урале (До Степана Дерябина руководила хозяйством недолгое время Анастасия Нечаева, она была директором совхоза «Молодежный», того же хозяйства, только до переименования его в «Большевик». Как оказалось потом, Нечаева осталась по счастливой случайности жива и несколько лет проработала в соседнем, Еркеншеликском совхозе.)
В настоящее время Степан Андреевич живет в Москве. Он на пенсии – ему уже за 70 лет. Прожил Дерябин интересную жизнь. В 19 лет он председатель Сельбатрачкома, секретарь комсомольской сельячейки.
Позднее – секретарь Шумихинского райкома комсомола, член оргбюро ЦК ВЛКСМ по Челябинской области. После окончания Всесоюзной академии социалистического земледелия И. С. Дерябин на партийной работе (избирался вторым секретарем Курганского и Вологодского обкомов партии, секретарем ЦК КП(б) Эстонии, секретарем Томского обкома партии). С 1959 года трудился в Министерстве сельского хозяйства СССР и, уже будучи на пенсии, в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. И. С. Дерябин избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Впервые со Степаном Андреевичем мы встретились 10 лет назад. Несмотря на свои 62 года, был он энергичен и крепок. И, что немаловажно, сохранил отличную память.
И вот мы сидим рядом, листаем ветхие страницы приказов, потихоньку ворошим историю одного из легендарных совхозов страны: я по документам, он по таким же документам, а еще по памяти, как живой свидетель и участник тех далеких событий.
– Так много прошло времени… 35 лет как-никак. И интересно, и немного странно мне читать эти приказы. Те, которые когда-то сам издавал и подписывал. И, поймите меня, вдруг показалось, что будто не я это писал. Не я мобилизовал лошадей в распоряжение т. Косарькова, не я выделял в качестве премии трактористу Саламатову пиджак и пару сапог.
У каждого времени, у каждого поколения свои трудности. У нас тогда были такие рогатины на пути, о которых сейчас уже немногие и помнят. Так это непросто – оторвать мужика от его кровного куска земли!
Были среди них и отпетые враги Советской власти, и люди, спекулирующие на каком-то определенном историческом моменте, и просто, так сказать, добровольно заблуждающиеся.
Вот к последней категории и относился крестьянин-сибиряк, письмо которого мне хотелось вам показать.
Вот оно: письмо Ленину крестьянина деревни Красновки Михайловской волости Павлодарского уезда М. Гуторова.
«Письмо вождю нашей социалистической федеративной рассейской республики Ленину.
Товарищ, я в точности хочу знать что такая комуна и что такое ортели или кликтив так что устава мы бедняки просим нам не дают знакомиться. И ораторы или организаторы не приезжают а кулаки ходков росейских говорят нам, что если запишитесь в артели то вас сейчас мобилизуют и отправят на позиции а семейство останется не причем и инвентарь вы не получите. Хотя и получите то работать некому будет на нем. Так я поэтому прошу вас выслать нам устав. Еще клевещут кулаки, что этот хлеб (речь идет о хлебе, собранном по продразверстке. – Ред.), якобы не попадет в Расею. Когда вы мне вышлите все подробно то я буду каждому кулаку и прочим втирать нос. Извиняюсь товарищ Ленин можа моя здесь ошибка так как я самовучка и мала грамотный прошу ошибку простить. Стараюсь за совецкую власть.
М. Гуторов».
Письмо было опубликовано в газете «Советская Сибирь» от 7 октября 1920 года со всеми орфографическими погрешностями.
А вот что ему ответила газета:
«Что побудило крестьянина к написанию этого письма? Как видно из письма и как следовало предполагать, враги трудового люда работают по закоулкам деревни вовсю, запугивают несознательных, ложью и клеветой стараются замарать трудовую власть. Хотели кулаки и враги трудовой власти разными небылицами прибрать к своим рукам Гуторова да не тут-то было: чутье подсказало крестьянину, что кулачье враг и лучше будет, если разобраться в их брехне. И вот теперь Гуторов, получив от Сибземотдела подробный ответ на свои вопросы, знает, что артели и коммуны – это путь к братскому труду на общую пользу…»
И понятно, потребовалось ломать веками сложившуюся собственническую психологию крестьянина, а вот времени на это нам отпускалось немного… Стране нужен был хлеб. Много хлеба. И мы давали его. А сами получали по карточкам 500 граммов – рабочий, 200 – иждивенец. О себе беспокоились меньше всего – мы думали об обеспечении хлебом рабочего класса, о скорейшем построении бесклассового общества и завершении мировой революции. И это было искренне.
Иногда молодые люди говорят нам, что тогда было все проще.
Куда уж проще!
Мы получили технику – американские тракторы «Харпер» («Оливер») и поначалу не знали, с какого конца к ним подступиться. Но скоро освоили все американские премудрости этих машин, хотя нам было по 16–20 лет. Мы прорывались через ночное бездорожье на маломощных АМО, у которых вместо фар стояли карбидные фонари, загибались от повальной эпидемии тифа и недоедания в неурожайные годы. Но наперекор всему выжили, и 27 августа 1935 года «Большевик» мог доложить обкому партии: годовой план хлебосдачи перевыполнен.
Кое-кто упрекает нас в том, что мы были строги, а иногда даже жестоки. Да, мы были строги. Против нас действовал враг, классовый враг, и не бумажный, а из крови и плоти.
Конечно, может, в чем-то мы были слишком строги… Вот я прочитал свой приказ о выселении из совхоза в 24 часа заведующей личным столом Корсунской за нарушение распорядка дня в конторе. И жалко мне ее стало – ведь совсем еще, помню, девчушка была. Как подумаю о ней, вина сжимает сердце… Если б можно было вернуться в те годы! И все-таки подобных приказов было немного. Больше было других приказов, поднимающих труд и честь ударников.
Ударнику давали денежную премию, строили персональный шалаш на полевом стане, кормили ударными обедами, награждали сатиновой рубахой. Потому что он заслужил этого. И больше этого. Но мы были не так богаты, чтоб воздать ему сторицей.
Я и сейчас не забыл этих железных парней: Ваню Саламатова, который 50 часов без перерыва отработал на своем «Катерпиллере» (это двое с половиной суток в сплошном грохоте и пыли!), Алексея Михайлова, не покинувшего кабину, несмотря на ранение, трагически погибшего комсомольца Колю Костромитина…
Возможно, многое из нашей той жизни может показаться странным или даже забавным. В приказах вы встречали и такие слова, как «арматурный список», «список № 1», «спецпрозодежда», «ударный обед». Любопытные для современного человека слова. А для меня это была острая забота. Выбить и выдать трактористам прозодежду: летом плащ и сапоги, а зимой «дежурный тулуп» (один на двоих). И выдать не просто так, а строго по арматурному списку, который представлял собою своего рода ведомость современного армейского старшины-каптенармуса. И «список № 1» блюсти так, чтобы не попал туда никто, кроме инженерно-технических работников, а продукты и промтовары выдавались строго по установленным нормам…
Но если бы сейчас вдруг с помощью машины времени удалось вернуть тех парней такими же молодыми и стожильными, какими они были, и поставить бы рядом с их ровесниками, а мне бы сказали: «Надо идти на прорыв, выбирай, с кем пойдешь» (не судите меня поспешно), – я бы выбрал своих сверстников, тех, в лаптях и сатиновых рубахах. Нет, и не потому, что меньше верю нынешним парням, а потому, что на одних с ними плечах подняли мы тот груз, который, если бы мы смалодушничали, пришлось поднимать сейчас вам, потому что мы обязаны друг другу своим утверждением на земле, а еще потому, возможно, что я их лучше понимаю.
Ведь это так важно – уметь понимать друг друга…
Однако я ни в коей мере не хочу сказать, что нынешняя молодежь менее способна, даже физически, и мне непонятны, например, сетования некоторых моих ровесников на современную молодежь, что вот, мол, раньше была молодежь так молодежь…
Это обывательские рассуждения. Уверен, что окажись нынешние парни и девчата в таких же условиях, они бы сделали не хуже нашего… А может, и лучше. Примеров тому предостаточно: целина и Сургут, Набережные Челны и БАМ.
Но, повторяю, те парни мне ближе и дороже потому, что с ними моя юность…
А юность не забывается.
В ГРОЗУ…
«Приказ № 169 (163) от 25 июня 1941 г.
В связи с выбытием в Красную Армию по мобилизации считать от работы в совхозе освобожденными следующих товарищей:
– 1. Сапогов И. И. – тракторист
– 2. Бельков П. Н. – тракторист
– 3. Кожевин М. М. – тракторист
– 4. Морозов П. В. – тракторист
– 5. Сотников В. И. – тракторист
– 6. Киршин А. М. – тракторист
– 7. Кашутин А. Л. – тракторист
– 8. Шаламов А. А. – тракторист
+ 9. Булдашев Д. И. – тракторист
+ 10. Шаров Д. И. – тракторист
– 11. Шаламов Г. А. – тракторист
– 12. Селинов И. И. – тракторист
– 13. Каряпин М. П. – тракторист
– 14. Непогодин А. М. – шофер
– 15. Кичаев С. Е. – шофер
– 16. Жалетин А. П. – шофер
+ 17. Югов С. Т. – шофер
+ 18. Дьячков И. Н. – шофер
– 19. Вяткин И. И. – шофер
– 20. Новоселов В. Я. – шофер
– 21. Иванов Я. Е. – помкомбайнера
– 22. Буньков А. Я. – лесоруб
– 23. Шкрябин А. Д. – токарь
– 24. Банников А. Е. – зав. радиоузлом
– 25. Больтнев А. В. – тракторист
Со всеми указанными товарищами произвести полный расчет с выплатой выходного пособия и за неиспользование отпуска [10]10
Крестиками отмечены те, которые вернулись с войны.
[Закрыть]».
Четвертый день войны…
Приказ по совхозу об освобождении от работы по случаю мобилизации в Красную Армию. Точнее, на фронт. 25 человек освобождены от работы в совхозе. 21 из них, как оказалось позднее, были освобождены от работы в поле, отлучены от поля навечно. Таков суровый закон войны. 21 хлебороб из 25 ушедших в тот день уже не вернется к пашне. Кто они, эти оставшиеся навечно на поле военном? Посмотрите еще раз внимательно на список: трактористы, комбайнеры – пахари, хлеборобы.
ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА…
Как это было? Как вошел «Большевик» в первый день войны?
Приказы этот день обошли. Но люди его запомнили, сохранили в памяти на всю жизнь.
Рассказывает Марфа Васильевна Сапогова, рабочая совхоза с 1935 года. (Марфа Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».)
– Как началась война-то?.. А было это что-то больно уж рано утром. Вот все и побежали. Все бегут, значит, и кричат: «Война, война!» А куда? И я выскочила на улицу и бегу со всеми и тоже кричу: «Война!» А сама тоже не знаю, куда и зачем. Потом встали. И где встали, куда прибежали? А к Ленину. У нас Ленин прямо посреди деревни. И никто не кликал нас сюда. А вот такое горе вдруг свалилось, и все, не сговариваясь, у Ленина и собрались.
Стояли все и ждали, будто вот сейчас он поднимет руку – чуда ждали – и скажет такое слово… и войны не будет.
Мужики все курили, курили, а бабы потихоньку ревели. А Саша, мой старший, все уговаривал меня: «Ма, не надо…»
Потом у памятника, там заступочек такой был, встал Сергей Михайлович, директор наш Соломенник, и начал говорить…
А через четыре дня провожали всей деревней сразу двадцать пять солдат. И ведь кто ушел! Из двадцати-то пяти человек только двое были не трактористы, не комбайнеры – все механизаторы. Вон они все в приказе и записаны. А вернулось их всего-то…
Месяца чуть побольше, опять проводы (случилось это как раз 1 сентября) – ребятишек в школу, а мужьев да братьев на фронт. Смотрела я по приказу Сергея Михайловича, 29 новобранцев оставило Крутые Горки, а пришли-то домой только пять. Вот и получается, что из каждых пяти наших солдат четверо и сложили свою головушку.
Обоих сыновей своих я проводила на фронт, и оба там остались. Уже на другой год, как началась война, помню, 7 марта пришла похоронная о Саше. А Коля, он всю войну прошел, до самого Берлина. Да так вместе с танком и погиб… И земля родная не помогла. Коля-то мой, уходил на фронт, горсть земли взял здесь, хоть горсть с ним всегда…
Осталась я сейчас одна. Да что я? Вон у Григория Ивановича у Димитрова четырнадцать детей было, а вернулось только пятеро.
И получилось, что в совхозе остались одни мы, бабы. Да ребятишки. Мужиков совсем почти и не видно…
Все. Обычный ритм жизни нарушен, и нарушен надолго. В силу вступают законы военного времени.
Фронту нужны кони. Значит, будут кони. И, естественно, самые выносливые, самые лучшие.
«Распоряжение от 30/VIII-41 г.
Лошадей, зачисленных в фонд РККА, под кличками Летун, Алмаз, Паразит, Ласковый, Орлик, Лидер, Змейка, Лесная отвести всех на конный двор и поставить на усиленное питание, назначить суточную норму дачи овса 4 кг.
Освободить указанных лошадей от всякой работы…
Зам. директора Косарьков».
На фронт уходят руководители так называемого среднего звена – основного звена хозяйства.
«Приказ № 6 от 13/I-42 г.
В связи с уходом в РККА по мобилизации ряда руководящих административно-хозяйственных работников совхоза произвести следующие перемещения в работе…»
С первого месяца 1942 года главными героями книги приказов становятся женщины.
«Все для фронта!» И горючее, разумеется, тоже. Тракторы и автомашины переводятся на газогенераторные двигатели. В совхозе создается «чуркозаготовительная база». Они заготавливают чурку, обучаются новым, не женским профессиям, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин.
«Приказ № 69 от 12 апреля 1942 г.
1. Привлечь к обязательному прохождению 5-дневного семинара по изучению газогенераторных тракторов нижеследующих трактористов
(Следует перечень).
2. Окончивших курсы шоферов в Макушинской школе
Никитюк Анну Даниловну,
Педасенко Татьяну Дмитриевну,
Мальничук Харитину Иосифовну,
Осмиловец Лидию Ивановну зачислить в штат и направить в автогараж.
Директор Косарьков».
Рядом с женщинами рабочие места заняли подростки. Многим из них пришлось оставить школу и стать учениками уже на производстве.
«Приказ № 56 от 14/IV-42 г.
§ 2. Тов. Дьячкова Ф. принять на работу в транспортный отдел в качестве ученика.
§ 3. Тов. Расторгуева А. зачислить в штат рабочих на должность по усмотрению управляющего отделением.
§ 11. Тов. Черенцова П. зачислить в штат рабочих с использованием по усмотрению управляющего отделением…
Директор Косарьков».
А куда «по усмотрению»? На весенне-посевных работах – ходить за бороной погонять лошадей, засыпать в сеялки зерно. Зимой и в летнее межсезонье – на чуркозаготовительную базу. А работа там тоже напряженная: база должна снабжать горючим всю совхозную технику.
«Приказ № 156 от 14/VII-42 г.
Чуркозаготовительная база не выполняет установленное задание по разделке чурок.
Приказываю:
1. Установить с 14 июля с. г. распилку в 2 смены:
а) начало работы первой смены с 7 час. утра до 6 час. вечера с перерывом на обед с 12 час. до 1 часу дня. Продолжительность работы – 10 часов. Задание– нарезать чурок 15 кубометров;
б) вторая смена – с 6 час. вечера до 3-х час. ночи с перерывом на заправку электростанции с 10 часов на один час. Продолжительность работы – 8 часов. Задание – 13 кубометров.
2. Обязываю зав. конюшным двором центральной усадьбы т. Овчаренко выдавать для вывозки чурок в склад одну лошадь с телегой.
Зам. директора Шалгин».
Обстановка требовала увеличить трудовую нагрузку на всех участках работ.
«Приказ № 157 от 14/VII-42 г.
В целях усиления строительства в совхозе, выполнения плана в срок приказываю:
1. Установить рабочий день строителям – 11 час. в сутки. Начало работы в 7 часов утра до 7 час. вечера с перерывом на обед с 12 час. до 1 часу дня.
Шалгин».
Что они собой, эти нагрузки, представляли, вы можете узнать из этого документа, который был подписан 24 апреля 1942 года и утвержден приказом № 81.
«Распорядок дня на весенний сев по совхозу «Большевик»
1. Все полевые работы, а также подсобные работы… производятся в течение круглых суток в две смены. Посев производится в одну смену в течение всего светового дня…
2. Подъем рабочих первой смены производится в 3 часа утра. Завтрак для первой смены с 3-х часов до 3 час. 30 мин. утра. Все рабочие первой смены обязаны являться к месту своей работы точно к 4 часам утра. С 4 часов утра до 5 часов утра производится приемка агрегатов, заправка тракторов, смазка прицепных орудий.
Точно в 8 час. утра все агрегаты обязаны начать работу непосредственно в борозде…
Обед для первой смены доставляется непосредственно в борозду и производится с 12 час. дня до 1 часу дня. На обед рабочим агрегата устанавливается не более 20 мин. Первая смена прекращает работу в борозде в 4 часа вечера. С 4-х час. вечера до 5 час. вечера первая смена передает свои агрегаты второй смене, и до 5 час. вечера все рабочие первой смены участвуют совместно с рабочими второй смены в заправке тракторов и прицепных орудий. Ужин для рабочих первой смены проводится на бригадном стане с 5 час. до 7 час. вечера. Первая смена отдыхает с 7 час. вечера до 3-х час. утра.
3. Рабочие второй смены приступают к работе непосредственно в борозде с 5 час. вечера и заканчивают работу в борозде в 4 часа утра. С 4-х утра до 5 час. утра рабочие второй смены передают свои агрегаты первой смене и обязаны совместно с рабочими первой смены принимать участие в заправке тракторов и прицепного инвентаря.
Завтрак для рабочих второй смены производить на бригадном стане с 6 час. до 7 час. утра, обед с 2 часов до 3-х час. дня. Рабочие второй смены обязаны являться к месту работы своих агрегатов точно к 4 час. вечера и до 5 час. вечера участвовать в приемке агрегатов от первой смены, их заправке и смазке. Ужин для рабочих второй смены доставлять непосредственно в борозду и проводить с 8 до 9 час. вечера. Для рабочих агрегатов устанавливается не более 20 минут… (Время на обед. – С. П.)
5. Ни один из рабочих агрегатов не имеет права прекратить свою работу до прихода своего сменщика.
В случае болезни сменщика управляющий отделением обязан немедленно подменить его…
7…Лошади, закрепленные за управляющими отделениями, агрономами и механиками, должны быть снабжены торбами для овса и сетками для сена…
Всякие частные разъезды, за исключением срочных случаев, на период посева воспрещаются.
21. На центральной усадьбе в кабинете зам. директора зерносовхоза в течение всего периода весеннего сева организуется круглосуточное дежурство. Дежурства несут ответственные работники центральной конторы по особому списку.
Директор Косарьков».
Из 24 часов 13 были отданы работе. Значит, 9 часов, всего девять в сутки, оставалось на то, чтобы управиться по дому, по хозяйству, накормить ребятишек, постирать, прибраться. А ведь лозунг «Все для фронта!» отнимал и еще немало времени от этих 9 часов. Женщины собирали теплые вещи, шили кисеты, носовые платки, вязали варежки, носки и шли на почту, чтоб отправить их своим ли, неизвестным ли солдатам. А сколько времени отнимали письма? Каких же мук стоило сочинять их голодным да усталым! Сочинять так, чтобы там, на фронте, родные не догадались, как им тут тяжко.
И они писали:
«…Дорогой наш сынок! У нас все хорошо. Все живы и здоровы. Тоня и Витя ходят в школу, учатся на «хорошо». Хлеб нынче, слава богу, уродился добрый… За нас не беспокойся… Береги себя… И бей распроклятого вражину, изничтожай их из земли..!»
И получали с фронта.
«Письмо 28 ноября 1942 г.
Добрый день! Здоровы ли родители, мама, жена моя, дочь Валя и Люда? Я вам шлю горячий привет! Так я по 23 ноября ходил в бой.
Едва оттуда вышел. Под пулями этак был сутки и в снегу лежал.
Много писем не ждите.
Одевай, мама, хорошие валенки.
Степанов».
ИВАНОВНА
В глухие зимние вечера, убравшись по хозяйству, женщины собирались обычно в одну избу. Чаще всего к Ивановне, к Степановой. И несли они с собой за теплые стены свои новости, маленькие радости и печали.
Ивановна ставила самовар. Кто приносил с собой кусочек-другой сахару, кто лепешку, испеченную из грубой, непросеянной, смешанной с клевером муки.
Вместо чая заваривали корни шиповника. Рассаживались за столом и начинали свои грустные бабьи посиделки.
Пока самовар кипел на табуретке у шестка, пока копил в себе горячие силы, женщины молча собирались в горенке. На глухой стене висела большая старенькая географическая карта. Ее принесла Марфа Васильевна Сапогова, уборщица школы. Карту уже давно списали как отслужившую свой век. А она вот еще служила. И будет служить этим женщинам всю долгую войну.
От самого Черного моря до Белого на карте отмечена красной ниткой линия фронта. В городах и местах сражений были воткнуты флажки. Почти каждый вечер красная линия неумолимо двигалась на восток. И вот уже флажок недалеко от Москвы.