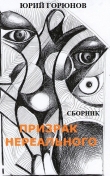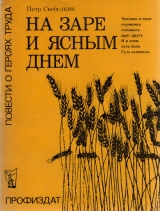
Текст книги "На заре и ясным днем"
Автор книги: Петр Скобелкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
– Вот если придет к нам дождик, он как раз с той стороны появится.
В те дни даже окна домов, казалось, глядели только на Дубровное.
Тяжко было в те дни, что и говорить. Люди приходили в партком. Спрашивали советов, пытали про сводку погоды.
А как там настроение у Хохлова, думаю.
Когда я вошел в кабинет, Григорий Тимофеевич сидел за столом и пил квас. В одной руке он держал стакан, в другой мокрый носовой платок. Все такой же добродушный и грузный. Только волос чуть рыжее стал, как сгоревшая на солнце солома. Все такой же богатырь.
– Не похудел? – спрашиваю.
Улыбается довольный: – Нет вроде. Был по весне в санатории, не тощее других. – Продолжает довольный: – За столом нас там, в санатории, четверо сидело, все под стать друг другу. Только один мелкий затесался к нам, маленько заморенный был – он 115 весил, а мы по 140 килограммов.
Заверещал телефон. Григорий Тимофеевич отставил стакан с квасом, взял трубку, слушает. Видимо, звонил сосед, спрашивал, какие новости.
– Что новости, что новости?! Дождя вот ждем. Вот какие новости.
– Да, есть еще кой-какие… Трестируют нас… (Прикрыл трубку широкой ладонью, объясняет мне: «В трест передают совхоз».) А бог его знает, хуже или лучше…
Краем уха слушаю разговор, перебираю свежую почту на столе: кипа газет, почти все молодежные журналы, включая «Сельскую молодежь» и «Молодую гвардию», пачка тоненьких брошюр по агроделу, отдельно толстая книжища – Джон Рой «Выращивание телят», перевод с английского.
Григорий Тимофеевич положил трубку и только было снова взял стакан с квасом, как постучали в дверь. Зашел молодой парнишка, остановился у двери, переступает модными туфлями.
Григорий Тимофеевич позвал:
– Чего встал, как красна девица, проходи! Что у тебя, давай свою бумагу.
– Хочу вот на работу к вам устроиться…
– Из армии?
– Из армии.
– Механизатор?
Листает трудовую книжку, довольный улыбается.
– Точно, механизатор. На молоковоз пойдешь? Ну и добром! Выходи завтра на работу.
Парень молчит, потом осторожно просит:
– А можно сегодня?
– Сегодня? – Оглядел директор с ног до головы новую «рабочую силу», одобрительно кивнул: – Иди в гараж, получай машину.
Из окна потянул свежий ветерок, лениво полистал казенные бумаги и убрался обратно на волю. Чуть побрызгал реденький дождик. Григорий Тимофеевич протянул за окно ладони, расстроился:
– Вот ведь как: капает, вижу, что капает, а до земли не попадает! Нагрелась земля, не берет, высыхают капли еще на лету…
Зашли Виктор Иванович и Владимир Асямолов, секретарь парткома и главный агроном, сели у окна, поглядывают поверх крыш на небо. Все живут ожиданием дождя. А мне хотелось узнать, какие уроки вынесли все они из минувшей страды. И хотя невелик урожай получили в прошлую уборку, всего немногим больше 17 центнеров с гектара, это была их победа. Именно в тех невероятно трудных условиях. Так что же дала им эта победа? Чему научила?
Григорий Тимофеевич вытирает с лица пот и спокойно возражает:
– Ну какая это победа? Мы могли взять больше, а получилось так, не смогли…
– Взяли бы больше, да вот снег раньше времени ухнул и дожди навалились. Сушить зерно не успевали, обмолачивать чисто не могли…
– Чувство победы все-таки было. Вот когда последнюю загонку убрали, самый последний бункер засыпали, тогда душа замирала. Когда до самой зари молотили, а потом тут же, на поле, засыпали у костра, не думая больше ни о чем на свете.
– И все-таки чему-то эта уборка вас научила? – не отстаю я.
– А как же? Мы научились умерять «хлебный зуд». Может, это и странно, но уборка научила нас не убирать, а сеять. Научила выбирать угол и время для атаки. Это оказалось не так-то просто. Представляете, весна катит вовсю, земля подоспела, погода отличная, как тут удержаться, чтобы не выехать в поле? Тут-то и начинается этот самый «хлебный зуд». И забываешь о том, что ранние посевы могут в самое неподходящее время попасть под сушь. Вот так и было этой весной. Соседи наши уже вовсю сеют, а некоторые бригады еще даже до 21 мая. А мы выждали еще чуть, а потом в стремительном темпе провели весь сев – 27 мая вся пшеница была уже посеяна. И когда в начале июня (а это обычно в здешних условиях) началась сушь, наши семена пережили ее спокойно. А там, где рано выскочили с севом, изрядно подгубило всходы.
– Не научились мы, наверное, только заботиться о себе. И это тоже своего рода урок, – невесело заметил Асямолов. – По этой самой причине у нас осталось на весну больше двух тысяч гектаров невспаханной земли.
Когда прикатила к нам весна, земля не была готова, мы не имели в почве достаточного количества влаги, мы имели очень плохие семена – влажные, с плохой всхожестью, у нас не хватало людей…
– Не надо уж так прибедняться, Владимир Ильич, – повернулся к Асямолову парторг. – Мы-то знали, что влагу можно закрыть, что семена у нас жизнеспособные, а главное, мы верили в наших людей.
Спрашиваю у Григория Тимофеевича, как же так получилось, что две тысячи гектаров не вспахали с осени под весну, хотя знали, что это за осень была.
– Не знаю, кого тут винить. Но мы иначе не могли. Мы-то сами уже убрались с поля и трактор в борозду после комбайна в самый раз пускать, а вот у соседей хлеб еще стоит, а над полем уже белые мухи летают. Что же тут делать? Сосед мой просит: «Помоги!» Разве я мог тогда о себе думать?! Это же страшно, когда хлеб под зиму уходит…
– Но ведь все-таки вы рисковали, оставляя на весну непаханую землю? Будущим урожаем рисковали?
Григорий Тимофеевич оживился:
– У нас земляк есть, он из этих почти мест, из Златоуста, Анатолий Карпов, шахматист который, чемпион мира. Однажды дома, на родине, кто-то из корреспондентов спросил его о степени риска в игре. Так вот Анатолий ответил, что в своих партиях он не допускает ни грана риска.
Да, мы оставили зябь и направили всю свою технику вместе с людьми на помощь соседям – в семь хозяйств. И здесь никакого риска не было: мы знаем своих людей и свои возможности, и весной не только добром управились, но еще и первое место по области заняли в весеннем конкурсе. Ну конечно, поднатужиться пришлось всем. На севе работали, как водится, от зари до зари.
Хохлов повернулся в мою сторону и хитро заметил:
– Вы вот часто пытаетесь удивить читателя – вот, мол, какой темп, какой трудовой накал в страду, какие все герои мы! А ведь это просто-напросто наши будни…
– Но отсеялись, полегче стало, передохнули люди, темп уже не тот? – спрашиваю, заранее будучи уверенным, что между страдой весенней и осенней есть же все-таки передых.
– Ошибаетесь, темп все тот же на все время года. У нас нет и не может быть сезонности: кончили сев, не успели оглянуться, пшеница пошла в колос, подоспела люцерна, гони витаминную травяную муку, пропалывай овощи. А тут сенокос в разгаре, и хлеб уже подпирает. Нам нельзя снижать напряжения. Это вредно, расслабляет.
Вошел Подкорытов, тот самый крутогорский Кулибин, которым так гордится Хохлов.
Невысокий, узкоплечий, он выглядел рядом с Хохловым по причине своей внешней малости как-то даже чуть виноватым. Григорий Тимофеевич обрадовался его приходу, зарокотал: «Вот как раз кстати, Сергей. Забирай корреспондента и показывай ему, что ты там за эти годы натворил».
По дороге на ток Подкорытов рассказывал, что, хотя до уборки еще месяц с лишним, у них все уже готово: идет доводка техники, все люди распределены по бригадам, включая административный аппарат. Работать на уборке (не на уборку работать, а именно: на уборке) будут все без исключения. Вот сейчас стажируются на шоферов наши женщины.
Тут я вспомнил про Анну Григорьевну, спрашиваю, как у нее дела.
Сергей как-то неопределенно машет рукой:
– Уехала от нас Анна Григорьевна.
– Так, ни с того ни с сего?
– Вышла замуж и уехала в Шумиху.
– Ничего не понимаю. Но у нее же был муж?
– Был, да вот купил машину. От радости, видимо, совсем ошалел. Покатался, заехал в свой гараж. И заснул. А мотор не выключил. В общем, банальная история. А Анна пожила немного одна и нашла другого. Куда деваться – молодая. И уехала. Что ей одной жить? Детей у них не было…
На току Подкорытов полновластный хозяин. Здесь он весь как-то вроде переродился и выше ростом стал, так, во всяком случае, показалось мне.
– Вот эти бункеры сушильные недавно установили. По заводскому плану в комплексе должно быть четыре, а мы восемь поставили. Вот махина – пятьдесят электромоторов, восемь калориферов! Что мы получим от них? В прошлом году у нас была одна сушилка, двадцать тонн зерна в час обкатывала. Нынче новую сварганили на тридцать тысяч тонн. Пятьдесят против двадцати прошлогодних. Что это дает? Загадывать вперед трудно, но тысяч триста рублей чистого дохода должны получить. Чистого дохода! Не считая людей, которые освободятся для других работ от подработки зерна.
А в прошлом году мы на этом деле потеряли тысяч сто. Сейчас заканчиваем монтаж. Тут у нас отличные ребята из студенческого строительного отряда колдуют – выпускники челябинского политеха.
Ведет дальше по своему энергетическому хозяйству:
– Вот тут трансмиссию сообразили, через траншею ссыпать будем, сюда еще пару моторчиков приспособим. А здесь траву на муку смалываем, второй агрегат нынче запустили. Смотрите, какая зеленая и какая пахучая мука! Сам бы ел, скотину жалко. Сейчас вон школьная ребятня сама тут со всем справляется. Все сами… Прошлогодняя победа не расслабила нас, а, наоборот, научила веселее крутиться.
После обеда дождик все-таки забрызгал, маленький такой, робкий, но дождик теплый, как любил говорить Григорий Тимофеевич, самое главное, что он мокрый.
Хохлов шел из дому в контору неторопливо. Шел и улыбался дождику. Встретил учительницу, весело спросил:
– Чего ж это вы в плаще?
– А вы чего это в одной безрукавке? – улыбается она.
Григорий Тимофеевич подошел к ней и полушепотом объяснил:
– Боюсь, что как надену пиджак, так дождь и перестанет, отпугнуть боюсь…
– Да вы, Григорий Тимофеевич, никак суеверны? Вроде я за вами такого прежде не замечала?
– Еще не то заметите!
И заговорщически заметил:
– Я еще и колдун. Только об этом ни-ко-му!
Уезжал я в тот раз из Крутых Горок, когда дождик уже вовсю разошелся. Григорий Тимофеевич весело поглядывал в окно.
– Приезжай двадцатого на свадьбу, сына женю, последнего выдаю.
Приглашал он меня ласково. И загрустил вдруг неожиданно.
– Останемся вдвоем с матерью. Да вот хорошо, что еще Гришка, внук, с нами…
– А свою свадьбу так и заиграл? – с легким укором спросил Анатолий Стремяков. Он забежал на минутку попрощаться.
– Это какую еще «свою»?
– Как какую? Серебряную.
– А… Совсем вот закрутился, забыл. Ей-богу, забыл, – досадливо хлопнул он себя по коленям. – Но ничего, мы еще золотую справим! Подождем до золотой.
Попрощались. Я возвращался на этот раз через Курган.
А дождь и впрямь по-настоящему разошелся. Вот уже и не просто дождь, а сплошной ливень.
С поля в придорожную канаву побежали мутные ручейки с бело-желтой пенкой, а когда мы доехали до деревни с удивительно неожиданным названием – Сладкие Караси, ливень обрушился с такой водяной силой, что шофер был вынужден остановить машину.
Остановил, открыл дверцу и, довольный, заключил:
– Ну вот с хлебом будем…
Дорогой я перебирал в памяти этот день. Вспомнил встречи с крутогорцами, что были не в кабинете директора, а в семье, у порога обычного дома.
Я вышел на улочку (Водопроводная ее зовут) и подумал, что зайду сейчас, не выбирая, в четыре-пять домов и спрошу, кто чем живет и дышит, чему радуются и печалятся эти люди.
И вот первый адрес: Водопроводная, 4.
Деревянный дом деревенского типа. Новая тесовая крыша, ядреный заплот, скрипучие сенки. Хозяева и все их семейство на кухне лепят пельмени. Сам хозяин, Пономарев Дмитрий Дмитриевич, только что вернулся из школы, где уже 19-й год работает завучем. Анисья Григорьевна, его жена, заведует в этой же школе библиотекой. Еще в доме трое их детей: Саша, студент Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова в Ленинграде, Таня, ученица 9-го класса, и маленькая Люба. Мой вопрос не был неожиданностью для Дмитрия Дмитриевича:
– Главная проблема для меня – это время. Время на работу. На книгу. На университет марксизма-ленинизма. Плюс к этому я пропагандист. Вот и сегодня вечером в клубе провожу беседу о международном положении. Да заочники постоянно приходят на консультации. А весной и летом помогаю выпускникам готовиться в институт. Предмет мой ответственный – математика.
Чуть позже за горячими пельменями Дмитрий Дмитриевич разговорился:
– Меня раздражает, когда порой кино и литература изображают жизнь на селе с этаким оттенком жертвенности. Могу вам сказать откровенно – «жертв» на селе я не встречал и, надо полагать, не встречу. Люди на селе делятся на временных и постоянных. Временных по разным причинам отсеивает время. Постоянные верны селу и даже тогда, когда они уезжают в город: и там в научной работе, в книгах своих, в создании сельскохозяйственных машин – во всем все-таки остаются селянами. Наше село держится на постоянных; не было бы их, не было бы светлой судьбы «Большевика».
Его мысли по-своему дополняют остальные члены семьи.
Анисья Григорьевна:
– Все мои заботы в прошлом: война, голод. Потом боялась, что не прижиться здесь. А вот в прошлом году посадили яблоню. Принялась…
Саша:
– Тянет домой, на родину. Хоть и красив Ленинград, и учеба интересна. Вчера сдал последний экзамен и вчера же был уже в аэропорту.
Таня:
– Скоро кончаю школу, а куда идти, не выбрала. В институт боюсь, а в техникум… не знаю.
Младшенькая Люба на вопрос, сколько лет, показывает четыре пальчика. Никаких проблем: в отличие от своей старшей сестры твердо знает, что станет учительницей.
Водопроводная, 5. Здесь хозяева молодые. Стремяков Анатолий, уже знакомый мне электромеханик АТС.
Жена Стремякова Валентина, продавец. Оба с 1939 года. Вспоминают: три года сидели в школе за одной партой, а как получили аттестаты зрелости, тут же поженились. Трое детей: Алеша, Наташа и Нина.
Здесь разговор идет под перекрестным огнем. Спрашиваю Анатолия, где сейчас учится?
– Лодырь! Со второго курса института сбежал! Пропишите его! – отвечает за него Валентина.
– Ну а дальше? Есть какие-то планы, цель?..
– У него-то?! – не унимается Валентина. – Сейчас никакой. Завели скотину, и никакой учебы… Ведь это подумать только, со второго курса сбежать!
– Пока придется подождать, – робко защищается Анатолий. – Жил бы в городе, скотину не держал. А ей время надо…
– Время ему надо! Посмотрите на него. Как учился, забыл?! Двое ребят, 70 рублей на всех. В Новосибирск сдавать ездил – было время. Просто уж скажи, что лихо!
– Пусть так. Я ждал, что откроют филиал института в Свердловске. Можно было бы…
Беру под защиту хозяина, перевожу разговор:
– А у вас, Валентина, какие планы?
– Чтоб дети выросли… Получше отца, не отступались чтоб… – никак не унималась жена Анатолия.
Но смотрела она на мужа ласково.
А сейчас Водопроводная, 7. Я уже знаю, что здесь живет хорошо известный в совхозе человек, Дмитрий Васильевич Моисеев. В «Большевике» с первых дней. Несколько лет возил начальника политотдела Булыгина, того самого, о котором не раз говорилось в директорских приказах. Как началась война, ушел на фронт…
– Начал под Москвой. Потом попал под Харьков. Из-под Харькова – под Сталинград. Там мы и расхлестали немца. Затем…
Дмитрий Васильевич достает медали и благодарности Верховного Главнокомандующего за взятие Ростова, Бреста, Кенигсберга, Берлина.
Две Европы прошел, советскую и «несоветскую», с винтовкой и боями рядовой Моисеев. Закончил в Берлине и там, на рейхстаге, огрызком синего карандаша утвердил не только на обе Европы, на весь мир: «ДМИТРИЙ МОИСЕЕВ ИЗ СОВХОЗА «БОЛЬШЕВИК».
Старого солдата, штурмовавшего рейхстаг, Дмитрия Моисеева волнует сейчас больше всего то, что стали забывать имена тех, кто не вернулся.
– Пусть их фамилии будут на памятном обелиске в родном селе. Это дороже, чем на рейхстаге…
В каждом доме, у каждой семьи, у каждого человека свои заботы, своя судьба, свои проблемы. Токарю Ивану Серебренникову, например (Водопроводная, 6), надо непременно весной подвести под свой дом фундамент и, наконец, собраться, чтобы навестить в больнице старого учителя, мастера Петра Федоровича Николаева. У его одногодка, электромеханика Марата Романова на носу экзамены, он заочно учится на 3-м курсе Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Но убивается Моисеев не о том:
– Раньше, вот в первые годы после войны, молодежь жила, по-моему, интереснее. В клубе собирались каждый вечер. После работы запряжем, бывало, бычков и в лес за дровами. Для клуба сами топили печи. «Без вины виноватые» играли, «Медведя» ставили. А сейчас что-то не видно молодежь. Или лучше, легче жить стали, так от этого? Телевизоры у каждого в доме, зачем в клуб идти?
Эти сетования крутогорцев прокомментировали мне так в райцентре Шумихе.
– Проблем деревне никогда занимать не приходилось, – высокий и седой не по годам Николай Иванович Голядкин, первый секретарь Шумихинского райкома партии, спокойно улыбается.
– Возьмите хотя бы вот такую, как проблему неиспользованного, неучтенного, а часто не поддающегося учету времени в крестьянском труде. Но для нас острее всего те из них, которые надо решать сегодня, немедленно, – и он показал на подробную схему на стене. – Вот это, если можно так выразиться, «график настроения».
«График настроения» представлял собой четкий план ремонта и строительства в районе животноводческих помещений, причем конкретно не только по каждому хозяйству, но и отдельно по каждой ферме.
– Вот в этот узелок и сходятся сегодня все ниточки: и текучесть кадров, и миграция, и заработок, и свадьбы – все наше настроение здесь.
Я перевел разговор на совхоз «Большевик».
– А, «Большевик»? – Он задумался. – Снова на него делаем ставку. Трудная задача у него будет. Что такое образцово-показательный опорный совхоз? Это значит, мы его запустим годиков на пять – десять вперед, будем экспериментировать, пробовать на нем новые системы и приемы, учиться на его удачах и промахах. Это будет наш головной отряд и в селекции, и в организации. Аплодисментов достанется ему, видимо, меньше, чем шишек (кто идет впереди – больше рискует), но наш «Большевик» уже проверен – он был первым молодежным образцово-показательным хозяйством, на которое равнялся не только Урал в первые годы коллективизации…
Да, у каждого человека своя судьба и свои планы – у Дмитрия Дмитриевича Пономарева, торопящегося после трудных школьных часов на беседу в клуб, у Анатолия, который ждет, когда откроется филиал института в Свердловске, у его жены Валентины, мечтающей, чтоб ее дети пошли в настойчивости к жизни дальше своего отца; у секретаря райкома, утвердившего для себя «график настроения», и даже у Ивана Серебренникова, торопящего весну, чтоб подвести под дом новый фундамент, – у всех у них есть одно общее, один фундамент, на котором строятся и благодаря которому только и могут исполниться их планы, – это хлеб.
«…Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба»[11]11
Достоевский Ф. Братья Карамазовы, т. 9, с. 314.
[Закрыть]. Так сказал Ф. М. Достоевский…
ЖАВОРОНКИ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ
С той встречи не был я в Крутых Горках давненько. Конечно, не забыл, копался в многочисленных материалах, которые мне удалось собрать. Осмыслить хотел их незаметную, но по-настоящему историческую судьбу. Люди «Большевика», которых я уже узнал, не давали покоя. И вот я снова в Крутых Горках как в своем родном селе.
– А вот и Крутые Горки, – Сережа, молоденький шофер из райкома комсомола, дал по тормозам.
В другое время он мог бы и не объявлять об этом. Но в степи было уже темно и по огням узнать даже знакомое место дело бесполезное.
Знакомое…
Крутые Горки я знаю уже больше десяти лет. И историю совхоза «Большевик», первого в стране и на Урале «опытно-показательного молодежного зерносовхоза», созданного по решению Бюро ЦК ВЛКСМ в 1931 году, хоть худо-бедно, изучил. Да и места здешние мне уже хорошо запомнились. Без всяких усилий, стоит только закрыть на миг глаза, увижу и бело-зеленые березы под Дубровным, и прозрачную, как в лесном ручье, воду Жужговского озера, и строгие карагачи в сквере у совхозного клуба, и строптивый в половодье Миасс. Но больше всего, конечно, волновала радость предстоящей встречи с крутогорцами. Представляю: торопится, как всегда, куда-то по агрономским делам Володя Асямолов и хлопает на ходу голенищами своих «вечных» резиновых сапог, пылит посередине улицы на мотоцикле инженер-связист Толя Стремяков. Все это отчетливо вижу и представляю. И то, как директор Григорий Тимофеевич Хохлов протянет при встрече лодочкой широкую ладонь и, вздохнув, скажет несердито: «А мы вот, брат, работаем…»
Но день давно уже угас, и улица была пустынна. Гостиницы в Крутых Горках раньше не было, и я попросил Сережу помочь мне отыскать дом Анатолия Стремякова.
Во дворе Стремяковых нас встретила незлобным лаем маленькая собачешка. На голос ее вышел хозяин и пригласил в дом.
– Долго же вы собирались к нам, – здороваясь, ласково упрекала Валентина, жена Анатолия.
А Анатолий совсем не изменился, будто и не было этих трех лет с последней нашей встречи. Все такой же подтянутый, улыбчивый и спокойный.
Валентина тут же принялась хлопотать на кухне, а Анатолий, отобрав у меня плащ, потянул в комнату.
Времени, как всегда в командировке, было в обрез, и я попросил хозяина, прежде чем сядем ужинать, проводить меня к парторгу. «Э, да успеется», – махнул он беззаботно рукой. Но мне в самом деле надо было увидеть парторга, чтоб договориться о завтрашней встрече. А то завтра ищи-свищи ветра в поле: со дня на день должны выезжать в поле, последние дни апреля.
Уговорил-таки.
– Ладно, познакомлю я тебя с парторгом. Вот только переоденусь: парторг все-таки, неловко к нему идти домой в нерабочее время растрепой.
Какие вопросы, конечно! Я был рад, что Анатолий быстро согласился со мной, и не без внутреннего уважения отметил его естественную тягу к аккуратности.
Минут через пять он вышел из спальни. Не узнать – дымчатый новенький костюм удивительно четко подчеркивал его спортивную ладную фигуру, лилового цвета галстук с широким узлом был свеж как утро, а накрахмаленный воротничок белой сорочки явно подчеркивал здоровый степной загар лица. И глаза были по-весеннему светлы и сини.
– Ну жених! – не мог я скрыть столь приятного превращения. – Ну кавалер!.. Сейчас хоть к первому секретарю райкома.
А Анатолий этак хитро улыбнулся и протянул мне руку.
– Что ж, будем знакомиться: Анатолий Федорович Стремяков, секретарь партийной организации совхоза «Большевик».
Тут даже Валентина не выдержала, выглянула из кухни:
– Толь, хватит представляться! Давайте за стол, у меня уже все готово.
За три года, как я не был в Крутых Горках, новостей накопилось много. Правда, для Анатолия Федоровича это, собственно, уже и не новости. Третий год подряд коммунисты избирают Стремякова своим парторгом. А должность его, известно, хлопотна и ответственна.
Впервые избрали Стремякова секретарем в самый канун партийного съезда. Время сложное – готовилась перестройка сельского хозяйства, село брало курс на специализацию.
– Сейчас вот уже определились, все стало на свои места. А поначалу шарахались из стороны в сторону. И мы шарахались, и нас шарахали. За три года трех «хозяев» сменили. Первым стало производственное объединение совхозов. Недолго под ним походили, скоро совхоз передали в подчинение зернотресту. А сейчас вот, и это, видимо, окончательно, мы вошли в трест Свинпром. Конечно, соответственно и специализировались на производстве свинины. В прошлом году, например, произвели около 20 тысяч центнеров. Ну а к концу пятилетки поголовье свиней увеличим почти в 2 раза. Уже сейчас вовсю строим свиноводческие фермы…
Анатолий вдруг спросил меня:
– А ты ничего не заметил? Нет? Мы ведь в другом, новом доме живем.
Где там, в темноте заметишь, конечно, даже внимания не обратил. А он оживился:
– Помнишь, когда ты последний раз приезжал к нам, тогда у нас худо было с людьми, не хватало хлеборобов. Особенно в страду. Как уборка, так в район за помощью. Сейчас у нас полностью свои, собственные кадры. Только коммунистов 107 человек, а молодежи в возрасте от шестнадцати до тридцати больше двух с половиной сотен, и из них каждый третий комсомолец.
И вот возникает вопрос…
– Да, именно это я и хотел спросить, – перебил я Анатолия.
– …как мы решили проблему с кадрами, почему молодежь у нас не только остается, но и приходит еще со стороны и оседает здесь?
Тут я слыхал много споров об этом и дискуссий разных. Все верно: вопрос этот заглавный. Но часто объясняли его, извините, несерьезно. Комсомольцы, к примеру, все на клуб валили. Ну, не прямо на клуб, а на то, что самодеятельность организовать трудно, не желает, мол, молодежь петь в хоре и все тут. Пассивная она у нас, хоть что хочешь! Пробовали мы комсомольскому комитету помочь, говорили парням, что вы, дескать, на концерт не идете, агитбригада из Шумихи приехала. А они: «Сегодня в это время по телевизору Райкин выступает!» Лектора из райцентра пригласили, о международном положении читать будет. А тут, как на грех, Валентина Зорина по тому же телевизору показывать обещали. Ну а в хоре петь – совсем гиблое дело…
Старик Чиняев Григорий Фролович однажды по этому делу очень резонно мне объяснил: «Силком мил не будешь. Хоть сто раз записывай в хор, не пойдет никто. Надо, чтоб человеку хотелось петь… Санька вон третий год угол снимает. А ты петь. Тут запоешь, только не те песни. А еще удивляешься: молодежь не держится…»
Конечно, Фролович Америки для нас не открыл. И без него мы все это прекрасно понимали, но все заедала текучка. У нас же практически круглый год страда. Однако планы пересмотрели. И вот за эти три года построили два шестнадцатиквартирных дома. Со всеми удобствами – вода, газ, канализация. Новую баню отгрохали. Для «кировцев» (их у нас тогда было 12, а сейчас 20) теплый гараж соорудили. Одним словом, создали, как это пишется в протоколах, все «нормальные жилищные, бытовые и производственные условия».
И все наладилось. Не сразу, не вдруг, но все пошло, как говорят, путем. Уже в прошлом году наша самодеятельность первое место взяла в районе. Баян нам тульский как премию дали. Совхозное руководство и местком на радостях, раз толк есть, дополнительно денег выделили. И наш комсомольский секретарь Клава Москаленко с «клубарем» Галей Токаревой тут же ими распорядились: купили музыкальные инструменты для оркестра, костюмы для постановок… – И, хитро улыбаясь, добавил: – Сам готов идти в самодеятельность, принца какого-нибудь или космонавта играть…
– А тракториста не хочешь?
– Тракториста?! Да я его каждую уборку играю. Причем не на сцене, а в естественной обстановке. Не каждый день, конечно, – райком не пустит на всю уборку на трактор.
В коридоре загрохотали сапоги, раздался приглушенный разговор, и в комнату, щурясь от света, зашел высокий длинношеий парень. Анатолий повернулся в мою сторону:
– Не узнал? Сын, Алексей. Тогда он совсем еще шкет был. А сейчас вот в техникуме связи учится. По стопам отца пошел…
– Да ладно, пап, – смущаясь, отмахнулся Алексей.
– Наташка седьмой заканчивает, а Нина уже в четвертый ходит.
Вошла Валентина.
– Толь, ты что, забыл? Тебе еще готовиться надо. Да и гость с дороги поди устал.
Анатолий засуетился:
– Извини, забыл. Давай укладывайся. А я малость посижу: завтра открытое партсобрание по севу…
УТРО
Утром меня разбудил треск мотора. Шум его во дворе, под окном напоминал работу бензопилы. Я взглянул на свои часы – было 4 утра. Но вовремя вспомнил, что это в Москве четыре. А здесь уже шесть. Спать не было смысла. Я наскоро оделся и собирался выйти во двор, когда вдруг услышал, что звук у мотора удаляется. Во дворе были видны следы не то мотороллера, не то мотоцикла – сломан тонкий ледок и чуть заметны отпечатки мелкого протектора. Однако заметил, что мотороллер стоял во дворе, приткнувшись к стене.
А вот и снова послышался знакомый трескучий звук, и вскоре во двор вперевалочку вкатилось сооружение на трех колесах с прицепом.
Право, пролетарскому слесарю-интеллигенту из «12 стульев», соорудившему свою «Антилопу Гну» из частей велосипеда, примуса и швейной машины «Зингер», было далеко до стремяковского «изобретения». Сам Стремяков, поставив на вертикаль рычаги, заглушил моторчик и слез с седла.
Сравнить «механическую телегу» Стремякова не с чем. Надо ее видеть. Представьте небольшую металлическую раму на трех мотороллерных колесах. В середине ее открытый движок типа «ЗИФ», впереди седло для водителя. Руля, в обычном понятии этого слова, нет. Есть два длинных рычага. Как у трактора.
– И что же это за механика? Турболет?
Анатолий довольно улыбается:
– Если винт сверху приспособить, будет и турболет. А вообще это грузовой мотороллер. Вот вожу, когда отключается водопровод, воду. Могу подбросить любой груз – дровишки, кирпич, навоз в огород. А главное ее (а может, его) назначение – сенокосилка. Нацепил ножи – и пожалуйста – сенокось!
– И все это смастерил сам?
– А кто же еще? Конечно, сам.
Хитро этак улыбается:
– А хочешь узнать, почему я сочинил эту штуковину? Вот отчего, а? – допытывался он, хитро улыбаясь. А потом, выждав, признался: – От лени. Ей-богу, от лени! Надоело литовкой махать, руки и поясницу ломать (а у нас в хозяйстве своем как-никак корова и теленок, скотину кормить надо), вот и засел за железяки, стал голову ломать. И сделал. Отсюда делаю вывод: лень – двигатель прогресса!
Смеется, потом серьезно заключает:
– Времени, брат, не хватает. Сенокос пора горячая, спрашивают меня, то есть парторга, каждый день, везде нужен. А я, значит, как раньше бы было, неделю в это время косой должен махать. Не дело. И корову без корма оставлять нельзя. Вот и смастерил косилочку. Полтора метра захват. Ничего, да? Сейчас управляюсь с сенокосом за день.
Правда, теперь, особенно после речи Леонида Ильича на XVI съезде профсоюзов, к личному хозяйству селян отношение со стороны хозяйственников стало доброе – сено дают и соломы, комбикорма выделяют. В первую очередь, конечно, механизаторам и тем, кто непосредственно занят на полевых работах, а особенно на уборке. А личное хозяйство, известно же всем, это такой резерв!..
Удивительно мастеровой народ в Крутых Горках! Да и не только на центральной усадьбе, но и на отделениях – в Комсомольском, Котлике, Дубровном, Красном Холме.
Любопытная деталь: в каждом доме здесь (это естественно) телевизор и на каждой крыше не встретишь ни одной одинаковой телевизионной антенны – все разные.